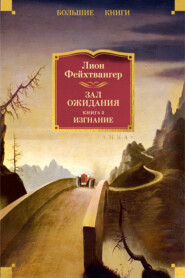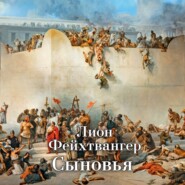По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семья Опперман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Надо было бы, надо было бы, – издевался Мартин. – Он должен это сделать. Мне тоже приходится делать многое, что мне не по душе, – повторил он зло, упрямо.
– Давайте не будем сейчас ничего решать, – просила Лизелотта. – Отложим на утро, – просила она. – Никто не станет тебя принуждать, – обратилась она к Бертольду. – Против воли ничего не делай, мой мальчик.
После вспышки Мартин сел. Губы его были крепко сжаты. «Власяница и пепел, – неслись в нем обрывки мыслей, – Каносса, Иов. Надо было отложить этот разговор на завтра». Он посмотрел на сына, на жену каким-то пустым взглядом.
– Мне понадобилось сорок восемь лет, – сказал он наконец, – пока я понял, что собственное достоинство иногда обходится слишком дорого. Тебе семнадцать лет, Бертольд. Я говорю тебе – это так. Но я не требую, чтобы ты верил мне. – Он говорил спокойно, но слова его звучали, как заунывная жалоба. Из них точно ушла жизнь, и сам он, массивный, тяжелый, казался таким безжизненным, что Бертольд и Лизелотта испугались этого больше, чем недавней гневной вспышки.
На следующий день утром, без пяти минут одиннадцать, Мартин Опперман сидел на третьем этаже мебельного магазина «Генрих Вельс и сын».
Вельс пригласил его на одиннадцать часов. Он не сам подошел к телефону, а велел передать через служащего, что Мартин может прийти в одиннадцать. Мартин явился без пяти одиннадцать.
Его не провели в приемную, а предложили ждать в помещении магазина. На третьем этаже было просторно, много воздуху, необычайно чисто. В магазине «Генрих Вельс и сын» царил порядок. У Мартина Оппермана оказалось достаточно времени, чтобы установить это обстоятельство, ибо его заставили долго ждать.
Он сидел на стуле, пожалуй, слишком маленьком для его грузного тела. Сидел прямо, в некрасивой позе, стараясь неподвижно глядеть вперед, не поворачиваясь ни вправо, ни влево. Покупателей было очень мало. Тем не менее вокруг Мартина царило большое оживление. Служащие бегали взад и вперед, делая вид, будто чем-то заняты. Они с любопытством разглядывали владельца мебельной фирмы Опперман, который сидел и ждал, пока господин Вельс его примет.
Мартин Опперман все видел, но он не желал ничего видеть, он сидел неподвижно.
Он посмотрел на часы. Ему казалось, что уже двадцать минут двенадцатого, а было только шестнадцать минут двенадцатого. У него были красивые, тяжелые, золотые часы; он получил их от деда Эммануила в день своего тринадцатилетия, когда его впервые вызвали к торе. «Немецкая мебель» обзавелась, конечно, новой торговой маркой, портрет старого Эммануила исчез с фирменных бланков. Новая марка сделана очень красиво, Клаус Фришлин заказал ее первоклассному художнику. Но красивые марки имеются на бланках многих фирм.
Теперь, должно быть, уже двадцать пять минут двенадцатого. Нет, двадцать одна. Только бы сидеть прямо, не опускать головы. Бертольду придется тяжелей. Ему, Мартину, приходится только сидеть. А мальчик его должен стать перед товарищами и сказать: «То, что я выдавал за правду, – ложь. Я лгал». Одиннадцать часов тридцать минут. Мартин подзывает ближайшего служащего и просит напомнить господину Вельсу, что он его ждет.
В одиннадцать часов сорок минут господин Вельс велит просить его. На господине Вельсе форма штурмфюрера, со звездами, аксельбантами, пряжками.
– Я заставил вас долго ждать, Опперман, – начал он. – Политические дела, знаете ли. Надеюсь, вы понимаете, Опперман, что в наше время политика на первом месте?
На деревянном, в жестких складках лице Вельса играла тонкая, острая усмешка, и говорил Вельс тоном начальника с подчиненным. Ему хотелось до конца насладиться своим торжеством. Мартин сразу увидел это. «Опперман», назвал его Вельс. Он нанес Мартину удар. Но удар имел и другое действие: в то же мгновенье Мартин извлек из своего сознания все, что ему подсказывал инстинкт дельца, быстрая коммерческая сметка. Этот человек, этот тупой негодяй, хотел его унизить. Он вынужден пропустить его наглость мимо ушей, вынужден пренебречь достоинством, на страже которого стоял сорок восемь лет. Такой уж выдался этот месяц февраль в Германии. Хорошо, он пренебрежет своим достоинством. Но он потребует за это платы. «Опперман», назвал его этот негодяй. Хорошо, он пойдет на это, он не будет впредь «господином Опперманом». Он и на большее пойдет. Но все будет занесено на ваш счет, господин Вельс.
– Конечно, господин Вельс, – сказал он учтиво.
Он все еще стоял.
– Ваш доверенный Бригер сообщил мне о вашем предложении, Опперман. – Мартин стоял. – С вашим господином Бригером легче столковаться, чем с вами, Опперман. Но я знаю по опыту, что потом возникают всякие «недоразумения». Я хотел избежать их. Потому я и вызвал вас. Садитесь, пожалуйста.
Мартин послушно сел.
– Вам ясно, что имя Опперман и все, что только напоминает его, должно исчезнуть. В обновленной Германии нет места оппермановской мебели. Понятно вам?
– Конечно, господин Вельс.
Мартин Опперман понимал все, что хотелось господину Вельсу. «Да, господин Вельс», «конечно, господин Вельс» непрерывно слетало с его губ, а когда господин Вельс сухим голосом мрачно острил, Мартин улыбался. В одном только случае он долго не уступал. Это когда господин Вельс потребовал, чтобы и магазин Опперманов на Гертраудтенштрассе перестал существовать как оппермановский и чтобы главная контора «Немецкой мебели» перешла сюда, к господину Вельсу, в его главный магазин. Мартин очень вежливо попросил не включать магазин на Гертраудтенштрассе в акционерное общество «Немецкая мебель». Этот небольшой магазин Мартин будет вести сам, он никак не может составить конкуренцию мощному объединению. «Чванливая сволочь», – подумал господин Вельс. Ясно было, что Опперман прав, что действительно сохранение оппермановского магазина на Гертраудтенштрассе было только дорогостоящей роскошью, которую хотел доставить себе Мартин Опперман. Но даже этого Вельс не желал ему разрешить. Он властно настаивал на своем, а Мартин очень вежливо не уступал. Мартин скромно привел довод, который не мог не убедить Вельса. Если сохранится хотя бы один оппермановский магазин, пояснил Мартин, то никто не сможет счесть всю эту операцию вынужденным мероприятием, темной сделкой. После длительных переговоров пришли к соглашению, что главный магазин на Гертраудтенштрассе до 1 января останется за Густавом и Мартином, а потом либо ликвидируется, либо перейдет в фирму «Немецкая мебель».
– Ясно, Опперман? – спросил господин Вельс.
– Конечно, господин Вельс, – ответил Мартин.
Стали обсуждать детали. На очереди стоял сложный вопрос о степени участия Опперманов в управлении и прибылях нового общества «Немецкая мебель». И тут Мартин с глубоким внутренним удовлетворением почувствовал, что он в ударе. Для каждого спорного случая он находил разрешение, гораздо более изобретательное и дальновидное, чем то, что предусматривал общий, весьма продуманный наказ профессора Мюльгейма. Условия Генрих Вельс ставил возмутительные. Но он растратил свою энергию на наглые требования чисто формального порядка и теперь, обессиленный, не замечал ловушек в податливых сложных предложениях Мартина. С дурацким высокомерием шел он теперь на уступки.
Покончив с административными и финансовыми вопросами, он опять напустил на себя важность. Сколько лет подряд Мартин Опперман заставлял его глотать горькие пилюли, так пусть же он почувствует, что теперь Генрих Вельс наверху, что сам он всецело в руках у Генриха Вельса.
– «Кто покупает у Опперманов, покупает хорошо и дешево», – издевался Генрих Вельс. – Все определялось этим «дешево». В «Немецкой мебели» ударение будет перенесено на «хорошо». Ваша «дешевка» навсегда исчезнет из ассортимента нового предприятия, – резко, грубо рубил он, заключая разговор. – Новая Германия не потерпит дерьма, «тинефа», выражаясь вашим словечком. Мы будем торговать дорого, но солидным товаром.
«Дурак, идиот, ничтожество, безмозглая башка, коричневорубашечник», – думал Мартин.
– Конечно, господин Вельс, – поддакивал он.
После ухода Мартина Вельс еще долго сидел за столом. Машинально ощупывал он звезды и аксельбанты своей коричневой формы. Он был доволен собой. Он задал как следует этой чванливой сволочи. Приятно видеть противника поверженным в прах, чувствовать, как попираешь ногами его затылок. Ему долго пришлось ждать, почти до старости, но у него еще достаточно сил, чтобы полностью насладиться унижением врага. Наконец-то. Порядок снова воцарился в мире. Звезды и аксельбанты его коричневой формы получили смысл. Прирожденные господа сидят там, где им полагается, а выскочки валяются у них в ногах, покорно выслушивая законы, которые диктуют им господа. Как он умеет быть вежливым, этот Мартин Опперман. «Да, господин Вельс, конечно, господин Вельс». Смирение, вежливость этих слов утешительной музыкой будут звучать у него в ушах даже на смертном одре. Он вспомнил день, когда Мартин Опперман измывался над ним там, на Гертраудтенштрассе: «Как бы вы не просчитались, господа хорошие», – подумал он тогда в лифте. Он и сейчас еще до малейших подробностей помнит этот лифт и физиономию мальчика-лифтера, который удивленно посмотрел на его помрачневшее лицо. Ну, вот господа хорошие и просчитались, и ничто теперь не омрачает больше его лица.
После пережитого напряжения Мартин, к удивлению своему, не чувствовал себя разбитым. Он сидел в своей машине, он ехал на Гертраудтенштрассе, перед ним была широкая спина Францке. Он сидел, может быть, не так прямо, как всегда, но все-таки прямо, и с губ его не сходила полубессознательная довольная улыбка. Да, он был доволен. Год, а может быть, и несколько лет, он плохо устраивал свои дела. На его месте Эммануил Опперман давно бы уже отправил свою семью в надежное место, перевел деньги куда следует, а дело бы ликвидировал. Но сегодня Эммануил Опперман остался бы им доволен. Несомненно, Генрих Вельс, это ничтожество, уверен, что одержал огромную победу. Но его победа похожа на победы немцев в мировую войну. Они побеждали, а противники выигрывали. «Конечно, господин Вельс!» Мартин улыбнулся.
Он сейчас же сел за стол и письменно оформил соглашение с Вельсом. Вызвал Мюльгейма. Многие пункты, мгновенно придуманные Мартином во время разговора с Вельсом, были так тонко составлены, что даже Мюльгейм не сразу мог охватить их со всеми вытекающими из них последствиями. Это доставило Мартину большое удовольствие. Он подписал соглашение и послал его для подписи Вельсу.
Нелегко было привыкнуть к мысли, что отовсюду исчезнут портреты Эммануила Оппермана, имя Опперман. Однако еще в тот же день он сам занялся этим делом.
Он вызвал к себе господина Бригера и господина Гинце и продумал с ними технику его осуществления. Мрачный, чрезвычайно прямо сидящий Гинце предложил вместо портрета Эммануила Оппермана повесить портрет Людвига Оппермана, одного из братьев, убитого во Франции в 1917 году.
– У этих бандитов сохранилось некоторое уважение к подобным вещам.
В последнее время и господин Бригер и господин Гинце замечали, что Мартин Опперман перестал гордо замыкаться в себе, ограждать себя неприступной стеной. Но тут вдруг в нем проснулся прежний Мартин. Он-искоса взглянул на господина Гинце.
– Нет, Гинце, – холодно отрезал он тоном, не допускающим возражений. – Именем брата я не покупаю себе никаких поблажек.
Вечером он собственноручно, хотя в том не было никакой нужды, снял со стены рамку с грамотой фельдмаршала Мольтке, тщательно завернул ее в бумагу, бережно перевязал веревочкой и взял с собой. Когда он выходил, старый, хмурый швейцар Лещинский открыл рот, чего никогда до сих пор не случалось, и сказал:
– До свиданья, господин Опперман.
Удовлетворенность достигнутым деловым успехом, за который было так дорого заплачено, дома быстро испарилась. Мартину всегда стоило большого душевного напряжения сообщать родным какие-либо неприятные новости. Но перед грандиозностью и жестокостью того, что теперь на них обрушилось, рухнуло даже его постоянное стремление сохранить самообладание и достоинство. Такую огромную боль нет надобности скрывать. Можно кричать обнаженно, бесстыдно. Он просил родных собраться у него вечером, и они пришли.
Он сообщил о соглашении с Вельсом. Он не рассказал об унижении, которым ему пришлось заплатить за достигнутый успех. Но никто не понял, в чем сущность этого успеха. Ясно было одно: мебельная фирма больше не существует. Один лишь Жак Лавендель понял его.
– Мазельтов, – поздравил он Мартина и взглянул на него приветливо, от всей души одобряя его. – Это у вас великолепно вышло, Мартин. Чего вы хотите? Сначала дело грозило крахом, а теперь все пойдет как по маслу или по крайней мере как по маргарину.
Но бодрого тона Жака никто не поддержал. Правда, Мартин попытался довольно горько пошутить; портрет деда висит у Густава, зато он, Мартин, обеспечил себе для украшения своей квартиры письмо Мольтке. Но вскоре, перед лицом общей подавленности, радость Мартина по поводу его успеха у Вельса окончательно испарилась.
И вот они, Опперманы, сидят вокруг большого круглого стола времен Эммануила Оппермана, вокруг старого солидного стола орехового дерева, сработанного под личным наблюдением Генриха Вельса-старшего. Со стены смотрит на них портрет деда Эммануила. Со дня рождения Густава, когда все Опперманы собрались на Макс-Регерштрассе, они не были вместе. Они были тесно спаяны друг с другом, это чувствовалось, и портрет Эммануила был частью их семьи. Но эта спаянность Теперь, пожалуй, самое ценное, чем они владеют, единственно прочная ценность. Все остальное уплывало, ускользало из-под ног.
Жак Лавендель снова тщетно попытался подбодрить их иронической шуткой, но скоро и он поддался общему настроению.
Несколько минут эти большие, крепкие люди сидели молча. Густав не сиял, как обычно, Мартин забыл о самообладании и достоинстве, Эдгар – о своем несокрушимом оптимизме, Жак Лавендель – о своем жизнерадостном скепсисе. Они были сильные люди, знающие а одаренные, способные выдержать натиск врага, жестокий удар судьбы. Но теперь они сидели, потеряв уверенность, подавленные, опечаленные, ибо они чувствовали всем сдоим существом: то, что их ждало впереди, не было единичным нападением врага или единичным ударом судьбы. Это было землетрясение, разгул концентрированной, бездонной, как океан, человеческой глупости. И что могут сделать силы и ум отдельного человека перед лицом такого стихийного бедствия?
После коротких прений в футбольном клубе мальчики постановили исключить Бертольда. Они сделали это очень неохотно. Не только потому, что с уходом Генриха матч с гимназией Фихте был обречен на неудачу, но и потому, что они считали Бертольда хорошим товарищем. Они сами толком не знали, за что, в сущности, они его преследуют.
Генрих Лавендель был взбешен. Бертольд, по его мнению, вел себя, правда, немножко глупо – на его месте Генрих отрекся бы от своих слов, – но зато в высшей степени порядочно. Если бы Генриху надо было привести пример героизма, он указал бы на Бертольда. Задают сочинения на темы о конфликтах с совестью у Валленштейна, у Торквато Тассо[44 - Валленштейн Альбрехт, герцог Фридландский (1583–1634) – в пору Тридцатилетней войны командующий императорской армией, герой одноименной драматической трилогии Шиллера. Шиллер показывает Валленштейна в тот момент, когда под влиянием честолюбия он собирается изменить императору, но никак не может на это решиться. Нерешительность губит Валленштейна. Тассо Торквато (1544–1595) – знаменитый итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», герой одноименной драмы Гете. Гете показывает, как пылкая, страстная душа поэта вступает в конфликт с трезвой житейской мудростью и разумной умеренностью.]. Вздор, милостивые государи. Настоящие проблемы здесь, у вас на глазах. Как следует поступать, умно или порядочно? Какой-то француз из классиков сказал: «Если бы меня обвинили в том, что я положил в карман и унес собор Парижской богоматери, я немедленно пустился бы наутек». Поведение, рекомендуемое этим французом, умно. Генрих тоже ведет себя умно. Он и не помышляет больше о том, чтобы разоблачить этого сопляка, этого сумасшедшего дурака – Долговязого. А Бертольд, наоборот, поступает порядочно: он не отрекается от своих слов. В двадцатом веке умом, несомненно, добьешься большего, чем порядочностью. Однако Бертольд внушает ему уважение, он очень любит Бертольда.
С горечью смотрел Генрих на-растущую изолированность своего друга и родственника. Исключив Бертольда из футбольного клуба, мальчики уже не могли этим ограничиться. Раньше только «Молодые орлы» принципиально не разговаривали с Бертольдом, теперь же мало-помалу к ним присоединялись остальные.
Бертольд бродил замкнутый, молчаливый. Стал плохо спать. Как-то вечером, после ужина, Лизелотта сказала ему:
– Я заметила, что у тебя по ночам горит свет, Бертольд. Не попробовать ли тебе принять снотворное? Если бессонница будет очень тебя донимать, возьми что-нибудь в домашней аптечке.