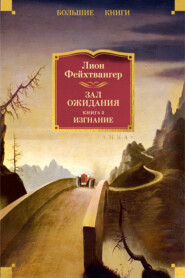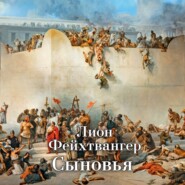По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Москва Сталинская
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мориак. Этюды о Мольере и Руссо.
Скорей искусны, чем справедливы.
Тяжесть Истины портит чувствительную пружину весов.
Всюду и всегда он находит то, чего искал, и только то, что хотел найти.
«Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел», т. е. «Ты бы не нашел меня там, если бы ты меня туда не поместил».
Французская литература гораздо более старается признавать и изображать человечество вообще, чем человека в частности. Ах, если бы Бэкона взамен Декарта! Но картезианство не было обеспокоено мыслью «У каждого свой нрав», и в конечном счете у него было мало любознательности. Так называемые чистые науки предпочитались наукам естественным. Бюффон – и тот плохой наблюдатель.
Мысль о том, что надо идти от простого к сложному, что можно строить выводы дедуктивно; обманчивая вера в то, что созданное умом равноценно многосложности природы; что конкретное можно вывести из абстрактного…
Лансон в прекрасной работе о влиянии картезианства приводит удивительное признание Монтескье:
«Я видел, как частные случаи, словно сами собой, совпадали с предложенными мной законами… Когда я раскрыл эти законы, все, что я искал, предстало передо мной». Значит, он искал лишь то, что было заранее им найдено. Потрясающая ограниченность. А наряду с этим – восхитительная фраза Клода Бернара, не помню где мною записанная; поэтому привожу ее заведомо неточно, расширяя ее смысл: «Исследователь должен гнаться за искомым, не забывая следить за тем, чего он не ищет; то, что он увидит неожиданно, не должно захватить его врасплох». Но картезианец не допускает возможности быть захваченным врасплох. Иначе говоря, он не допускает для себя возможности чему-нибудь научиться.
Из письма М. Ар.:
«Вчера вечером прочел в „Горе“ Мишле: „они хохочут над Ксерксом, влюбленным в платан“, четверть часа спустя – У Дона „Ксеркса странная лидийская любовь – платан“».
«Это тем более любопытно, – добавляет М. Ар., – что в тексте Геродота нет и намека на любовь».
А с другой стороны, Мишле не мог знать Дона. Где же источник, откуда оба черпали?
Чванливость всегда сочетается с глупостью. Многие плохие писатели современности потому самодовольны, что они не способны понять всего, что выше их, оценить по заслугам великих писателей прошлого.
Не считаться с самим собой в течение дней, недель, месяцев. Потерять себя из виду. Идти туннелем в надежде увидеть за ним неизведанную страну. Боюсь, как бы слишком долгая работа сознания не связала чересчур логично будущее с прошлым, не помешала бы прошлому стать будущим. Превращения возможны только ночью, во сне; не заснув в куколке, гусеница не проснется мотыльком.
Мне важно не самому попасть в рай, а привести другого. Невыносимо то счастье, которым не с кем поделиться…
А что тогда сказать о счастье, обретенном за счет другого?
Торная дорога, конечно, всегда надежней. Но много дичи на ней не спугнешь.
Это Баррес завел такую моду. Его потребность всюду, без конца отыскивать назидание, «урок» – мне просто невыносима. Положение вассала, принижающее дух. Мы учимся у великих мастеров только тогда, когда они погружают нас в нечто вроде любовного экстаза. Те, что всюду ищут выгоды, подобны проституткам, которые, прежде чем отдаться, спрашивают: «Сколько заплатишь?».
Я хочу ощутить аромат каждого цветка, словно это лето для меня – последнее.
Рыбы, умирая, переворачиваются брюхом вверх и всплывают на поверхность: таков их способ падать.
Больше всего я ненавижу перевранные цитаты. Так можно заставить писателя сказать все, что угодно. Максанс, взваливая на меня ответственность за анекдот из «Фальшивомонетчиков» (который он, кстати, полностью извращает, сказав: «Мне рассказал этот анекдот один русский писатель», – не значит ли это, что он не читал книги и что его мнение основывается на слухах?), напоминает мне Ломброзо, который по «Неумелому стекольщику» Бодлера заключил о жестокости поэта: не заставлял ли Бодлер стекольщиков, – говорит Ломброзо, – подниматься на его мансарду, чтобы тут же выгнать их вон, расколотив вдребезги их товар за то, что у них не было розовых стекол?
Но из его заявления я привожу следующее:
«Ницше – враг мой, трогательный для меня тем, что даже в его отказе чувствуется страдание». Да, это верно; и то же самое – С.: они упрекают меня в безмятежности. Счастье, достигнутое не их путем, кажется им величайшим преступлением или, по меньшей мере, величайшей духовной скудостью.
Эм и m-ll Z. говорят о больницах, о безобразных тамошних злоупотреблениях, о скверной кормежке больных, о беззакониях, кумовстве и шантаже, которому подчас подвергаются несчастные больные со стороны сиделок. Однако раскрыть эти преступления значит – сыграть на руку «левым». И об этом помалкивают. И когда встречаешь в народе ужас перед больницей, он кажется – увы! – больше чем справедливым.
Помню, однажды я захотел навестить свою племянницу незадолго до ее конца, нанял авто.
– На улицу Буало, в лечебницу, – приказал я шоферу.
Тот спрашивает:
– Какой номер?
– Не знаю. Вы сами должны знать. Это – частная лечебница.
Тогда, повернувшись ко мне, он сказал, и в голосе его слышалось все: ненависть, презрение, насмешка, горечь.
– Мы знаем только Ларибуазьер.
Это невинное слово, произнесенное по-деревенски, нараспев, прозвучало похоронным звоном.
– Да полно, – ответил я ему, – сдохнуть везде одинаково можно: что в частной больнице, что в государственной…
Но его восклицания у меня по спине мурашки забегали.
М. Н. очень умен; чувствуется, что проблемы свои он подобрал по дороге. Он их не выносил и не родил в муках.
Мне стоит большого усилия убедить себя, что я теперь в возрасте тех, кто казался мне дряхлым, когда я был молодым.
О кровосмесительном характере теорий Барреса. По его мнению, нельзя, невозможно любить людей иной крови.
Баррес (я читаю теперь с ожесточенной усидчивостью второй том его «Дневников»), видимо, обеспокоен тем, что отец Шопена происходит из Нанта. (Я писал об этом несколько страниц; нужно их только найти и доразвить.) Он отмечает факт, чтобы тотчас о нем забыть. Как он ловко сам себя изобличает! То же самое и о Клоде Желэ, великом лотарингце.
Упорство, с каким он отстаивает абсурд, – вот что, может быть, больше всего и трогает в Барресе.
Но чтобы лианообразная мысль его могла вытянуться, ей необходима подпорка.
«…закон человеческого производства. Мы знаем, что энергия индивидуума есть не что иное, как сумма душ его покойников, и что она получается только благодаря непрерывности земного влияния».
И наивно добавляет:
«Вот где одна из основных идей, почти достаточных для оплодотворения ума, так часто возможно их применение». И действительно, вся работа его мысли заключалась в применении этой теории к отдельным случаям.
Нельзя твердо сказать, что эта теория ошибочна, но, как все теории, она, по прошествии определенного времени и сыграв раз навсегда определенную роль в прогрессе человечества, станет располагать к праздности и всячески тормозить его дальнейшее развитие.
И вдруг – поразительное признание:
«Лотарингия – могу ли я сказать со всей искренностью, что я ее люблю?..» Что он действительно любит, так это Толедо, Венецию, Константинополь, Азию.
«…Но она проникает в не принадлежащую ей жизнь мою и, может быть, завладевает ею. Не знаю, люблю ли я ее; но, войдя в мое существо через страдание, она стала одной из причин моего развития».
Лучше не скажешь. Он проявил здесь исключительную проницательность. И далее – на стр. 215:
«Моя любовь к Лотарингии досталась мне нелегко. В Лотарингии масштабы всегда ограничены. В десять, двадцать, тридцать лет я чувствовал себя так, как в ссылке. Я не переставал мечтать о Востоке. Мне всегда казалось, что в этих краях я люблю лишь землю мертвецов, кладбище, сновидения, места призраков, тайны и т. д.».
Скорей искусны, чем справедливы.
Тяжесть Истины портит чувствительную пружину весов.
Всюду и всегда он находит то, чего искал, и только то, что хотел найти.
«Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел», т. е. «Ты бы не нашел меня там, если бы ты меня туда не поместил».
Французская литература гораздо более старается признавать и изображать человечество вообще, чем человека в частности. Ах, если бы Бэкона взамен Декарта! Но картезианство не было обеспокоено мыслью «У каждого свой нрав», и в конечном счете у него было мало любознательности. Так называемые чистые науки предпочитались наукам естественным. Бюффон – и тот плохой наблюдатель.
Мысль о том, что надо идти от простого к сложному, что можно строить выводы дедуктивно; обманчивая вера в то, что созданное умом равноценно многосложности природы; что конкретное можно вывести из абстрактного…
Лансон в прекрасной работе о влиянии картезианства приводит удивительное признание Монтескье:
«Я видел, как частные случаи, словно сами собой, совпадали с предложенными мной законами… Когда я раскрыл эти законы, все, что я искал, предстало передо мной». Значит, он искал лишь то, что было заранее им найдено. Потрясающая ограниченность. А наряду с этим – восхитительная фраза Клода Бернара, не помню где мною записанная; поэтому привожу ее заведомо неточно, расширяя ее смысл: «Исследователь должен гнаться за искомым, не забывая следить за тем, чего он не ищет; то, что он увидит неожиданно, не должно захватить его врасплох». Но картезианец не допускает возможности быть захваченным врасплох. Иначе говоря, он не допускает для себя возможности чему-нибудь научиться.
Из письма М. Ар.:
«Вчера вечером прочел в „Горе“ Мишле: „они хохочут над Ксерксом, влюбленным в платан“, четверть часа спустя – У Дона „Ксеркса странная лидийская любовь – платан“».
«Это тем более любопытно, – добавляет М. Ар., – что в тексте Геродота нет и намека на любовь».
А с другой стороны, Мишле не мог знать Дона. Где же источник, откуда оба черпали?
Чванливость всегда сочетается с глупостью. Многие плохие писатели современности потому самодовольны, что они не способны понять всего, что выше их, оценить по заслугам великих писателей прошлого.
Не считаться с самим собой в течение дней, недель, месяцев. Потерять себя из виду. Идти туннелем в надежде увидеть за ним неизведанную страну. Боюсь, как бы слишком долгая работа сознания не связала чересчур логично будущее с прошлым, не помешала бы прошлому стать будущим. Превращения возможны только ночью, во сне; не заснув в куколке, гусеница не проснется мотыльком.
Мне важно не самому попасть в рай, а привести другого. Невыносимо то счастье, которым не с кем поделиться…
А что тогда сказать о счастье, обретенном за счет другого?
Торная дорога, конечно, всегда надежней. Но много дичи на ней не спугнешь.
Это Баррес завел такую моду. Его потребность всюду, без конца отыскивать назидание, «урок» – мне просто невыносима. Положение вассала, принижающее дух. Мы учимся у великих мастеров только тогда, когда они погружают нас в нечто вроде любовного экстаза. Те, что всюду ищут выгоды, подобны проституткам, которые, прежде чем отдаться, спрашивают: «Сколько заплатишь?».
Я хочу ощутить аромат каждого цветка, словно это лето для меня – последнее.
Рыбы, умирая, переворачиваются брюхом вверх и всплывают на поверхность: таков их способ падать.
Больше всего я ненавижу перевранные цитаты. Так можно заставить писателя сказать все, что угодно. Максанс, взваливая на меня ответственность за анекдот из «Фальшивомонетчиков» (который он, кстати, полностью извращает, сказав: «Мне рассказал этот анекдот один русский писатель», – не значит ли это, что он не читал книги и что его мнение основывается на слухах?), напоминает мне Ломброзо, который по «Неумелому стекольщику» Бодлера заключил о жестокости поэта: не заставлял ли Бодлер стекольщиков, – говорит Ломброзо, – подниматься на его мансарду, чтобы тут же выгнать их вон, расколотив вдребезги их товар за то, что у них не было розовых стекол?
Но из его заявления я привожу следующее:
«Ницше – враг мой, трогательный для меня тем, что даже в его отказе чувствуется страдание». Да, это верно; и то же самое – С.: они упрекают меня в безмятежности. Счастье, достигнутое не их путем, кажется им величайшим преступлением или, по меньшей мере, величайшей духовной скудостью.
Эм и m-ll Z. говорят о больницах, о безобразных тамошних злоупотреблениях, о скверной кормежке больных, о беззакониях, кумовстве и шантаже, которому подчас подвергаются несчастные больные со стороны сиделок. Однако раскрыть эти преступления значит – сыграть на руку «левым». И об этом помалкивают. И когда встречаешь в народе ужас перед больницей, он кажется – увы! – больше чем справедливым.
Помню, однажды я захотел навестить свою племянницу незадолго до ее конца, нанял авто.
– На улицу Буало, в лечебницу, – приказал я шоферу.
Тот спрашивает:
– Какой номер?
– Не знаю. Вы сами должны знать. Это – частная лечебница.
Тогда, повернувшись ко мне, он сказал, и в голосе его слышалось все: ненависть, презрение, насмешка, горечь.
– Мы знаем только Ларибуазьер.
Это невинное слово, произнесенное по-деревенски, нараспев, прозвучало похоронным звоном.
– Да полно, – ответил я ему, – сдохнуть везде одинаково можно: что в частной больнице, что в государственной…
Но его восклицания у меня по спине мурашки забегали.
М. Н. очень умен; чувствуется, что проблемы свои он подобрал по дороге. Он их не выносил и не родил в муках.
Мне стоит большого усилия убедить себя, что я теперь в возрасте тех, кто казался мне дряхлым, когда я был молодым.
О кровосмесительном характере теорий Барреса. По его мнению, нельзя, невозможно любить людей иной крови.
Баррес (я читаю теперь с ожесточенной усидчивостью второй том его «Дневников»), видимо, обеспокоен тем, что отец Шопена происходит из Нанта. (Я писал об этом несколько страниц; нужно их только найти и доразвить.) Он отмечает факт, чтобы тотчас о нем забыть. Как он ловко сам себя изобличает! То же самое и о Клоде Желэ, великом лотарингце.
Упорство, с каким он отстаивает абсурд, – вот что, может быть, больше всего и трогает в Барресе.
Но чтобы лианообразная мысль его могла вытянуться, ей необходима подпорка.
«…закон человеческого производства. Мы знаем, что энергия индивидуума есть не что иное, как сумма душ его покойников, и что она получается только благодаря непрерывности земного влияния».
И наивно добавляет:
«Вот где одна из основных идей, почти достаточных для оплодотворения ума, так часто возможно их применение». И действительно, вся работа его мысли заключалась в применении этой теории к отдельным случаям.
Нельзя твердо сказать, что эта теория ошибочна, но, как все теории, она, по прошествии определенного времени и сыграв раз навсегда определенную роль в прогрессе человечества, станет располагать к праздности и всячески тормозить его дальнейшее развитие.
И вдруг – поразительное признание:
«Лотарингия – могу ли я сказать со всей искренностью, что я ее люблю?..» Что он действительно любит, так это Толедо, Венецию, Константинополь, Азию.
«…Но она проникает в не принадлежащую ей жизнь мою и, может быть, завладевает ею. Не знаю, люблю ли я ее; но, войдя в мое существо через страдание, она стала одной из причин моего развития».
Лучше не скажешь. Он проявил здесь исключительную проницательность. И далее – на стр. 215:
«Моя любовь к Лотарингии досталась мне нелегко. В Лотарингии масштабы всегда ограничены. В десять, двадцать, тридцать лет я чувствовал себя так, как в ссылке. Я не переставал мечтать о Востоке. Мне всегда казалось, что в этих краях я люблю лишь землю мертвецов, кладбище, сновидения, места призраков, тайны и т. д.».