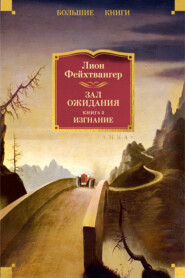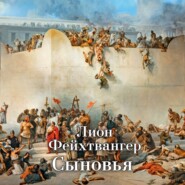По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Москва Сталинская
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И еще: «Вначале она мне не нравилась. Я полюбил ее, лишь поняв, что и у нее есть мертвецы». Как будто их нет в каждой стране! «Затем это ответ на вопрос: чего ради?».
Необходимость искусственно подогревать интерес к ложному образу рождается у Барреса из глубокого сознания собственного оскудения. У него не встретишь реальной насущной проблемы. Ему нужно изобретать; без выдумки ему нечего было бы сказать. Отсюда – острое ощущение небытия, пустоты, смерти; потребность «довольствоваться малым».
Перечел с глубокой радостью первую книгу «Поэзия и правда» по-немецки. Попробовал в шестой или седьмой раз (по меньшей мере) осилить «Так говорил Заратустра». Немыслимо. Я не выношу тона этой книги. И мой восторг перед Ницше не заставит меня претерпеть до конца этот тон. В конце концов, мне кажется, что он перестарался: книга ничего не прибавляет к его славе. Я постоянно чувствую в нем зависть к Христу; назойливое желание дать миру книгу, равную Евангелию. Если «Так говорил Заратустра» и более известна, чем все остальные книги Ницше, то это только потому, что это, в сущности, роман. Но в силу этого она может удовлетворить вкусы самого низшего разряда читателей – тех, кому еще необходим миф. А я… как раз люблю Ницше за его ненависть к вымыслу.
«Сцены будущей жизни», которые я дочитываю, не дают мне никакого удовлетворения. Несколько слов предисловия заставили меня ожидать большего. Если американизм восторжествует и если позднее, после его триумфа, снова взять эту книгу, – боюсь, как бы она не показалась детским лепетом. Высший индивидуализм должен мечтать о стандартизации массы. Нужно лишь сожалеть, что Америка останавливается на первых шагах. Да останавливается ли? Благодаря ей человечество начинает вглядываться в новые проблемы, развиваться под новым небом. Под обеззвезденным небом? – Нет, под небом, звезды которого мы не сумели еще разглядеть.
Я полон уважения к «Демону юга» Бурже и считаю, что большое место, занимаемое им в литературе, принадлежит ему по праву. Книга эта совсем не так вяло написана, как я предполагал. В его работе нет внезапных срывов, психологических ошибок; замечания всегда верны и иногда удивительно разумны. Но когда, оставив на время «Демона юга», я принимаюсь за Гёте, сразу видишь (ни к чему и сравнивать, чтобы это увидеть), как высоко над холмом Бурже вздымается вершина истинного Парнаса. Он не принадлежит к величественной горной цепи, вершины которой благодаря вечному снегу всегда нечеловечески обнажены. Конечно, он счастлив и тем, что раскрывает перед нами пахотные земли, но я не думаю, что урожай с них может быть всегда съедобен. Аппетит на такие продукты проходит всегда вместе с эпохой; утилитарное искусство недолговечно, и как только оно перестает приносить пользу, оно вызывает лишь исторический интерес. Даже «серьезный» тон его книги вызывает улыбку, а отсутствие иронии к самому себе быстро вызовет и уже вызывает иронию у читателя. Ничто так не ветшает, как серьезные книги. Ни Мольер, ни Сервантес, ни даже Паскаль – не серьезны. Они величественны. Если бы «Провинциальные письма» были серьезны, никто бы их в руки не взял. И как раз серьезная сторона творчества Боссюэта больше не имеет хождения. Да, думается мне, – через двадцать (от силы – через пятьдесят) лет Бурже безнадежно устареет.
Д-р М. находил вполне естественным выражение, теперь такое избитое: «общий паралитик». Невозможно сразу подыскать примеры, чтобы подчеркнуть нелепость этого выражения; я спросил его, можно ли сказать в таком случае: «перемежающийся малярик», – «скоротечный чахоточный», «кишечный туберкулезник».
Докончил выписанную мною очень интересную и убедительную книгу о болезни Ж.-Ж. Руссо. Автор все сводит к задержанию мочи; отсюда – постепенное отравление крови и т. д.
Помню я, – когда родился Р. «R»., сиделка пришла к отцу и объявила, что ребенок «криво сикает».
– Лишь бы думал прямо, – воскликнул М., может быть, с большей долей юмора, чем благоразумия.
П., который подозрителен не тем, что плохо понимает мои писания, а тем, что слишком любезно к ним относится, высказал мне свое негодование по поводу той непочтительности, с какой я говорю в «Возвращении с озера Чад» о «Смерти волка». Он сказал мне, что все домашние животные ревут и визжат, когда их режут; но что будь я охотник, я был бы поражен молчаливой агонией диких животных. И так он довел меня до того, что я пожалел, зачем написал эти строки.
Нет, конечно, я не могу принять предустановленной гармонии, как ее понимал Бернарден; но я верю, что все стремится к известному гармоническому порядку по той простой причине, что все хотя бы в малой степени негармоничное нежизненно; таким образом возмещения, размещения и т. д. восстанавливают равновесие.
Ни один народ не обладал таким чувством и пониманием гармонии, как греки. Гармония индивидуума, нравов, общины. Именно из потребности к гармонии (потребности разума и, в равной мере, инстинкта) уранизму было предоставлено право гражданства. Я постарался показать это в «Коридоне». Книгу эту поймут позднее, после того как поймут, что тревога, охватившая наше общество, и разнузданность его нравов проистекают из стремления изгнать оттуда уранизм, необходимый для строго упорядоченного общества.
Чем быстрее я приближаюсь к смерти, тем меньше страшусь ее. Как только почувствуешь, что страх свил в тебе прочное гнездо, и художник сдается ему и ходит перед ним на цыпочках, я пересиливаю себя и встречаю его полнейшим презрением. Мне всегда казалось, что главная добродетель человека – уметь безбоязненно смотреть смерти в глаза; и становится противно и жалко, когда видишь, что очень молодые люди меньше боятся смерти, чем старые, которые если и не устали от жизни, то во всяком случае должны были бы с покорностью ожидать смерти.
«Оставьте мертвых погребать мертвецов». Религия, именующая себя христианской, меньше всего принимала во внимание эти слова Христа.
Пока я пробегаю обманчивого «Р.» М., молодая финка, рядом со мной, с карандашом в руке, читает его «А». Временами карандаш опускается на книгу; верно, она нашла в ней одну из своих собственных мыслей; одну из тех, с которыми я давно уже распрощался.
Нет, я не люблю беспорядка. Но меня приводят в отчаяние те, что кричат: «Спокойно!», хотя никто еще не уселся по местам.
Январь, 1931 год
С неослабным вниманием читаю Грассэ; его размышления словно продолжают книгу Зибурга «Француз ли Бог?».
Не нравится мне у Грассэ оборот: «Ни один француз не…», ибо я, француз, придерживаюсь в этом наиважнейшем вопросе совсем другого мнения. Я не верю в человеческое «постоянство», а Грассэ им аргументирует и строит на нем свою защитительную речь. Его утверждение: «Существует известный предел сознания и добра, который человек не может переступить», и «предел этот был достигнут, лишь тот человек приобрел способность мыслить», – абсурдно, и к тому же чисто по-французски (увы, приходится признаться) и по-католически абсурдно. Человек стал, а не всегда был тем, что он сейчас. Тогда как же допустить, что он таким не останется на веки веков? Человек пребывает в состоянии становления. По какому праву отнимаете вы у меня надежду на прогресс? Тот, кто не допускает, что человек стал тем, что он есть, а не вышел готовым из рук творца, не может допустить, что он когда-нибудь станет иным, что его первое слово не было в то же время и последним.
Эта вера кажется тем несокрушимей, чем она дурковатей, так сказать, простецкая. Так, в пьесе Обея Ной говорит о боге: «Как бы он, чего доброго, не рассердился. Не святой же он, в самом деле!». Тому же примеры у Пеги, но волнующие: в голосе его слышатся слезы.
Дочитал Курциуса. Личная часть не так значительна, как хотелось бы. Как ни превосходны его исторические очерки, жажда моя зачастую остается неутоленной: куда лучше утоляет ее книга Зибурга.
Курциус стушевывается – из скрытности, конечно. Но уже и эти ретроспективные картины, столь рассудочные и поданные в должном освещении, дают повод поразмыслить.
Хочется, однако, знать, какую же часть занимает наследственное в психике француза, и не обязан ли он своими так четко выявленными Курциусом особенностями воспитанию, советам учителей, примеру соседей и т. д. Иначе говоря, не вышел ли бы он совсем другим, будучи воспитан в другой стране и не подозревая даже, что он – француз. Соображаю сейчас, насколько искусственна была, например, карьера Барреса и какой она могла бы стать, если, не ведая своего происхождения, он отдался бы природным склонностям.
Замечательная речь Валери. Восхитительной серьезности, широты, торжественности, без тени напыщенности; язык оригинален, но безличен – до того он красив и благороден. Гораздо выше всего, что пишется в наши дни.
Дочитал книгу Зибурга. Если бы даже упреки, обращенные к нам, были справедливы (а это почти так, но это «почти» узаконивает все мои надежды), все равно дилемма, которую Зибург старается нам навязать, осталась бы неприемлемой. Ничто в его книге не может доказать мне, что для восстановления европейского равновесия необходимо, чтобы Франция вышла в отставку. Франция обязана доказать свою способность развиваться, не отвергая при этом прошлого. Весна, купленная такою ценой, равносильна банкротству. Прошлое Франции – вот что породит ее будущее. Но как убийственно она цепка! Вспоминаются слова Валери: «Сколько людей гибнут от несчастных случаев, и все оттого, что не хотят расстаться с зонтиком!».
Франции незачем больше ни подлаживаться к чужому шагу, ни навязывать свой шаг чужим народам; сменить ногу самой, усвоить мудрость евангельского изречения: «Не вливают вино новое в мехи ветхие». Новое вино может быть и французским, – пусть даже сначала не разберут, что оно французское. Наша страна приберегает для Зибурга (и для себя самой) немало сюрпризов; ресурсы ее богаты и не разведаны. Как ни инертно наше тесто, положи чуть закваски – и оно взойдет. Не многовато ли трех образов на одну мысль? Неважно! Разовьем последний: тесто не любит закваски. Закваска ему чужда. Часто такая закваска (в литературе, понятно) создавала произведения восхитительные и нисколько не терявшие при этом французского духа: итальянская закваска – Ронсара, испанская – Корнеля, английская – романтиков, немецкая – тоже… Ни одна литература, может быть, не умела так, как французская (несмотря на упреки, зачастую справедливые, будто на не разбирается, где свое, а где чужое), обогащаться, заимствуя и сохраняя в то же время свое лицо, свои особенности. Можно даже сказать, что при всех качествах французского народа: ясности, точности, чувстве меры, законченности, – никто не нуждается так в иностранном; без притока извне он рискует смертельно измельчать (не обладай он, с другой стороны, изобретательностью, которую он обычно пускает в ход гораздо позднее других стран).
Грассэ, безусловно, прав, отвечая Зибургу, что Франция с давних пор исторически перегнала Германию, но заблуждается, считая старость преимуществом. Не понятое у нас превосходство Германии – именно в ее молодости.
Совсем недавно начала обращать внимание на молодежь и Франция. Первый признак омоложения.
Всем сердцем презираю я мудрость, ключ к которой – охлаждение или усталость.
Пусть те, кто отказывается верить в прогресс, именуют нас утопистами. Этим робким и консервативным умам казалось когда-то утопией всякое улучшение человеческой судьбы.
«Так было, – говорят они, и заключают немедленно: – так будет». Были войны, будут войны, и т. д. и т. д.
Нет дыма без огня. Отрицающим прогресс необходимо в него не верить, дабы сберечь и застраховать дорогие им идеи религии, семьи и отечества. Защищая от нас традиции, они отождествляют их с перешедшим к ним по наследству капиталом. Ах, как трудно человеку порвать с прошлым! Не покончить, просто – порвать. Лишь их упрямство и приверженность к прошлому могут толкнуть нас на насилие. Что мешает им допустить: прежняя опора становится помехой, человечество не может подняться на высшую ступень, не оттолкнув ногой ступеньки, на которой стояло. Но человеческой способности подняться они как раз и не допускают. Дабы установить, что человек не изменяется и не способен измениться, они предпочитают думать, что он всегда оставался таким, каков есть.
(Кювервиль)
Нигде так не размаривает, как в этом краю! Это, по-моему, больше всего способствовало медленности и трудности работы Флобера. Он думал, что борется со словами, а боролся с воздухом. Возможно, в ином климате, при возбуждающей творческую фантазию сухости атмосферы, он был бы не так требователен или добивался своего без особых усилий.
Бывают дни, когда мучительно чувствовать себя счастливым и когда лишь силком можно заставить себя им быть; даже стремление к счастью кажется мне тогда нечестивым. Слишком мало людей могут нынче его достичь. Я вспоминаю, в каком подавленном состоянии духа возвратилась из Азии М., объехав огромные пространства, где счастье, по ее словам, неведомо, невозможно…
Иные обладают достаточно мягким сердцем, но до того лишены воображения, что не могут себе представить чужих страданий. Все далекое кажется им несуществующим; к описаниям нездешних бедствий они относятся так же, как к рассказам об ужасах прошлого. Это их не трогает. Скорее их взволнует умелый вымысел романиста: в сочувствии к воображаемым горестям есть нечто снисходительно-приятное; зрелище настоящего горя – лишняя обуза. «Ничего не поделаешь», – думают они и в бессилии помочь находят оправдание безделью. Тем самым они солидаризуются с угнетателями, с палачами, но это им и в голову не приходит. Они, очевидно, твердят себе: «Живи мы в странах, где происходят подобные ужасы, мы бы знали, на чью сторону стать». И не потому ли так волнуют меня эти рассказы, что я чувствую: а я окажусь на другой стороне. Я – оптимист, ибо я на стороне угнетенных и знаю: доведись мне разделить их страдания, мой оптимизм оттого не поколеблется. Он не подвластен насилию. Глубокий оптимизм всегда на стороне терзаемых.
Я сейчас отнюдь не «гуманней», чем в эпоху, когда мое творчество не несло в себе и следа обуревавших меня забот. Просто-напросто я запрещал им туда доступ, не видя в них ничего общего с искусством. Но кто осмелится говорить сегодня об искусстве? Лучше бросить писательствовать, но не замалчивать того, что камнем лежит у меня на сердце.
Поверять мысли дневнику, изо дня в день. Если они несколько экстравагантны (особо имею в виду написанное мною вчера), то здесь это простительней, нежели в книге, – к слову сказать, я совсем не уверен, сумею ли сейчас написать книгу.
Написал письмо; копию сохраняю – авось формулировка пригодится:
«Милостивая государыня!
Не извиняйтесь, пожалуйста: долго ли мне было прочесть ваше очаровательное письмо! Но не надейтесь, что у меня найдется время на просмотр вашей рукописи с тем вниманием, какого она, безусловно, заслуживает. Я нашел бы, однако, время, и с большой охотой, ежели бы считал мои советы сколько-нибудь вам полезными. Сам я с давних пор убедился в полезности лишь тех советов, которые даешь себе сам. Вот вам один хороший совет – вы найдете его во фразе г-жи Севинье, которую я неоднократно напоминаю многочисленным молодым людям и особенно девицам, спрашивающим моего мнения об их литературных трудах: „Когда я слушаю только самое себя, у меня выходят чудесные вещи“.
Примите и т. д.».
Вчера вечером был у G. интересный разговор с В. и М., двумя молодыми людьми (фамилий не знаю) и С., – мы с ним вместе обедали, и я привел его к R.; собирался пробыть не больше часа, а засиделись далеко за полночь. Всего непринужденней чувствую себя с G.: он такой живой и догадливый; о чем бы ему ни говорили, обо всем он успел подумать вперед тебя. Когда тебя слишком быстро и глубоко понимают, совсем не так хочется говорить, как это кажется.
Вновь пробежал книгу Дугласа. Возвращаясь к свидетельствам первой его книги («Я и Оскар Уайльд»), он признается теперь в их вымышленности, но первую книгу, говорит он, его принудили написать, причем все лживые места написаны не им, а он только подписался, так что вышла книга под его именем, а автор ее – вовсе не он.
В новой книге – никаких уверток, все, что он ни скажет, – истина. Истинная Истина, по его выражению. Мне он, пожалуй, нравился больше, когда говорил по-другому. Так было откровенней, естественней. Какое от природы правдивое существо посмеет заговорить об «истинной Истине»?
В критическом приложении к «Клариссе» Ричардсон устанавливает, какую ничтожную роль играет в драматической поэзии (в книге он цитирует преимущественно Шекспира и Драйдена) забота о будущей жизни. «Любой из сценических героев, – замечает он, – умирает без надежды, т. е. умирает весь. Смерть в таком случае представляется ужасом, величайшим из зол».
Нет лучше отповеди С., старающемуся изобразить Шекспира христианином.
Христианский идеал… да, но идеал греко-латинский сыграл в нашей формации не менее важную роль. Удивительней всего, как старательно отождествляют эти два столь различных источника, сливая их в общее понятие «традиции». А ведь совсем немного нужно, чтобы они столкнулись друг с другом. И, несомненно, наша культура своею ценностью, шириной своего расцвета обязана именно этой антиномии.
Сейчас от этой традиции я упорно стараюсь отмежеваться, я хочу констатировать не меньшую власть надо мной греческого идеала, чем идеала христианского. Искусство Востока учит нас, однако, что великолепие греков – лишь одна из форм, лишь одна из многочисленных форм красоты. Склад моего ума (и наследственность, конечно) делает меня мало чувствительным ко всякому проявлению человеческого благородства, если оно не умерено разумом. Обаяние греческой красоты заключается в ее разумности. Но как неосторожно давать полную волю разуму! Христианский идеал тому противится, да и греческий тоже… В наш век все должно ставить под вопрос. Прогресс человечества немыслим, если оно не пытается скинуть ярмо авторитета и традиции.
Перечел единым духом «Евгению Гранде», за нее я не брался с семнадцати лет; помню, с каким восторгом глотал я тогда (дело было в Ляроке, в сарае) первого прочитанного мною Бальзака! Ведь, по-моему, не из лучших и не заслуживает своей громкой славы. Стиль весьма и весьма посредственный, характеры общи донельзя, диалоги условны, а то и просто неприемлемы или механически мотивированы характерами; одна только история спекуляций старика Гранде кажется мне сделанной мастерски, да и то потому, быть может, что я в этом деле некомпетентен. В целом – некоторое недоумение, от которого возрадовался бы Роже Мартэн дю Гар, автор романа «Старая Франция», но, повторяю я себе, у Бальзака следует восхищаться «Человеческой комедией», а не тем или иным романом в отдельности. Есть у него, впрочем, романы восхитительные сами по себе. «Евгения» – не из их числа.
Необходимость искусственно подогревать интерес к ложному образу рождается у Барреса из глубокого сознания собственного оскудения. У него не встретишь реальной насущной проблемы. Ему нужно изобретать; без выдумки ему нечего было бы сказать. Отсюда – острое ощущение небытия, пустоты, смерти; потребность «довольствоваться малым».
Перечел с глубокой радостью первую книгу «Поэзия и правда» по-немецки. Попробовал в шестой или седьмой раз (по меньшей мере) осилить «Так говорил Заратустра». Немыслимо. Я не выношу тона этой книги. И мой восторг перед Ницше не заставит меня претерпеть до конца этот тон. В конце концов, мне кажется, что он перестарался: книга ничего не прибавляет к его славе. Я постоянно чувствую в нем зависть к Христу; назойливое желание дать миру книгу, равную Евангелию. Если «Так говорил Заратустра» и более известна, чем все остальные книги Ницше, то это только потому, что это, в сущности, роман. Но в силу этого она может удовлетворить вкусы самого низшего разряда читателей – тех, кому еще необходим миф. А я… как раз люблю Ницше за его ненависть к вымыслу.
«Сцены будущей жизни», которые я дочитываю, не дают мне никакого удовлетворения. Несколько слов предисловия заставили меня ожидать большего. Если американизм восторжествует и если позднее, после его триумфа, снова взять эту книгу, – боюсь, как бы она не показалась детским лепетом. Высший индивидуализм должен мечтать о стандартизации массы. Нужно лишь сожалеть, что Америка останавливается на первых шагах. Да останавливается ли? Благодаря ей человечество начинает вглядываться в новые проблемы, развиваться под новым небом. Под обеззвезденным небом? – Нет, под небом, звезды которого мы не сумели еще разглядеть.
Я полон уважения к «Демону юга» Бурже и считаю, что большое место, занимаемое им в литературе, принадлежит ему по праву. Книга эта совсем не так вяло написана, как я предполагал. В его работе нет внезапных срывов, психологических ошибок; замечания всегда верны и иногда удивительно разумны. Но когда, оставив на время «Демона юга», я принимаюсь за Гёте, сразу видишь (ни к чему и сравнивать, чтобы это увидеть), как высоко над холмом Бурже вздымается вершина истинного Парнаса. Он не принадлежит к величественной горной цепи, вершины которой благодаря вечному снегу всегда нечеловечески обнажены. Конечно, он счастлив и тем, что раскрывает перед нами пахотные земли, но я не думаю, что урожай с них может быть всегда съедобен. Аппетит на такие продукты проходит всегда вместе с эпохой; утилитарное искусство недолговечно, и как только оно перестает приносить пользу, оно вызывает лишь исторический интерес. Даже «серьезный» тон его книги вызывает улыбку, а отсутствие иронии к самому себе быстро вызовет и уже вызывает иронию у читателя. Ничто так не ветшает, как серьезные книги. Ни Мольер, ни Сервантес, ни даже Паскаль – не серьезны. Они величественны. Если бы «Провинциальные письма» были серьезны, никто бы их в руки не взял. И как раз серьезная сторона творчества Боссюэта больше не имеет хождения. Да, думается мне, – через двадцать (от силы – через пятьдесят) лет Бурже безнадежно устареет.
Д-р М. находил вполне естественным выражение, теперь такое избитое: «общий паралитик». Невозможно сразу подыскать примеры, чтобы подчеркнуть нелепость этого выражения; я спросил его, можно ли сказать в таком случае: «перемежающийся малярик», – «скоротечный чахоточный», «кишечный туберкулезник».
Докончил выписанную мною очень интересную и убедительную книгу о болезни Ж.-Ж. Руссо. Автор все сводит к задержанию мочи; отсюда – постепенное отравление крови и т. д.
Помню я, – когда родился Р. «R»., сиделка пришла к отцу и объявила, что ребенок «криво сикает».
– Лишь бы думал прямо, – воскликнул М., может быть, с большей долей юмора, чем благоразумия.
П., который подозрителен не тем, что плохо понимает мои писания, а тем, что слишком любезно к ним относится, высказал мне свое негодование по поводу той непочтительности, с какой я говорю в «Возвращении с озера Чад» о «Смерти волка». Он сказал мне, что все домашние животные ревут и визжат, когда их режут; но что будь я охотник, я был бы поражен молчаливой агонией диких животных. И так он довел меня до того, что я пожалел, зачем написал эти строки.
Нет, конечно, я не могу принять предустановленной гармонии, как ее понимал Бернарден; но я верю, что все стремится к известному гармоническому порядку по той простой причине, что все хотя бы в малой степени негармоничное нежизненно; таким образом возмещения, размещения и т. д. восстанавливают равновесие.
Ни один народ не обладал таким чувством и пониманием гармонии, как греки. Гармония индивидуума, нравов, общины. Именно из потребности к гармонии (потребности разума и, в равной мере, инстинкта) уранизму было предоставлено право гражданства. Я постарался показать это в «Коридоне». Книгу эту поймут позднее, после того как поймут, что тревога, охватившая наше общество, и разнузданность его нравов проистекают из стремления изгнать оттуда уранизм, необходимый для строго упорядоченного общества.
Чем быстрее я приближаюсь к смерти, тем меньше страшусь ее. Как только почувствуешь, что страх свил в тебе прочное гнездо, и художник сдается ему и ходит перед ним на цыпочках, я пересиливаю себя и встречаю его полнейшим презрением. Мне всегда казалось, что главная добродетель человека – уметь безбоязненно смотреть смерти в глаза; и становится противно и жалко, когда видишь, что очень молодые люди меньше боятся смерти, чем старые, которые если и не устали от жизни, то во всяком случае должны были бы с покорностью ожидать смерти.
«Оставьте мертвых погребать мертвецов». Религия, именующая себя христианской, меньше всего принимала во внимание эти слова Христа.
Пока я пробегаю обманчивого «Р.» М., молодая финка, рядом со мной, с карандашом в руке, читает его «А». Временами карандаш опускается на книгу; верно, она нашла в ней одну из своих собственных мыслей; одну из тех, с которыми я давно уже распрощался.
Нет, я не люблю беспорядка. Но меня приводят в отчаяние те, что кричат: «Спокойно!», хотя никто еще не уселся по местам.
Январь, 1931 год
С неослабным вниманием читаю Грассэ; его размышления словно продолжают книгу Зибурга «Француз ли Бог?».
Не нравится мне у Грассэ оборот: «Ни один француз не…», ибо я, француз, придерживаюсь в этом наиважнейшем вопросе совсем другого мнения. Я не верю в человеческое «постоянство», а Грассэ им аргументирует и строит на нем свою защитительную речь. Его утверждение: «Существует известный предел сознания и добра, который человек не может переступить», и «предел этот был достигнут, лишь тот человек приобрел способность мыслить», – абсурдно, и к тому же чисто по-французски (увы, приходится признаться) и по-католически абсурдно. Человек стал, а не всегда был тем, что он сейчас. Тогда как же допустить, что он таким не останется на веки веков? Человек пребывает в состоянии становления. По какому праву отнимаете вы у меня надежду на прогресс? Тот, кто не допускает, что человек стал тем, что он есть, а не вышел готовым из рук творца, не может допустить, что он когда-нибудь станет иным, что его первое слово не было в то же время и последним.
Эта вера кажется тем несокрушимей, чем она дурковатей, так сказать, простецкая. Так, в пьесе Обея Ной говорит о боге: «Как бы он, чего доброго, не рассердился. Не святой же он, в самом деле!». Тому же примеры у Пеги, но волнующие: в голосе его слышатся слезы.
Дочитал Курциуса. Личная часть не так значительна, как хотелось бы. Как ни превосходны его исторические очерки, жажда моя зачастую остается неутоленной: куда лучше утоляет ее книга Зибурга.
Курциус стушевывается – из скрытности, конечно. Но уже и эти ретроспективные картины, столь рассудочные и поданные в должном освещении, дают повод поразмыслить.
Хочется, однако, знать, какую же часть занимает наследственное в психике француза, и не обязан ли он своими так четко выявленными Курциусом особенностями воспитанию, советам учителей, примеру соседей и т. д. Иначе говоря, не вышел ли бы он совсем другим, будучи воспитан в другой стране и не подозревая даже, что он – француз. Соображаю сейчас, насколько искусственна была, например, карьера Барреса и какой она могла бы стать, если, не ведая своего происхождения, он отдался бы природным склонностям.
Замечательная речь Валери. Восхитительной серьезности, широты, торжественности, без тени напыщенности; язык оригинален, но безличен – до того он красив и благороден. Гораздо выше всего, что пишется в наши дни.
Дочитал книгу Зибурга. Если бы даже упреки, обращенные к нам, были справедливы (а это почти так, но это «почти» узаконивает все мои надежды), все равно дилемма, которую Зибург старается нам навязать, осталась бы неприемлемой. Ничто в его книге не может доказать мне, что для восстановления европейского равновесия необходимо, чтобы Франция вышла в отставку. Франция обязана доказать свою способность развиваться, не отвергая при этом прошлого. Весна, купленная такою ценой, равносильна банкротству. Прошлое Франции – вот что породит ее будущее. Но как убийственно она цепка! Вспоминаются слова Валери: «Сколько людей гибнут от несчастных случаев, и все оттого, что не хотят расстаться с зонтиком!».
Франции незачем больше ни подлаживаться к чужому шагу, ни навязывать свой шаг чужим народам; сменить ногу самой, усвоить мудрость евангельского изречения: «Не вливают вино новое в мехи ветхие». Новое вино может быть и французским, – пусть даже сначала не разберут, что оно французское. Наша страна приберегает для Зибурга (и для себя самой) немало сюрпризов; ресурсы ее богаты и не разведаны. Как ни инертно наше тесто, положи чуть закваски – и оно взойдет. Не многовато ли трех образов на одну мысль? Неважно! Разовьем последний: тесто не любит закваски. Закваска ему чужда. Часто такая закваска (в литературе, понятно) создавала произведения восхитительные и нисколько не терявшие при этом французского духа: итальянская закваска – Ронсара, испанская – Корнеля, английская – романтиков, немецкая – тоже… Ни одна литература, может быть, не умела так, как французская (несмотря на упреки, зачастую справедливые, будто на не разбирается, где свое, а где чужое), обогащаться, заимствуя и сохраняя в то же время свое лицо, свои особенности. Можно даже сказать, что при всех качествах французского народа: ясности, точности, чувстве меры, законченности, – никто не нуждается так в иностранном; без притока извне он рискует смертельно измельчать (не обладай он, с другой стороны, изобретательностью, которую он обычно пускает в ход гораздо позднее других стран).
Грассэ, безусловно, прав, отвечая Зибургу, что Франция с давних пор исторически перегнала Германию, но заблуждается, считая старость преимуществом. Не понятое у нас превосходство Германии – именно в ее молодости.
Совсем недавно начала обращать внимание на молодежь и Франция. Первый признак омоложения.
Всем сердцем презираю я мудрость, ключ к которой – охлаждение или усталость.
Пусть те, кто отказывается верить в прогресс, именуют нас утопистами. Этим робким и консервативным умам казалось когда-то утопией всякое улучшение человеческой судьбы.
«Так было, – говорят они, и заключают немедленно: – так будет». Были войны, будут войны, и т. д. и т. д.
Нет дыма без огня. Отрицающим прогресс необходимо в него не верить, дабы сберечь и застраховать дорогие им идеи религии, семьи и отечества. Защищая от нас традиции, они отождествляют их с перешедшим к ним по наследству капиталом. Ах, как трудно человеку порвать с прошлым! Не покончить, просто – порвать. Лишь их упрямство и приверженность к прошлому могут толкнуть нас на насилие. Что мешает им допустить: прежняя опора становится помехой, человечество не может подняться на высшую ступень, не оттолкнув ногой ступеньки, на которой стояло. Но человеческой способности подняться они как раз и не допускают. Дабы установить, что человек не изменяется и не способен измениться, они предпочитают думать, что он всегда оставался таким, каков есть.
(Кювервиль)
Нигде так не размаривает, как в этом краю! Это, по-моему, больше всего способствовало медленности и трудности работы Флобера. Он думал, что борется со словами, а боролся с воздухом. Возможно, в ином климате, при возбуждающей творческую фантазию сухости атмосферы, он был бы не так требователен или добивался своего без особых усилий.
Бывают дни, когда мучительно чувствовать себя счастливым и когда лишь силком можно заставить себя им быть; даже стремление к счастью кажется мне тогда нечестивым. Слишком мало людей могут нынче его достичь. Я вспоминаю, в каком подавленном состоянии духа возвратилась из Азии М., объехав огромные пространства, где счастье, по ее словам, неведомо, невозможно…
Иные обладают достаточно мягким сердцем, но до того лишены воображения, что не могут себе представить чужих страданий. Все далекое кажется им несуществующим; к описаниям нездешних бедствий они относятся так же, как к рассказам об ужасах прошлого. Это их не трогает. Скорее их взволнует умелый вымысел романиста: в сочувствии к воображаемым горестям есть нечто снисходительно-приятное; зрелище настоящего горя – лишняя обуза. «Ничего не поделаешь», – думают они и в бессилии помочь находят оправдание безделью. Тем самым они солидаризуются с угнетателями, с палачами, но это им и в голову не приходит. Они, очевидно, твердят себе: «Живи мы в странах, где происходят подобные ужасы, мы бы знали, на чью сторону стать». И не потому ли так волнуют меня эти рассказы, что я чувствую: а я окажусь на другой стороне. Я – оптимист, ибо я на стороне угнетенных и знаю: доведись мне разделить их страдания, мой оптимизм оттого не поколеблется. Он не подвластен насилию. Глубокий оптимизм всегда на стороне терзаемых.
Я сейчас отнюдь не «гуманней», чем в эпоху, когда мое творчество не несло в себе и следа обуревавших меня забот. Просто-напросто я запрещал им туда доступ, не видя в них ничего общего с искусством. Но кто осмелится говорить сегодня об искусстве? Лучше бросить писательствовать, но не замалчивать того, что камнем лежит у меня на сердце.
Поверять мысли дневнику, изо дня в день. Если они несколько экстравагантны (особо имею в виду написанное мною вчера), то здесь это простительней, нежели в книге, – к слову сказать, я совсем не уверен, сумею ли сейчас написать книгу.
Написал письмо; копию сохраняю – авось формулировка пригодится:
«Милостивая государыня!
Не извиняйтесь, пожалуйста: долго ли мне было прочесть ваше очаровательное письмо! Но не надейтесь, что у меня найдется время на просмотр вашей рукописи с тем вниманием, какого она, безусловно, заслуживает. Я нашел бы, однако, время, и с большой охотой, ежели бы считал мои советы сколько-нибудь вам полезными. Сам я с давних пор убедился в полезности лишь тех советов, которые даешь себе сам. Вот вам один хороший совет – вы найдете его во фразе г-жи Севинье, которую я неоднократно напоминаю многочисленным молодым людям и особенно девицам, спрашивающим моего мнения об их литературных трудах: „Когда я слушаю только самое себя, у меня выходят чудесные вещи“.
Примите и т. д.».
Вчера вечером был у G. интересный разговор с В. и М., двумя молодыми людьми (фамилий не знаю) и С., – мы с ним вместе обедали, и я привел его к R.; собирался пробыть не больше часа, а засиделись далеко за полночь. Всего непринужденней чувствую себя с G.: он такой живой и догадливый; о чем бы ему ни говорили, обо всем он успел подумать вперед тебя. Когда тебя слишком быстро и глубоко понимают, совсем не так хочется говорить, как это кажется.
Вновь пробежал книгу Дугласа. Возвращаясь к свидетельствам первой его книги («Я и Оскар Уайльд»), он признается теперь в их вымышленности, но первую книгу, говорит он, его принудили написать, причем все лживые места написаны не им, а он только подписался, так что вышла книга под его именем, а автор ее – вовсе не он.
В новой книге – никаких уверток, все, что он ни скажет, – истина. Истинная Истина, по его выражению. Мне он, пожалуй, нравился больше, когда говорил по-другому. Так было откровенней, естественней. Какое от природы правдивое существо посмеет заговорить об «истинной Истине»?
В критическом приложении к «Клариссе» Ричардсон устанавливает, какую ничтожную роль играет в драматической поэзии (в книге он цитирует преимущественно Шекспира и Драйдена) забота о будущей жизни. «Любой из сценических героев, – замечает он, – умирает без надежды, т. е. умирает весь. Смерть в таком случае представляется ужасом, величайшим из зол».
Нет лучше отповеди С., старающемуся изобразить Шекспира христианином.
Христианский идеал… да, но идеал греко-латинский сыграл в нашей формации не менее важную роль. Удивительней всего, как старательно отождествляют эти два столь различных источника, сливая их в общее понятие «традиции». А ведь совсем немного нужно, чтобы они столкнулись друг с другом. И, несомненно, наша культура своею ценностью, шириной своего расцвета обязана именно этой антиномии.
Сейчас от этой традиции я упорно стараюсь отмежеваться, я хочу констатировать не меньшую власть надо мной греческого идеала, чем идеала христианского. Искусство Востока учит нас, однако, что великолепие греков – лишь одна из форм, лишь одна из многочисленных форм красоты. Склад моего ума (и наследственность, конечно) делает меня мало чувствительным ко всякому проявлению человеческого благородства, если оно не умерено разумом. Обаяние греческой красоты заключается в ее разумности. Но как неосторожно давать полную волю разуму! Христианский идеал тому противится, да и греческий тоже… В наш век все должно ставить под вопрос. Прогресс человечества немыслим, если оно не пытается скинуть ярмо авторитета и традиции.
Перечел единым духом «Евгению Гранде», за нее я не брался с семнадцати лет; помню, с каким восторгом глотал я тогда (дело было в Ляроке, в сарае) первого прочитанного мною Бальзака! Ведь, по-моему, не из лучших и не заслуживает своей громкой славы. Стиль весьма и весьма посредственный, характеры общи донельзя, диалоги условны, а то и просто неприемлемы или механически мотивированы характерами; одна только история спекуляций старика Гранде кажется мне сделанной мастерски, да и то потому, быть может, что я в этом деле некомпетентен. В целом – некоторое недоумение, от которого возрадовался бы Роже Мартэн дю Гар, автор романа «Старая Франция», но, повторяю я себе, у Бальзака следует восхищаться «Человеческой комедией», а не тем или иным романом в отдельности. Есть у него, впрочем, романы восхитительные сами по себе. «Евгения» – не из их числа.