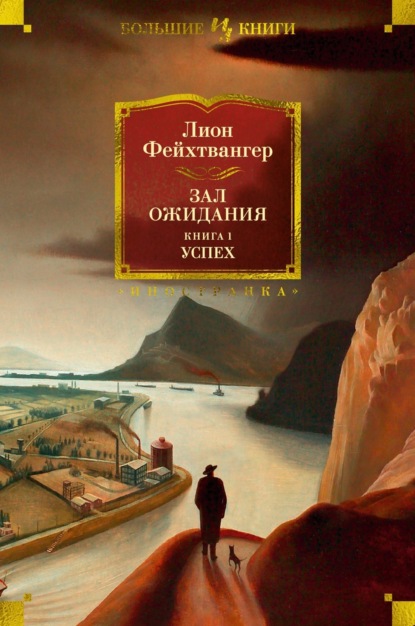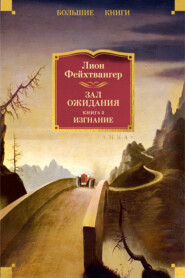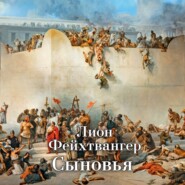По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зал ожидания. Книга 1. Успех
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мрачный, сутулясь еще больше обычного, вышел министр просвещения Флаухер, бок о бок с весело болтавшим Кленком, из облицованного фаянсовыми плитками помещения. Он так и знал: ему не дадут насладиться победой. Нечего было и думать противиться ясно выраженной воле агрария Бихлера, фактического правителя Баварии. Приходилось отойти в сторону, отказаться от триумфа. Оплевано было для него теперь все, весь процесс. Молча сидел он, склонившись над остатками своей редьки, оттолкнув ногой повизгивавшую таксу, с мрачной злобой прислушиваясь к все новым раскатам смеха, вызываемым веселыми шутками Кленка.
Понурый и ворчливый вернулся в этот вечер министр Флаухер в свою квартиру, которую несколько часов назад, предвкушая процесс Крюгера, он покинул в таком приподнятом настроении. Усталая, боязливо ощущая печаль своего хозяина, такса скользнула в свой уголок.
3. Шофер Ратценбергер и баварское искусство
Председательствующий, ландесгерихтсдиректор доктор Гартль, общительный блондин, сравнительно молодой – ему едва ли было пятьдесят, – с небольшой лысиной, был любителем изящества, ловкости в ведении судебных процессов. Среди баварских судебных чинов было не много столь же способных достойным образом вести процесс, привлекший внимание всей страны. Он знал поэтому, что правительству некому больше поручить это дело и что он может действовать, как ему заблагорассудится, лишь бы конечный результат, то есть в данном случае осуждение обвиняемого Крюгера, соответствовал политике кабинета. Богатый и независимый, честолюбивый судья чувствовал себя очень важной персоной. Не мешало показать правительству, что он умеет всесторонне использовать свои способности и представляет собой фактор, с которым необходимо считаться. Его истинно баварские, консервативные убеждения находились вне всяких подозрений. Умело подобранный состав присяжных являлся солидной страховкой. В смысле юридических знаний он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы, опираясь на гибкие параграфы, юридически обосновать любой приговор, – почему же не позволить себе роскошь такое громкое дело, как этот процесс Крюгера, провести утонченно-художественно, показать свое умение понять все человеческие слабости?
Руководствуясь безошибочным инстинктом в создании нарастания впечатлений, он ограничил допрос обвиняемого формальными вопросами, приберегая эффекты к тому моменту, когда внимание начнет ослабевать. Пришлось ждать довольно долго, пока наконец он не распорядился вызвать главного свидетеля обвинения.
При появлении шофера Франца Ксавера Ратценбергера все шеи вытянулись, к глазам поднялись лорнеты, и лихорадочно заработали зарисовщики больших газет. Маленький, толстенький, круглоголовый человек с светлыми усами, польщенный общим вниманием, выступал с важностью и деланой непринужденностью в непривычном и стеснявшем его черном сюртуке. Скрипучим голосом, на местном диалекте он обстоятельно отвечал на вопросы, касавшиеся его личности.
Безмолвно прислушивались присутствующие к нескладным, ничего в сущности не говорящим словам, которыми этот низкорослый человечек с крохотными глазками решительно подтверждал виновность Крюгера. Итак, три с половиной года назад, в ночь с четверга 23 на пятницу 24 февраля, он в три четверти второго вез обвиняемого Крюгера с какой-то дамой с Виденмайерштрассе до дома номер девяносто четыре по Катариненштрассе. Здесь доктор Крюгер вместе с дамой вышел из автомобиля и, расплатившись с ним, вместе с дамой вошел в дом. Крюгер во время разбирательства дисциплинарного дела, возбужденного вскоре после этого против ныне покойной Анны Элизабет Гайдер, под присягой показывал другое, а именно утверждал, что в ту ночь проводил свою даму до ее квартиры, а затем в том же автомобиле поехал дальше. Таким образом, если придавать веру словам шофера Ратценбергера, Крюгер был виновен в даче на суде под присягой заведомо ложных показаний.
Председатель с подчеркнутым беспристрастием, не дожидаясь вмешательства защитника доктора Гейера, поставил свидетелю на вид неправдоподобность его показаний. Описываемые события имели место три с половиной года назад. Как же мог Ратценбергер, перевезший за это время тысячи пассажиров, с такой точностью помнить все подробности, относившиеся к доктору Крюгеру и его спутнице? Не перепутал ли он дат или личностей? Дружелюбно-небрежным тоном, каким председатель суда имел обыкновение говорить с людьми из народа, продолжал он беседовать со свидетелем, вызвав даже беспокойство у прокурора.
Но шофер Ратценбергер был хорошо натаскан и не скупился на ответы. В других случаях он, мол, не мог бы с такой уверенностью говорить о личностях и сроках, но 23 февраля был день его рождения, он отпраздновал его и, собственно говоря, решил в эту ночь не работать. Все же он выехал, так как не был оплачен счет за электричество и его старуха ныла до тех пор, пока наконец он не решился выехать. (Корреспонденты отметили смех в зале при этих словах.) Было чертовски холодно, и он чертовски злился бы, если бы не удалось заполучить пассажира. Его стоянка была у Мауэркирхенштрассе, где живут богатые господа. Вот он и посадил пассажиров – этого самого господина Крюгера с дамой. Господа эти вышли из дома по Виденмайерштрассе, где все окна были освещены. По-видимому, там было какое-то большое празднество.
Все это он выложил своим скрипучим голосом с самым прямодушным видом, слегка причмокивая после каждой фразы и стараясь объясняться как можно яснее. Он производил впечатление порядочного человека и казался достойным доверия. Судьи, присяжные, журналисты и публика с интересом прислушивались к его показаниям.
Почему, – поинтересовался председатель (он также заговорил теперь на местном наречии, что привлекло к нему общие симпатии), – почему, собственно, Ратценбергер обратил внимание на то, что доктор Крюгер вместе с дамой вошел в дом по Катариненштрассе? Шофер ответил, что он и его товарищи всегда очень интересуются такими вещами, так как пассажир, провожающий даму и входящий с нею в дом, обычно не скупится на чаевые.
Каким образом он в темноте так ясно разглядел лицо обвиняемого, что теперь с уверенностью решается опознать его?
– Такого человека, как господин Крюгер, – помилуйте! – ответил шофер. – Его мудрено не узнать!
Присутствующие вглядываются в обвиняемого, рассматривают его крупное лицо, широкий лоб, низко заросший черными до блеска волосами, серые глаза под густыми темными бровями, большой мясистый нос, изогнутую линию рта. Да, правильно: это лицо легко было запомнить. Было вполне правдоподобно, что шофер мог и несколько лет спустя узнать его.
Обвиняемый сидел неподвижно. Его защитник, доктор Гейер, внушил ему, чтобы он сам не вмешивался в ход прений, предоставив это ему, защитнику. Доктор Гейер охотно также стер бы с лица обвиняемого залегшую в уголках его губ вызывающую улыбку, отнюдь не способную привлечь на его сторону симпатии присутствующих.
Адвокат, сухощавый белокурый человек с тонким крючковатым носом, с редкими волосами, с быстрыми голубыми глазами за толстыми стеклами очков, с трудом владевший своим нервным лицом, ясно понимал, что, задавая наводящие вопросы, председатель преследует цель не поколебать, а укрепить доверие к показаниям свидетеля. Для него стало ясно, что к возражению, будто шофер не может через три с лишним года помнить, как вел себя его пассажир, здесь хорошо подготовлены. Поэтому доктор Гейер решил повести на него наступление с другой стороны. Он сидел напряженный и готовый к действию, словно заведенный и уже вздрагивающий автомобиль, готовый рвануться с места. Легкая краска то покрывала его лицо, то сбегала с него. Настойчиво, не спуская своих зорких глаз с шофера, он принялся с самым невинным видом издалека перебирать его не внушавшее особого доверия прошлое.
Шофер Ратценбергер неоднократно менял места службы. Большую часть войны он провел в тылу, затем наконец попал на фронт, был засыпан в окопе землей и, ввиду тяжелого ранения, снова возвращен в тыл. Дома, опираясь по каким-то причинам на особую протекцию, добился возможности окончательно снять военную форму. Женился на девице, имевшей от него уже двоих довольно больших детей и получившей к этому времени маленькое наследство. На деньги жены он приобрел таксомотор. Детей, особенно своего сына Людвига, он по-своему грубо баловал, но жена его в то же время неоднократно обращалась в полицию с жалобами на нанесенные ей побои. Ходили также слухи и о каких-то семейных ссорах, во время одной из которых Франц Ксавер Ратценбергер ранил в голову своего брата и был уличен своими родными в наглой и грубой лжи. На него неоднократно поступали жалобы от владельцев и шоферов частных автомобилей за оскорбления и угрозы. Ратценбергер объяснял эти жалобы враждебностью частных автомобилистов, питавших, по его словам, особую ненависть к шоферам такси, управлявшим машинами лучше, чем эти господа. Кроме того, заявил он, после войны он был подвержен вспышкам гнева даже по самым незначительным поводам. Однажды, по непонятной даже ему самому причине, он покушался на самоубийство: неожиданно для всех, с криком: «Прощай, чудный край!» – соскочил с парома, переправлявшегося в окрестностях Мюнхена через Изар, но был выловлен из воды.
Адвокат Гейер выразил удивление, как это такому нервному человеку дано было разрешение на управление таксомотором. Известно было, что шофер Ратценбергер любил выпить. «Сколько?» – прозвучал настойчивый, неприятный голос доктора Гейера. «Примерно три литра в день». – «Иногда и больше?» – «Иногда и пять». – «Случалось, и шесть?» – «Случалось». – Не был ли однажды составлен полицейский протокол по поводу того, что он избил пассажира, не давшего ему на чай? – Возможно. Должно быть, этот прохвост чем-нибудь обидел его. Оскорблять себя он никому не позволит! – Дал ли ему доктор Крюгер в тот раз на чай? Как это так он не помнит? Но ведь как раз в связи с чаевыми он и приглядывается так внимательно к пассажирам, провожающим женщин. (Быстрый, звонкий голос адвоката словно ударял по свидетелю, явно смущая его.) Возил ли он обвиняемого когда-нибудь еще? Этого он также не помнит? Но ведь правда, что против него было возбуждено преследование и ему грозило лишение прав водителя такси?
Под градом сыпавшихся на него вопросов адвоката свидетель смущался все больше и больше. Он все чаще причмокивал, жевал свои рыжеватые усы и окончательно перешел на местный диалект, так что иногородние репортеры с трудом улавливали смысл его слов. Но тут вступился прокурор. Вопросы защитника не имеют-де прямого отношения к делу. Председатель из подчеркнутого человеколюбия по отношению к обвиняемому все же разрешил постановку вопросов.
Да, так вот: дело против него действительно было однажды возбуждено. Как раз по поводу этого якобы имевшего место избиения пассажира. Но это дело было прекращено. Показания этого пассажира, какого-то прохвоста, «чужака», желавшего лишь увильнуть от уплаты по таксе, не подтвердились.
Снова на мгновение вспыхнули краской щеки доктора Гейера. Он усиливал свое наступление. Не без труда принуждал он к покою свои узкие, покрытые тонкой кожей руки. Его высокий, звонкий голос впивался в свидетеля четко, неумолимо. Он пытался установить связь между нынешними показаниями шофера и возбужденным против него делом, грозившим ему лишением водительских прав. Он стремился доказать, что дело против шофера было прекращено, когда выяснилась возможность использовать показания Ратценбергера против Крюгера. Он подходил издалека, задавал самые невинные вопросы. Но недаром Ратценбергер, ища поддержки, поглядывал на председателя – доктор Гартль счел нужным вступиться. Здесь вырастала непроницаемая стена. Так и не стало известно суду, как неопределенны были первоначальные показания Ратценбергера, как перед ним в ходе допроса то вырисовывалась угроза потери прав водителя такси, то снова исчезала, пока его показания не приняли совершенно твердого характера. Не узнали слушатели и о нитях, тянувшихся от полиции к судебным властям, от судебных властей к министерству просвещения и вероисповеданий. Здесь все было смутно, неопределенно, неуловимо. Все же почва под ногами шофера Ратценбергера оказалась несколько поколебленной. Но под конец при поддержке председателя он с помощью ходячей остроты обеспечил себе приличное отступление: он, может, разочек в жизни и в самом деле был недостаточно вежлив с пассажиром, но пусть опросят кого угодно – любой шофер в городе ездит лучше, когда в брюхе у него переливаются кружки две пива. После этого его отпустили, и он удалился, убежденный, что по совести выполнил свои свидетельские обязанности. Он уносил с собой симпатии многих, твердые надежды на хорошие чаевые и полную уверенность, что, если опять какой-нибудь наглый пассажир станет обвинять его в насилии, такси все равно останется за ним.
Вслед за этим суд занялся выяснением подробностей вечеринки, предшествовавшей злополучной поездке на автомобиле. Эта вечеринка происходила в последний год войны. Одна дама, родом из Вены, пригласила к себе человек тридцать гостей. Квартира была убрана мило, без особых претензий. Пили, танцевали. Жильцы из нижней квартиры, по ряду причин относившиеся к венке недоброжелательно, вызвали полицию – было-де величайшим безобразием пить и плясать во время войны. Полиция переписала гостей. Лиц, по возрасту подлежащих призыву в армию и не имевших протекции, несмотря на признанную ранее непригодность к военной службе или «броню», вслед за этим отправили на фронт.
Дама, устраивавшая вечеринку, дружила с левыми депутатами ландтага, поэтому власти постарались по возможности раздуть этот инцидент. Безобидные танцы были в мгновение ока превращены в отвратительную оргию. Красочные подробности якобы происходивших там непотребных действий передавались из уст в уста. Даму выслали из Баварии. Ее муж, занимавший видное положение, умер за два года перед тем. У нее остался от него ребенок. Родственники мужа сейчас же предприняли ряд шагов с целью устранить ее от опекунства над ребенком, ссылаясь на ее предосудительное поведение. Мюнхенские обыватели, возбужденно улыбаясь и смакуя, передавали друг другу все более сочные подробности того вечера; они с возмущением, но всегда с большим интересом распространялись об утонченных наслаждениях, свидетельствующих о падении нравов всякого рода «чужаков». Термином «чужак» в Мюнхене обозначался всякий, кто по своему внешнему виду, образу жизни или хотя бы дарованиям выделялся из общей массы среднего класса.
Отрицал ли доктор Крюгер, что вместе со своей дамой присутствовал на вечеринке на Виденмайерштрассе? Нет. Путем сложного сопоставления доказательств обвинение пыталось установить правдоподобие показаний шофера: чувственная атмосфера, царившая на вечеринке, создала-де предпосылки к тому, что Крюгер вместе со своей дамой поднялся к ней в квартиру. Прокурор потребовал дальнейшего ведения заседания при закрытых дверях ввиду опасности, грозившей общественной нравственности. Гейеру удалось отвести этот удар, главным образом благодаря тому, что председателю не хотелось лишиться симпатии публики, начавшей при таком предложении выражать неудовольствие. Но затем тут же, в открытом заседании, начались картинные описания происходившего на вечеринке: разбросанных по полу подушек, бесстыдных, чрезвычайно чувственных танцев, тусклого, создававшего определенное настроение освещения.
Доктор Гейер счел нужным заметить, что, если на вечере действительно царило такое приподнятое настроение, доктор Крюгер вряд ли бы так рано удалился. На это прокурор очень ловко возразил, что именно возбуждающая обстановка вечера и вызвала у обвиняемого стремление остаться со своей дамой наедине. Председатель, придерживаясь примирительного, всепонимающего тона, умудрялся извлекать из показаний свидетелей все больше мелких черточек, как будто вполне невинных, но в освещении прокурора казавшихся крайне двусмысленными. Присутствовали ли на вечере лица обоего пола? Не лежали ли гости на раскиданных всюду подушках? Не подавались ли возбуждающие кушанья, например немецкая икра?
Подвергли допросу и даму, устраивавшую вечеринку. Не присутствовали ли на этом вечере одновременно двое мужчин, с которыми она когда-то была в связи? Не танцевала ли она с обоими? Не оказала ли она сопротивления при появлении полиции? Не вступила ли она с полицейскими в драку? – Свидетельница, пышная, крупная женщина с красивым, полным лицом, страдала от духоты плохо проветренного помещения. Ее показания звучали нервно, истерично. Она вызывала в публике смех и то полупрезрительное благожелательство, с каким местные жители обычно относятся к продажным женщинам. Из ее показаний выяснилось, что она вовсе не вступала в драку с полицейскими: она всего только – когда один из полицейских схватил ее за плечо, – не оборачиваясь, ударила по его руке веером. Осуждена она была не за сопротивление властям, а лишь за нарушение предписаний о нормах потребления угля и электричества, так как свет горел одновременно более чем в одной комнате. Но, в то время как насилие шофера Ратценбергера по отношению к пассажиру встретило среди присутствовавших благодушное сочувствие, удар веером, нанесенный этой дамой, вызвал двусмысленные улыбки и покачивание головой. Здесь было во всяком случае лишнее доказательство распущенности, царившей среди этих «чужаков». Публика была вполне удовлетворена. Она испытывала приятное возбуждение и даже склонна была признать «наличие смягчающих вину обстоятельств» для обвиняемого.
Все-таки, несмотря на все искусство доктора Гейера, суду удалось добиться того, что все слушатели прониклись уверенностью в виновности Крюгера.
Шофер Ратценбергер, празднуя в тот же вечер в ресторанчике «Гайсгартен» свое выступление на суде, был окружен знаками всеобщего уважения своих постоянных собутыльников, завсегдатаев этого заведения. Даже родные, обычно считавшие его лодырем и прохвостом, в этот вечер готовы были признать его молодчиной, а жена, много раз жаловавшаяся на мужа в полицию за избиения и знавшая, что он женился на ней только ради возможности приобрести таксомотор и рад был бы от нее избавиться, в этот вечер была влюблена в него.
Но с большим восхищением, чем кто-либо из присутствовавших, внимал ему в этот вечер сын его Людвиг Ратценбергер, юноша с приятной внешностью. Почтительно глотал он каждое слово, медлительно выползавшее из-под обкусанных, мокрых от пивной пены отцовских усов. Никогда Людвиг Ратценбергер не испытывал ни малейшего уважения к своей вечно ноющей матери. Даже тогда, когда вместе с сестричкой нес за матерью шлейф при ее позднем венчании, даже и тогда питал он к этой жалкой женщине что-то вроде презрения. А отец – разве не был он всегда и всюду воплощением представительности?
Смутно, но сладострастно вспоминал Людвиг Ратценбергер, как отец, когда Людвиг еще не умел ходить, при помощи тряпки вливал в его жадный ротик пиво. Брань и проклятия отца, наполнявшие комнату, казались мальчику образцом мужественности. А позднее – часы восторга, когда отец – нарушая правила, так как Людвиг был еще слишком молод, – учил его управлять машиной! А блаженство сумасшедшей ночной езды на машинах, владельцы которых вовсе не были бы в восторге, если бы знали об этих экскурсиях! А какое огромное впечатление произвел на мальчика случай, когда отец, поссорившись из-за какого-то пустяка с одним автомобилистом, обругал его, а затем, в отместку за дерзкий ответ, проколол камеру стоявшей на улице машины врага. Людвиг и сейчас еще видел, как крался отец к машине и как он был счастлив после свершенной мести. И теперь, когда отца осыпали похвалами и посетители «Гайсгартена», и газеты, когда слава венчала всю его предшествующую жизнь, сердце мальчика ширилось в груди от восторга. Но оппозиционная пресса и некоторые газеты других провинций Германии высказывали свои соображения о связи между памятью шофера Ратценбергера и взглядами на искусство официальных кругов Баварии. Ведь если бы шофер Ратценбергер не запомнил так хорошо лицо этого Крюгера, невозможно было бы уволить последнего со службы и убрать картины, помещение которых в галерее он так упрямо отстаивал.
4. Несколько слов о юстиции тех лет
В те годы, после великой войны, юстиция на всем земном шаре больше, чем когда-либо, находилась под политическими влияниями.
В Китае во время гражданской войны правительство, в данный момент побеждавшее, вешало и расстреливало по суду за несовершенные преступления чиновников всех рангов, ранее служивших побежденному правительству.
В Индии вежливые судьи-империалисты, на основании спорных и чисто формальных юридических доводов, присуждали к многолетнему тюремному заключению вождей национального движения за написание различных статей и книг, в то же время почтительно раскланиваясь перед благородством и твердостью их убеждений.
В Румынии, Венгрии, Болгарии обвиняемые евреи и социалисты после нелепой судебной комедии тысячами подвергались повешению, расстрелу или пожизненному тюремному заключению за якобы совершенные ими преступные деяния, в то самое время как националистов, если уж их привлекали к суду, оправдывали или подвергали ничтожным наказаниям (отменявшимся затем по амнистии) за действительно совершенные ими преступления.
Нечто подобное происходило и в Германии.
В Италии сторонники находившейся у власти диктатуры, уличенные в совершении убийства, оправдывались судом, а противники этой диктатуры изгонялись по постановлению тайного суда из страны, и имущество их конфисковывалось.
Во Франции оправдывали офицеров оккупационной Французской армии, обвиняемых в убийстве немцев. В то же время арестованные во время уличных столкновений парижские коммунисты присуждались к долголетнему тюремному заключению за недоказанные, якобы совершенные ими насилия.
В Англии примерно так же поступали с деятелями национального движения в Ирландии. Некоторые из них погибали от голодовки.
В Америке были освобождены члены националистического клуба, подвергшие линчеванию ни в чем не повинных негров. Иммигранты-итальянцы, коммунисты, обвиненные в убийстве, несмотря на убедительные алиби, были присуждены присяжными довольно крупного американского города к смерти на электрическом стуле.
Все это совершалось во имя «республики», или «народа», или «короля», и во всяком случае – во имя «права».
Дело Крюгера, как и ряд других подобных дел, рассматривалось в суде в июне одного из тех годов в Германии, в провинции, именуемой Баварией. Германия в то время была еще разделена на ряд отдельных самостоятельных провинций; Бавария включала в себя баюварские, алеманские, франкские территории, а также, странным образом, часть левого берега Рейна, так называемый Пфальц.
5. Господин Гессрейтер демонстрирует
В модном сером костюме, легко помахивая красивой фамильной тростью с набалдашником из слоновой кости, вышел из своей тихой и уединенной виллы на Зеештрассе, в Швабинге, вблизи Английского сада, коммерции советник Пауль Гессрейтер, один из присяжных в процессе Крюгера. Судебное заседание было по техническим причинам перенесено на одиннадцать часов, и он решил использовать свободное утро, чтобы прогуляться. Вначале он думал проехаться к Штарнбергскому озеру, в Луитпольдсбрунн, имение своей подруги, г-жи фон Радольной, выкупаться в озере и затем позавтракать у нее. На своем новом, купленном три недели назад, американском автомобиле он свободно поспел бы обратно к началу судебного заседания. Но по телефону ему ответили, что г-жа фон Радольная еще не вставала и не предполагает подняться сегодня раньше десяти часов.
Ленивой, упругой походкой, с медлительным изяществом шел Пауль Гессрейтер по залитому июньским солнцем Мюнхену. Несмотря на ясное небо и свежий, живительный воздух столь милой его сердцу Баварской возвышенности, он не ощущал обычного чувства удовлетворения и довольства самим собой, всем миром и своим родным городом. Он шел по широкой тополевой аллее вдоль Леопольдштрассе, вдоль палисадников и мирных домов. Мимо, весело звеня, мчались блестящие голубые трамвайные вагоны. По привычке он глядел на ноги садившихся в вагоны женщин, высоко открытые, согласно моде тех лет. С приветливой, сегодня несколько искусственной живостью отвечал на многочисленные поклоны.
Многие из встречных кланялись ему, кое-кто с завистью, большинство – доброжелательно. Да, хорошо жилось этому Гессрейтеру! Владелец бойко работавшей фабрики «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» и значительного состояния, перешедшего к нему по наследству, один из представителей уважаемого и очень богатого семейства, душа общества, хороший спортсмен, всегда любезный, прекрасно для своих сорока двух лет сохранившийся, он числился одним из пяти коренных мюнхенских бонвиванов. Нигде знакомые не бывали охотнее, чем в его доме на Зеештрассе и в Луитпольдсбрунне – поставленном на широкую ногу поместье его подруги.
Родной город г-на Гессрейтера, Мюнхен, с окружавшими его горами и озерами, с его значительными коллекциями и легкой, приятной для глаз архитектурой, с его карнавалом и празднествами, был лучшим городом во всей Германии; часть города, где жил Гессрейтер – Швабинг, – была самой красивой частью Мюнхена, дом Гессрейтера – самым красивым во всем Швабинге, а г-н Гессрейтер – лучшим человеком в своем доме. И все же сегодня он не получал удовольствия от прогулки. Он остановился под Триумфальной аркой. Над его головой возвышалась фигура Баварии, правившей четверкой львов, – величественная эмблема маленькой страны. Карие с поволокой глаза Гессрейтера, задумчиво щурясь, глядели на залитую солнцем Людвигштрассе. Но ее красивый, уютно опровинциализированный стиль ренессанс не доставлял ему обычного наслаждения. Он стоял, как-то неловко опираясь на трость, и в ту минуту этот обычно такой бодрый человек казался уже немолодым.
Неужели все дело в этом дурацком процессе? Ему следовало подчиниться первому побуждению – сразу же по получении повестки под каким-нибудь предлогом отказаться, не брать на себя роли присяжного. Как член аристократического Клуба господ, через свою приятельницу, баронессу Радольную, соприкасавшийся с кругами, близкими к бывшему двору, он с самого начала знал всю закулисную сторону крюгеровского процесса. А теперь вот он попал в самую гущу этой неприятной истории. Ему пришлось сидеть вчера, придется сидеть и сегодня, и завтра в большом судебном зале Дворца юстиции в ближайшем соседстве с ландесгерихтсдиректором Гартлем, доктором Крюгером, адвокатом Гейером, за одним столом с пятью другими присяжными: поставщиком двора Дирмозером, у которого он обычно покупал перчатки; антикваром Лехнером, действовавшим ему на нервы своим большим пестрым носовым платком, в который он часто и обстоятельно сморкался; учителем гимназии Фейхтингером, с напряженным, мучительным и явным непониманием следившим из-за больших стальных очков за ходом процесса; страховым агентом фон Дельмайером, принадлежавшим к числу лучших местных семей (одна из улиц даже носила ее имя), но опустившимся, ветреным и склонным к самым безвкусным шуткам; и, наконец, почтальоном Кортези, тяжеловесным, вежливым и старательным человеком, остро пахнувшим потом. Он ничего не имел против этих пяти лиц, но перспектива играть вместе с ними в процессе роль статиста не сулила никакого удовольствия. Он мало интересовался политикой, и ему казалось не совсем удобным устранить человека, использовав с этой целью данные им из рыцарских побуждений показания под присягой. Не следовало принимать участия в этой истории. Проклятое любопытство втянуло его в эту свинскую штуку. Вечно нужно ему во все вникать! Его привлекла запутанность дела этого незадачливого Мартина Крюгера. Вот теперь ему и приходится расплачиваться и эти чудесные июньские дни просиживать во Дворце юстиции.
Он прошел под Триумфальной аркой, миновал университет. Из расположенного слева здания, отведенного под духовные учебные заведения, показались одетые в черные сутаны студенты-богословы с грубыми, спокойными мужицкими лицами. Какой-то древний профессор церковного права с безжизненным взглядом и лицом, похожим на мертвый, обтянутый желтой кожей череп, волоча ноги, бродил среди мирно плескавшихся фонтанов. Так было всегда, так, должно быть, останется еще довольно долго, и в этом таилось что-то успокоительное. Но как-то резко критически глядел сегодня Гессрейтер на студентов. Напрягая взгляд своих подернутых поволокой глаз, он внимательно смотрел на важничавших молодых людей. Многие из них, в ловко сшитых практичных куртках из грубой материи, с туго затянутыми поясами, походили на спортсменов. Другие, тщательно одетые, с отрывистыми, как у военных, движениями, прежде были, вероятно, офицерами. Сейчас, не найдя себе применения в кино или где-нибудь в промышленности, они пытались путем поспешного, с неохотой воспринимаемого обучения проскользнуть в судебные или городские учреждения. Над стройными, тренированными телами он видел немало беззастенчивых физиономий, свидетельствовавших о некоторых технических и значительных спортивных способностях, о решимости во что бы то ни стало поставить рекорд. Но при всей своей напряженности лица эти все же казались ему странно вялыми, словно автомобильные шины, еще как будто упругие, но уже проколотые, так что из них вот-вот выйдет весь воздух.
Перед широким зданием государственной библиотеки мирно сидели на солнышке высеченные из камня четверо мужчин древнегреческого типа с обнаженным торсом. В школе он учил, кого они изображают. Теперь он этого, разумеется, уже не помнил. Если ежедневно проходишь мимо кого-нибудь, следовало, собственно, знать, кто это. Он как-нибудь обязательно наведет справку. Как бы там ни было, библиотека хорошая. Пожалуй, даже жаль предоставлять такую библиотеку этим юношам с физиономиями рекордсменов. Мало мюнхенцев было среди них, среди всех этих будущих учителей, судей, чиновников. Когда-то прекрасный, уютный город привлекал к себе все лучшие умы страны. Как же это могло случиться, что все они теперь куда-то исчезли, что на их место, словно следуя магическому притяжению, устремлялось сюда все гнилое и скверное, что нигде больше в стране не могло удержаться?
Понурый и ворчливый вернулся в этот вечер министр Флаухер в свою квартиру, которую несколько часов назад, предвкушая процесс Крюгера, он покинул в таком приподнятом настроении. Усталая, боязливо ощущая печаль своего хозяина, такса скользнула в свой уголок.
3. Шофер Ратценбергер и баварское искусство
Председательствующий, ландесгерихтсдиректор доктор Гартль, общительный блондин, сравнительно молодой – ему едва ли было пятьдесят, – с небольшой лысиной, был любителем изящества, ловкости в ведении судебных процессов. Среди баварских судебных чинов было не много столь же способных достойным образом вести процесс, привлекший внимание всей страны. Он знал поэтому, что правительству некому больше поручить это дело и что он может действовать, как ему заблагорассудится, лишь бы конечный результат, то есть в данном случае осуждение обвиняемого Крюгера, соответствовал политике кабинета. Богатый и независимый, честолюбивый судья чувствовал себя очень важной персоной. Не мешало показать правительству, что он умеет всесторонне использовать свои способности и представляет собой фактор, с которым необходимо считаться. Его истинно баварские, консервативные убеждения находились вне всяких подозрений. Умело подобранный состав присяжных являлся солидной страховкой. В смысле юридических знаний он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы, опираясь на гибкие параграфы, юридически обосновать любой приговор, – почему же не позволить себе роскошь такое громкое дело, как этот процесс Крюгера, провести утонченно-художественно, показать свое умение понять все человеческие слабости?
Руководствуясь безошибочным инстинктом в создании нарастания впечатлений, он ограничил допрос обвиняемого формальными вопросами, приберегая эффекты к тому моменту, когда внимание начнет ослабевать. Пришлось ждать довольно долго, пока наконец он не распорядился вызвать главного свидетеля обвинения.
При появлении шофера Франца Ксавера Ратценбергера все шеи вытянулись, к глазам поднялись лорнеты, и лихорадочно заработали зарисовщики больших газет. Маленький, толстенький, круглоголовый человек с светлыми усами, польщенный общим вниманием, выступал с важностью и деланой непринужденностью в непривычном и стеснявшем его черном сюртуке. Скрипучим голосом, на местном диалекте он обстоятельно отвечал на вопросы, касавшиеся его личности.
Безмолвно прислушивались присутствующие к нескладным, ничего в сущности не говорящим словам, которыми этот низкорослый человечек с крохотными глазками решительно подтверждал виновность Крюгера. Итак, три с половиной года назад, в ночь с четверга 23 на пятницу 24 февраля, он в три четверти второго вез обвиняемого Крюгера с какой-то дамой с Виденмайерштрассе до дома номер девяносто четыре по Катариненштрассе. Здесь доктор Крюгер вместе с дамой вышел из автомобиля и, расплатившись с ним, вместе с дамой вошел в дом. Крюгер во время разбирательства дисциплинарного дела, возбужденного вскоре после этого против ныне покойной Анны Элизабет Гайдер, под присягой показывал другое, а именно утверждал, что в ту ночь проводил свою даму до ее квартиры, а затем в том же автомобиле поехал дальше. Таким образом, если придавать веру словам шофера Ратценбергера, Крюгер был виновен в даче на суде под присягой заведомо ложных показаний.
Председатель с подчеркнутым беспристрастием, не дожидаясь вмешательства защитника доктора Гейера, поставил свидетелю на вид неправдоподобность его показаний. Описываемые события имели место три с половиной года назад. Как же мог Ратценбергер, перевезший за это время тысячи пассажиров, с такой точностью помнить все подробности, относившиеся к доктору Крюгеру и его спутнице? Не перепутал ли он дат или личностей? Дружелюбно-небрежным тоном, каким председатель суда имел обыкновение говорить с людьми из народа, продолжал он беседовать со свидетелем, вызвав даже беспокойство у прокурора.
Но шофер Ратценбергер был хорошо натаскан и не скупился на ответы. В других случаях он, мол, не мог бы с такой уверенностью говорить о личностях и сроках, но 23 февраля был день его рождения, он отпраздновал его и, собственно говоря, решил в эту ночь не работать. Все же он выехал, так как не был оплачен счет за электричество и его старуха ныла до тех пор, пока наконец он не решился выехать. (Корреспонденты отметили смех в зале при этих словах.) Было чертовски холодно, и он чертовски злился бы, если бы не удалось заполучить пассажира. Его стоянка была у Мауэркирхенштрассе, где живут богатые господа. Вот он и посадил пассажиров – этого самого господина Крюгера с дамой. Господа эти вышли из дома по Виденмайерштрассе, где все окна были освещены. По-видимому, там было какое-то большое празднество.
Все это он выложил своим скрипучим голосом с самым прямодушным видом, слегка причмокивая после каждой фразы и стараясь объясняться как можно яснее. Он производил впечатление порядочного человека и казался достойным доверия. Судьи, присяжные, журналисты и публика с интересом прислушивались к его показаниям.
Почему, – поинтересовался председатель (он также заговорил теперь на местном наречии, что привлекло к нему общие симпатии), – почему, собственно, Ратценбергер обратил внимание на то, что доктор Крюгер вместе с дамой вошел в дом по Катариненштрассе? Шофер ответил, что он и его товарищи всегда очень интересуются такими вещами, так как пассажир, провожающий даму и входящий с нею в дом, обычно не скупится на чаевые.
Каким образом он в темноте так ясно разглядел лицо обвиняемого, что теперь с уверенностью решается опознать его?
– Такого человека, как господин Крюгер, – помилуйте! – ответил шофер. – Его мудрено не узнать!
Присутствующие вглядываются в обвиняемого, рассматривают его крупное лицо, широкий лоб, низко заросший черными до блеска волосами, серые глаза под густыми темными бровями, большой мясистый нос, изогнутую линию рта. Да, правильно: это лицо легко было запомнить. Было вполне правдоподобно, что шофер мог и несколько лет спустя узнать его.
Обвиняемый сидел неподвижно. Его защитник, доктор Гейер, внушил ему, чтобы он сам не вмешивался в ход прений, предоставив это ему, защитнику. Доктор Гейер охотно также стер бы с лица обвиняемого залегшую в уголках его губ вызывающую улыбку, отнюдь не способную привлечь на его сторону симпатии присутствующих.
Адвокат, сухощавый белокурый человек с тонким крючковатым носом, с редкими волосами, с быстрыми голубыми глазами за толстыми стеклами очков, с трудом владевший своим нервным лицом, ясно понимал, что, задавая наводящие вопросы, председатель преследует цель не поколебать, а укрепить доверие к показаниям свидетеля. Для него стало ясно, что к возражению, будто шофер не может через три с лишним года помнить, как вел себя его пассажир, здесь хорошо подготовлены. Поэтому доктор Гейер решил повести на него наступление с другой стороны. Он сидел напряженный и готовый к действию, словно заведенный и уже вздрагивающий автомобиль, готовый рвануться с места. Легкая краска то покрывала его лицо, то сбегала с него. Настойчиво, не спуская своих зорких глаз с шофера, он принялся с самым невинным видом издалека перебирать его не внушавшее особого доверия прошлое.
Шофер Ратценбергер неоднократно менял места службы. Большую часть войны он провел в тылу, затем наконец попал на фронт, был засыпан в окопе землей и, ввиду тяжелого ранения, снова возвращен в тыл. Дома, опираясь по каким-то причинам на особую протекцию, добился возможности окончательно снять военную форму. Женился на девице, имевшей от него уже двоих довольно больших детей и получившей к этому времени маленькое наследство. На деньги жены он приобрел таксомотор. Детей, особенно своего сына Людвига, он по-своему грубо баловал, но жена его в то же время неоднократно обращалась в полицию с жалобами на нанесенные ей побои. Ходили также слухи и о каких-то семейных ссорах, во время одной из которых Франц Ксавер Ратценбергер ранил в голову своего брата и был уличен своими родными в наглой и грубой лжи. На него неоднократно поступали жалобы от владельцев и шоферов частных автомобилей за оскорбления и угрозы. Ратценбергер объяснял эти жалобы враждебностью частных автомобилистов, питавших, по его словам, особую ненависть к шоферам такси, управлявшим машинами лучше, чем эти господа. Кроме того, заявил он, после войны он был подвержен вспышкам гнева даже по самым незначительным поводам. Однажды, по непонятной даже ему самому причине, он покушался на самоубийство: неожиданно для всех, с криком: «Прощай, чудный край!» – соскочил с парома, переправлявшегося в окрестностях Мюнхена через Изар, но был выловлен из воды.
Адвокат Гейер выразил удивление, как это такому нервному человеку дано было разрешение на управление таксомотором. Известно было, что шофер Ратценбергер любил выпить. «Сколько?» – прозвучал настойчивый, неприятный голос доктора Гейера. «Примерно три литра в день». – «Иногда и больше?» – «Иногда и пять». – «Случалось, и шесть?» – «Случалось». – Не был ли однажды составлен полицейский протокол по поводу того, что он избил пассажира, не давшего ему на чай? – Возможно. Должно быть, этот прохвост чем-нибудь обидел его. Оскорблять себя он никому не позволит! – Дал ли ему доктор Крюгер в тот раз на чай? Как это так он не помнит? Но ведь как раз в связи с чаевыми он и приглядывается так внимательно к пассажирам, провожающим женщин. (Быстрый, звонкий голос адвоката словно ударял по свидетелю, явно смущая его.) Возил ли он обвиняемого когда-нибудь еще? Этого он также не помнит? Но ведь правда, что против него было возбуждено преследование и ему грозило лишение прав водителя такси?
Под градом сыпавшихся на него вопросов адвоката свидетель смущался все больше и больше. Он все чаще причмокивал, жевал свои рыжеватые усы и окончательно перешел на местный диалект, так что иногородние репортеры с трудом улавливали смысл его слов. Но тут вступился прокурор. Вопросы защитника не имеют-де прямого отношения к делу. Председатель из подчеркнутого человеколюбия по отношению к обвиняемому все же разрешил постановку вопросов.
Да, так вот: дело против него действительно было однажды возбуждено. Как раз по поводу этого якобы имевшего место избиения пассажира. Но это дело было прекращено. Показания этого пассажира, какого-то прохвоста, «чужака», желавшего лишь увильнуть от уплаты по таксе, не подтвердились.
Снова на мгновение вспыхнули краской щеки доктора Гейера. Он усиливал свое наступление. Не без труда принуждал он к покою свои узкие, покрытые тонкой кожей руки. Его высокий, звонкий голос впивался в свидетеля четко, неумолимо. Он пытался установить связь между нынешними показаниями шофера и возбужденным против него делом, грозившим ему лишением водительских прав. Он стремился доказать, что дело против шофера было прекращено, когда выяснилась возможность использовать показания Ратценбергера против Крюгера. Он подходил издалека, задавал самые невинные вопросы. Но недаром Ратценбергер, ища поддержки, поглядывал на председателя – доктор Гартль счел нужным вступиться. Здесь вырастала непроницаемая стена. Так и не стало известно суду, как неопределенны были первоначальные показания Ратценбергера, как перед ним в ходе допроса то вырисовывалась угроза потери прав водителя такси, то снова исчезала, пока его показания не приняли совершенно твердого характера. Не узнали слушатели и о нитях, тянувшихся от полиции к судебным властям, от судебных властей к министерству просвещения и вероисповеданий. Здесь все было смутно, неопределенно, неуловимо. Все же почва под ногами шофера Ратценбергера оказалась несколько поколебленной. Но под конец при поддержке председателя он с помощью ходячей остроты обеспечил себе приличное отступление: он, может, разочек в жизни и в самом деле был недостаточно вежлив с пассажиром, но пусть опросят кого угодно – любой шофер в городе ездит лучше, когда в брюхе у него переливаются кружки две пива. После этого его отпустили, и он удалился, убежденный, что по совести выполнил свои свидетельские обязанности. Он уносил с собой симпатии многих, твердые надежды на хорошие чаевые и полную уверенность, что, если опять какой-нибудь наглый пассажир станет обвинять его в насилии, такси все равно останется за ним.
Вслед за этим суд занялся выяснением подробностей вечеринки, предшествовавшей злополучной поездке на автомобиле. Эта вечеринка происходила в последний год войны. Одна дама, родом из Вены, пригласила к себе человек тридцать гостей. Квартира была убрана мило, без особых претензий. Пили, танцевали. Жильцы из нижней квартиры, по ряду причин относившиеся к венке недоброжелательно, вызвали полицию – было-де величайшим безобразием пить и плясать во время войны. Полиция переписала гостей. Лиц, по возрасту подлежащих призыву в армию и не имевших протекции, несмотря на признанную ранее непригодность к военной службе или «броню», вслед за этим отправили на фронт.
Дама, устраивавшая вечеринку, дружила с левыми депутатами ландтага, поэтому власти постарались по возможности раздуть этот инцидент. Безобидные танцы были в мгновение ока превращены в отвратительную оргию. Красочные подробности якобы происходивших там непотребных действий передавались из уст в уста. Даму выслали из Баварии. Ее муж, занимавший видное положение, умер за два года перед тем. У нее остался от него ребенок. Родственники мужа сейчас же предприняли ряд шагов с целью устранить ее от опекунства над ребенком, ссылаясь на ее предосудительное поведение. Мюнхенские обыватели, возбужденно улыбаясь и смакуя, передавали друг другу все более сочные подробности того вечера; они с возмущением, но всегда с большим интересом распространялись об утонченных наслаждениях, свидетельствующих о падении нравов всякого рода «чужаков». Термином «чужак» в Мюнхене обозначался всякий, кто по своему внешнему виду, образу жизни или хотя бы дарованиям выделялся из общей массы среднего класса.
Отрицал ли доктор Крюгер, что вместе со своей дамой присутствовал на вечеринке на Виденмайерштрассе? Нет. Путем сложного сопоставления доказательств обвинение пыталось установить правдоподобие показаний шофера: чувственная атмосфера, царившая на вечеринке, создала-де предпосылки к тому, что Крюгер вместе со своей дамой поднялся к ней в квартиру. Прокурор потребовал дальнейшего ведения заседания при закрытых дверях ввиду опасности, грозившей общественной нравственности. Гейеру удалось отвести этот удар, главным образом благодаря тому, что председателю не хотелось лишиться симпатии публики, начавшей при таком предложении выражать неудовольствие. Но затем тут же, в открытом заседании, начались картинные описания происходившего на вечеринке: разбросанных по полу подушек, бесстыдных, чрезвычайно чувственных танцев, тусклого, создававшего определенное настроение освещения.
Доктор Гейер счел нужным заметить, что, если на вечере действительно царило такое приподнятое настроение, доктор Крюгер вряд ли бы так рано удалился. На это прокурор очень ловко возразил, что именно возбуждающая обстановка вечера и вызвала у обвиняемого стремление остаться со своей дамой наедине. Председатель, придерживаясь примирительного, всепонимающего тона, умудрялся извлекать из показаний свидетелей все больше мелких черточек, как будто вполне невинных, но в освещении прокурора казавшихся крайне двусмысленными. Присутствовали ли на вечере лица обоего пола? Не лежали ли гости на раскиданных всюду подушках? Не подавались ли возбуждающие кушанья, например немецкая икра?
Подвергли допросу и даму, устраивавшую вечеринку. Не присутствовали ли на этом вечере одновременно двое мужчин, с которыми она когда-то была в связи? Не танцевала ли она с обоими? Не оказала ли она сопротивления при появлении полиции? Не вступила ли она с полицейскими в драку? – Свидетельница, пышная, крупная женщина с красивым, полным лицом, страдала от духоты плохо проветренного помещения. Ее показания звучали нервно, истерично. Она вызывала в публике смех и то полупрезрительное благожелательство, с каким местные жители обычно относятся к продажным женщинам. Из ее показаний выяснилось, что она вовсе не вступала в драку с полицейскими: она всего только – когда один из полицейских схватил ее за плечо, – не оборачиваясь, ударила по его руке веером. Осуждена она была не за сопротивление властям, а лишь за нарушение предписаний о нормах потребления угля и электричества, так как свет горел одновременно более чем в одной комнате. Но, в то время как насилие шофера Ратценбергера по отношению к пассажиру встретило среди присутствовавших благодушное сочувствие, удар веером, нанесенный этой дамой, вызвал двусмысленные улыбки и покачивание головой. Здесь было во всяком случае лишнее доказательство распущенности, царившей среди этих «чужаков». Публика была вполне удовлетворена. Она испытывала приятное возбуждение и даже склонна была признать «наличие смягчающих вину обстоятельств» для обвиняемого.
Все-таки, несмотря на все искусство доктора Гейера, суду удалось добиться того, что все слушатели прониклись уверенностью в виновности Крюгера.
Шофер Ратценбергер, празднуя в тот же вечер в ресторанчике «Гайсгартен» свое выступление на суде, был окружен знаками всеобщего уважения своих постоянных собутыльников, завсегдатаев этого заведения. Даже родные, обычно считавшие его лодырем и прохвостом, в этот вечер готовы были признать его молодчиной, а жена, много раз жаловавшаяся на мужа в полицию за избиения и знавшая, что он женился на ней только ради возможности приобрести таксомотор и рад был бы от нее избавиться, в этот вечер была влюблена в него.
Но с большим восхищением, чем кто-либо из присутствовавших, внимал ему в этот вечер сын его Людвиг Ратценбергер, юноша с приятной внешностью. Почтительно глотал он каждое слово, медлительно выползавшее из-под обкусанных, мокрых от пивной пены отцовских усов. Никогда Людвиг Ратценбергер не испытывал ни малейшего уважения к своей вечно ноющей матери. Даже тогда, когда вместе с сестричкой нес за матерью шлейф при ее позднем венчании, даже и тогда питал он к этой жалкой женщине что-то вроде презрения. А отец – разве не был он всегда и всюду воплощением представительности?
Смутно, но сладострастно вспоминал Людвиг Ратценбергер, как отец, когда Людвиг еще не умел ходить, при помощи тряпки вливал в его жадный ротик пиво. Брань и проклятия отца, наполнявшие комнату, казались мальчику образцом мужественности. А позднее – часы восторга, когда отец – нарушая правила, так как Людвиг был еще слишком молод, – учил его управлять машиной! А блаженство сумасшедшей ночной езды на машинах, владельцы которых вовсе не были бы в восторге, если бы знали об этих экскурсиях! А какое огромное впечатление произвел на мальчика случай, когда отец, поссорившись из-за какого-то пустяка с одним автомобилистом, обругал его, а затем, в отместку за дерзкий ответ, проколол камеру стоявшей на улице машины врага. Людвиг и сейчас еще видел, как крался отец к машине и как он был счастлив после свершенной мести. И теперь, когда отца осыпали похвалами и посетители «Гайсгартена», и газеты, когда слава венчала всю его предшествующую жизнь, сердце мальчика ширилось в груди от восторга. Но оппозиционная пресса и некоторые газеты других провинций Германии высказывали свои соображения о связи между памятью шофера Ратценбергера и взглядами на искусство официальных кругов Баварии. Ведь если бы шофер Ратценбергер не запомнил так хорошо лицо этого Крюгера, невозможно было бы уволить последнего со службы и убрать картины, помещение которых в галерее он так упрямо отстаивал.
4. Несколько слов о юстиции тех лет
В те годы, после великой войны, юстиция на всем земном шаре больше, чем когда-либо, находилась под политическими влияниями.
В Китае во время гражданской войны правительство, в данный момент побеждавшее, вешало и расстреливало по суду за несовершенные преступления чиновников всех рангов, ранее служивших побежденному правительству.
В Индии вежливые судьи-империалисты, на основании спорных и чисто формальных юридических доводов, присуждали к многолетнему тюремному заключению вождей национального движения за написание различных статей и книг, в то же время почтительно раскланиваясь перед благородством и твердостью их убеждений.
В Румынии, Венгрии, Болгарии обвиняемые евреи и социалисты после нелепой судебной комедии тысячами подвергались повешению, расстрелу или пожизненному тюремному заключению за якобы совершенные ими преступные деяния, в то самое время как националистов, если уж их привлекали к суду, оправдывали или подвергали ничтожным наказаниям (отменявшимся затем по амнистии) за действительно совершенные ими преступления.
Нечто подобное происходило и в Германии.
В Италии сторонники находившейся у власти диктатуры, уличенные в совершении убийства, оправдывались судом, а противники этой диктатуры изгонялись по постановлению тайного суда из страны, и имущество их конфисковывалось.
Во Франции оправдывали офицеров оккупационной Французской армии, обвиняемых в убийстве немцев. В то же время арестованные во время уличных столкновений парижские коммунисты присуждались к долголетнему тюремному заключению за недоказанные, якобы совершенные ими насилия.
В Англии примерно так же поступали с деятелями национального движения в Ирландии. Некоторые из них погибали от голодовки.
В Америке были освобождены члены националистического клуба, подвергшие линчеванию ни в чем не повинных негров. Иммигранты-итальянцы, коммунисты, обвиненные в убийстве, несмотря на убедительные алиби, были присуждены присяжными довольно крупного американского города к смерти на электрическом стуле.
Все это совершалось во имя «республики», или «народа», или «короля», и во всяком случае – во имя «права».
Дело Крюгера, как и ряд других подобных дел, рассматривалось в суде в июне одного из тех годов в Германии, в провинции, именуемой Баварией. Германия в то время была еще разделена на ряд отдельных самостоятельных провинций; Бавария включала в себя баюварские, алеманские, франкские территории, а также, странным образом, часть левого берега Рейна, так называемый Пфальц.
5. Господин Гессрейтер демонстрирует
В модном сером костюме, легко помахивая красивой фамильной тростью с набалдашником из слоновой кости, вышел из своей тихой и уединенной виллы на Зеештрассе, в Швабинге, вблизи Английского сада, коммерции советник Пауль Гессрейтер, один из присяжных в процессе Крюгера. Судебное заседание было по техническим причинам перенесено на одиннадцать часов, и он решил использовать свободное утро, чтобы прогуляться. Вначале он думал проехаться к Штарнбергскому озеру, в Луитпольдсбрунн, имение своей подруги, г-жи фон Радольной, выкупаться в озере и затем позавтракать у нее. На своем новом, купленном три недели назад, американском автомобиле он свободно поспел бы обратно к началу судебного заседания. Но по телефону ему ответили, что г-жа фон Радольная еще не вставала и не предполагает подняться сегодня раньше десяти часов.
Ленивой, упругой походкой, с медлительным изяществом шел Пауль Гессрейтер по залитому июньским солнцем Мюнхену. Несмотря на ясное небо и свежий, живительный воздух столь милой его сердцу Баварской возвышенности, он не ощущал обычного чувства удовлетворения и довольства самим собой, всем миром и своим родным городом. Он шел по широкой тополевой аллее вдоль Леопольдштрассе, вдоль палисадников и мирных домов. Мимо, весело звеня, мчались блестящие голубые трамвайные вагоны. По привычке он глядел на ноги садившихся в вагоны женщин, высоко открытые, согласно моде тех лет. С приветливой, сегодня несколько искусственной живостью отвечал на многочисленные поклоны.
Многие из встречных кланялись ему, кое-кто с завистью, большинство – доброжелательно. Да, хорошо жилось этому Гессрейтеру! Владелец бойко работавшей фабрики «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» и значительного состояния, перешедшего к нему по наследству, один из представителей уважаемого и очень богатого семейства, душа общества, хороший спортсмен, всегда любезный, прекрасно для своих сорока двух лет сохранившийся, он числился одним из пяти коренных мюнхенских бонвиванов. Нигде знакомые не бывали охотнее, чем в его доме на Зеештрассе и в Луитпольдсбрунне – поставленном на широкую ногу поместье его подруги.
Родной город г-на Гессрейтера, Мюнхен, с окружавшими его горами и озерами, с его значительными коллекциями и легкой, приятной для глаз архитектурой, с его карнавалом и празднествами, был лучшим городом во всей Германии; часть города, где жил Гессрейтер – Швабинг, – была самой красивой частью Мюнхена, дом Гессрейтера – самым красивым во всем Швабинге, а г-н Гессрейтер – лучшим человеком в своем доме. И все же сегодня он не получал удовольствия от прогулки. Он остановился под Триумфальной аркой. Над его головой возвышалась фигура Баварии, правившей четверкой львов, – величественная эмблема маленькой страны. Карие с поволокой глаза Гессрейтера, задумчиво щурясь, глядели на залитую солнцем Людвигштрассе. Но ее красивый, уютно опровинциализированный стиль ренессанс не доставлял ему обычного наслаждения. Он стоял, как-то неловко опираясь на трость, и в ту минуту этот обычно такой бодрый человек казался уже немолодым.
Неужели все дело в этом дурацком процессе? Ему следовало подчиниться первому побуждению – сразу же по получении повестки под каким-нибудь предлогом отказаться, не брать на себя роли присяжного. Как член аристократического Клуба господ, через свою приятельницу, баронессу Радольную, соприкасавшийся с кругами, близкими к бывшему двору, он с самого начала знал всю закулисную сторону крюгеровского процесса. А теперь вот он попал в самую гущу этой неприятной истории. Ему пришлось сидеть вчера, придется сидеть и сегодня, и завтра в большом судебном зале Дворца юстиции в ближайшем соседстве с ландесгерихтсдиректором Гартлем, доктором Крюгером, адвокатом Гейером, за одним столом с пятью другими присяжными: поставщиком двора Дирмозером, у которого он обычно покупал перчатки; антикваром Лехнером, действовавшим ему на нервы своим большим пестрым носовым платком, в который он часто и обстоятельно сморкался; учителем гимназии Фейхтингером, с напряженным, мучительным и явным непониманием следившим из-за больших стальных очков за ходом процесса; страховым агентом фон Дельмайером, принадлежавшим к числу лучших местных семей (одна из улиц даже носила ее имя), но опустившимся, ветреным и склонным к самым безвкусным шуткам; и, наконец, почтальоном Кортези, тяжеловесным, вежливым и старательным человеком, остро пахнувшим потом. Он ничего не имел против этих пяти лиц, но перспектива играть вместе с ними в процессе роль статиста не сулила никакого удовольствия. Он мало интересовался политикой, и ему казалось не совсем удобным устранить человека, использовав с этой целью данные им из рыцарских побуждений показания под присягой. Не следовало принимать участия в этой истории. Проклятое любопытство втянуло его в эту свинскую штуку. Вечно нужно ему во все вникать! Его привлекла запутанность дела этого незадачливого Мартина Крюгера. Вот теперь ему и приходится расплачиваться и эти чудесные июньские дни просиживать во Дворце юстиции.
Он прошел под Триумфальной аркой, миновал университет. Из расположенного слева здания, отведенного под духовные учебные заведения, показались одетые в черные сутаны студенты-богословы с грубыми, спокойными мужицкими лицами. Какой-то древний профессор церковного права с безжизненным взглядом и лицом, похожим на мертвый, обтянутый желтой кожей череп, волоча ноги, бродил среди мирно плескавшихся фонтанов. Так было всегда, так, должно быть, останется еще довольно долго, и в этом таилось что-то успокоительное. Но как-то резко критически глядел сегодня Гессрейтер на студентов. Напрягая взгляд своих подернутых поволокой глаз, он внимательно смотрел на важничавших молодых людей. Многие из них, в ловко сшитых практичных куртках из грубой материи, с туго затянутыми поясами, походили на спортсменов. Другие, тщательно одетые, с отрывистыми, как у военных, движениями, прежде были, вероятно, офицерами. Сейчас, не найдя себе применения в кино или где-нибудь в промышленности, они пытались путем поспешного, с неохотой воспринимаемого обучения проскользнуть в судебные или городские учреждения. Над стройными, тренированными телами он видел немало беззастенчивых физиономий, свидетельствовавших о некоторых технических и значительных спортивных способностях, о решимости во что бы то ни стало поставить рекорд. Но при всей своей напряженности лица эти все же казались ему странно вялыми, словно автомобильные шины, еще как будто упругие, но уже проколотые, так что из них вот-вот выйдет весь воздух.
Перед широким зданием государственной библиотеки мирно сидели на солнышке высеченные из камня четверо мужчин древнегреческого типа с обнаженным торсом. В школе он учил, кого они изображают. Теперь он этого, разумеется, уже не помнил. Если ежедневно проходишь мимо кого-нибудь, следовало, собственно, знать, кто это. Он как-нибудь обязательно наведет справку. Как бы там ни было, библиотека хорошая. Пожалуй, даже жаль предоставлять такую библиотеку этим юношам с физиономиями рекордсменов. Мало мюнхенцев было среди них, среди всех этих будущих учителей, судей, чиновников. Когда-то прекрасный, уютный город привлекал к себе все лучшие умы страны. Как же это могло случиться, что все они теперь куда-то исчезли, что на их место, словно следуя магическому притяжению, устремлялось сюда все гнилое и скверное, что нигде больше в стране не могло удержаться?