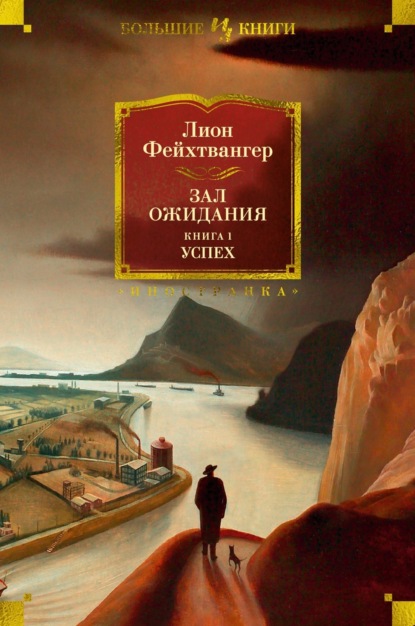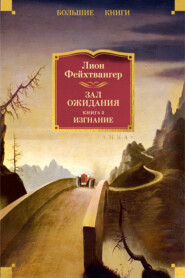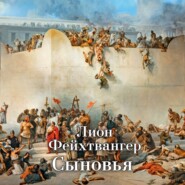По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зал ожидания. Книга 1. Успех
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это мне известно, – ответил адвокат. – Но вы видите – шофер Ратценбергер, например, точно запомнил время. Я спросил его, в котором часу господин Крюгер вышел из автомобиля, и он ответил, что сейчас же после двух. Никто не придал особенного значения этому показанию, но оно занесено в протокол.
– Я постараюсь все хорошенько вспомнить, – медленно произнесла Иоганна Крайн. – А что, если мне удастся с точностью установить, что в два часа ночи Мартин Крюгер был уже у меня? – добавила она.
– Тогда доверие к показаниям шофера было бы во всяком случае значительно поколеблено, – быстро ответил адвокат.
Он взял в руки газету, развернул ее; в глаза бросился рисунок с лицами присяжных, легкомысленное лицо присяжного фон Дельмайера.
– Вероятно, и тогда шоферу больше поверят, чем вам, – проговорил Гейер, тщательно складывая газету – Все же при таких условиях ваши показания имеют смысл.
– Я все хорошенько вспомню, – сказала Иоганна Крайн и поднялась. Она стояла перед ним, – широкое ясное лицо, серые смелые глаза над коротким носом, упругие губы, – высокая баварская девушка, твердо решившая хотя бы с опасностью для себя помочь своему неблагоразумному другу выпутаться из глупой истории.
– И все-таки, – еще раз повторил адвокат, – я советую вам отказаться от показаний, особенно если вы не можете совершенно точно вспомнить час.
Иоганна пожала своей несколько широкой грубоватой рукой узкую, покрытую тонкой кожей руку адвоката и вышла.
Из окна смежной комнаты ей вслед смотрело коричневато-желтое, под копною черных растрепанных волос, лицо экономки Агнесы, и глаза ее напряженно и страстно следили за тем, как Иоганна в своем кремовом, плотно облегавшем ее костюме шла, освещенная лучами июньского солнца.
Доктор Гейер, жалкий и обессиленный, сидел за покрытым разбросанными газетами столом. Эта девушка, эта Крайн была слишком хороша для Крюгера. Эта девушка, несмотря на то что была баваркой с широким баварским лицом и характерным баварским говором, имела некоторое сходство… Но ведь он решил не думать об этом, не думать о мальчике, не думать о его матери. Она умерла, все было изжито, кончено.
Он поднялся, слегка закряхтев. Заметил, что ужасно измазал свой костюм. Позвонил. Вошла экономка. Он закричал на нее: когда она не нужна, то вечно всюду суется, а когда она понадобится, то ее нет как нет. Она огрызнулась своим нервным, скрипучим голосом – сердито и многословно. Хоть теперь-то пусть он наденет костюм, который она для него приготовила. Но он уже не слушал ее и уселся за стол, делая пометки на полях газеты, а может быть, просто рисуя на них завитушки.
Даже тогда, когда экономка давно уже удалилась, он все еще продолжал сидеть так. Болели глаза, и он опустил слегка воспаленные веки под толстыми стеклами очков. Он казался старым и утомленным и не мог, несмотря на обычное умение владеть собой, удержаться от мыслей о свидетельнице Иоганне Крайн и тут же не вспомнить о некоей Эллис Борнгаак, уроженке Северной Германии, давно уже покойной.
9. Политики баварской возвышенности
Хотя прекрасный воскресный день многих увлек в горы и к озерам, все же «Тиролер вейнштубе» в это июньское утро была переполнена людьми. Все окна были раскрыты навстречу солнцу, но в обширном помещении царил приятный полумрак. Густой дым сигар стлался над массивными деревянными столами. Посетители ели маленькие хрустящие, поджаренные свиные сосиски или посасывали толстую, сочную ливерную колбасу, в то же время высказывая основательные суждения по вопросам искусства, философии и политики.
В воскресные послеобеденные часы в «Тиролер вейнштубе» собирались преимущественно политические деятели. Они сидели здесь в черных праздничных сюртуках, развязные и самоуверенные. Бавария была автономным государством, и быть баварским политиком – кое-чего да стоило!
Если в то время Европа состояла из многочисленных суверенных государств, одним из которых являлась Германия, то Германия в свою очередь распадалась на восемнадцать союзных государств. Эти страны, и в том числе Бавария, несмотря на то что в силу своей хозяйственной структуры давно уже превратились в провинции, ревниво охраняли свою обособленность. У них были свои традиции, свои «исторические чувства», свои «племенные особенности», свои кабинеты министров. Восемьдесят министров, две тысячи триста шестьдесят пять парламентариев правили Германией. Носители громких титулов, заседавшие в этих союзных правительствах, все эти президенты, министры, депутаты ландтагов не желали исчезнуть с политической арены или в лучшем случае превратиться в провинциальных чиновников. Они не желали признать, что их «государства» давно выродились в провинции. Они всеми силами противились этому, ораторствовали, властвовали, управляли, стремясь доказать свою самостоятельную государственную значимость. Баварские министры и парламентарии в этой борьбе союзных стран с общегерманским правительством играли руководящую роль, находили в защиту автономии союзных стран самые сочные выражения. Выступали с особенно развязной самоуверенностью.
Отблеск этой роли падал и на представителей оппозиции, соратников доктора Гейера. Несмотря на то что они, согласно своей программе, боролись против баварского партикуляризма, они также, благодаря политической структуре Германии, находились до некоторой степени в центре большой политики, чувствовали себя значительными, и воскресные предобеденные часы в «Тиролер вейнштубе» представлялись им чуть ли не историческими.
Они, эти деятели политической оппозиции, устраивались не в маленькой, более дорогой, боковой комнате, а с подчеркнутой простотой в битком набитом людьми главном зале. Чужой всем, худой, с измученным лицом, сидел доктор Гейер между двумя лидерами своей фракции г-дами Иозефом Винингером и Амбросом Грунером. Сразу по приходе он заглянул в соседнюю комнату, где часто бывал министр юстиции. Но он увидел не Кленка, а лишь тяжеловесного Флаухера. Слегка разочарованный отсутствием врага и все же, под влиянием усталости, довольный тем, что не придется бороться, Гейер сидел, торопливо, без всякого удовольствия глотал вино, сквозь табачный дым приглядывался к лицам своих соседей по столу. Иозеф Винингер принадлежал к обычному типу местных «круглоголовых». Над бледно-розовыми, обрамленными белокурой растительностью щеками выглядывали добродушные водянистые глаза. Медленно, миролюбиво, вместе с кусками сосисок, прожевывал он отрывки фраз. Амброс Грунер, напротив, вызывающе закручивал усы, сидел, по-фельдфебельски подобрав живот, терся им о стол и в сильных выражениях громил правительство. Что, собственно, нужно было доктору Гейеру среди этих людей? Он знал наверняка: как ни отличны друг от друга эти два человека, они одинаково будут реагировать на слова министра просвещения, поддадутся на приманку грубовато-простодушного обращения. У них была одинаковая душевная основа, они все, невзирая на социалистическую болтовню, одинаково увязли в липкой тине крестьянской идеологии.
Из соседней комнаты теперь явственно доносился ворчливый голос доктора Флаухера. За его столом шумно спорили о Бисмарке, об особых правах Баварского эмиссионного банка, о причинах смерти только что извлеченного из гробницы египетского царя Тутанхамона, о качестве пива завода «Шпатенбрей», о транспортной политике Советской России, о зобе – природной болезни местного населения, об экспрессионизме, о достоинствах кухни ресторана у Штарнбергского озера. Снова и снова разговор возвращался к автопортрету Анны Элизабет Гайдер. Из галереи Новодного просачивались слухи о том, что портрет продан в Мюнхен лицу с видным общественным положением, продан за круглую сумму. Кому именно – оставалось неизвестным. Высказывали предположение, что барону Рейндлю, крупному промышленнику. Спорили о достоинствах картины. Писатель Маттеи собирался в следующем номере своего журнала поместить стихотворение, о котором вчера говорил Гессрейтеру. Оно в голове его уже было готово. Он прочел вслух звучные, сальные строфы, полные яда. Из-за стекол пенсне этот человек с исполосованным сабельными рубцами лицом следил, словно жадный пес, за производимым его стихами впечатлением. За столом раскатисто хохотали, пили за его здоровье. Он сидел откинувшись, держа трубку в зубах, сытый, удовлетворенный. Но другой писатель, доктор Пфистерер, также непременный член этого общества, нашел стихотворение циничным. По его мнению, Анна Элизабет Гайдер, если бы только ее так не травили, сама вернулась бы к здравому смыслу. Доктор Пфистерер, так же как и доктор Лоренц Маттеи, носил серую куртку и также писал длинные рассказы о жизни в баварских горах, создавшие ему широкую популярность во всей Германии. Но его рассказы были оптимистичны, трогали душу, возвышали; он верил в доброе начало в людях, за исключением разве только Маттеи, которого ненавидел. Они сидели друг против друга, эти два баварских писателя, с багровыми лицами и мерили друг друга из-за стекол пенсне взглядами своих узких глазок. Неуклюжий, с исполосованным рубцами лицом держал голову наклоненной, другой – беспомощно и возбужденно выставлял вперед седеющую рыжую бороду.
Все кричали, перебивая друг друга. Победителем в этом крике оказался в конце концов, несмотря на то что он не был особенно громким, голос профессора Бальтазара фон Остернахера. С гибкой, настойчивой изысканностью заглушая все остальные голоса, ратовал он против умершей девушки. Кто посмеет сказать, что он не революционер? Не стоял ли он всегда за безусловную свободу в искусстве, даже и в изображении эротики? Но такая живопись представляла собой вполне определенный физиологический процесс: это был акт самоудовлетворения неудовлетворенной женщины, не имевший ничего общего с искусством.
Кельнерша Ценци, прислонясь к буфету, слушала и с беспокойством видела, что профессор Остернахер в пылу увлечения дает остыть своим сосискам. Она отлично разбиралась в установках своих клиентов по отношению к тем или иным вопросам. Ей многое приходилось слышать. Не бог весть как трудно было сопоставлять одно с другим. Она могла бы вскрыть подноготную многих событий в области политики, хозяйства и искусства. Она знала и то, почему так горячился профессор Остернахер и давал остыть стоявшим перед ним сосискам.
Большой человек этот профессор, знаток истории искусства, знаменитый и высоко оплачиваемый, особенно по ту сторону океана. Приезжие, когда она называла им его имя, с любопытством и уважением поглядывали на него. Но кассирша Ценци хорошо помнила его искаженное лицо, когда однажды кто-то из его прихвостней донес ему, что Крюгер отозвался о нем как о «способном декораторе». Она прекрасно понимала, что факт покупки пропагандируемой этим Крюгером картины, да еще мюнхенцем, да еще за высокую цену, он принял за личное оскорбление. Она знала его лучше, чем знали его даже жена и дочь. Да, он действительно когда-то был революционером в своей манере письма. Но он застыл в этой манере, а мода на нее оказалась преходящей. Он постарел и, когда ему казалось, что никто не наблюдает за ним – Ценци знала это, – постариковски горбился. Ценци хорошо угадывала его настроение, когда он бранился. Ведь это он, собственно, не на других нападал, а его кололо, злило, мучило собственное крушение. В таких случаях она особенно мягко, по-матерински обращалась с ним и успокаивала его до тех пор, пока, охрипший от злобного напряжения, он не принимался за остывшие сосиски.
В шум кипевших кругом споров ворвался звук подкатившего новехонького темно-зеленого автомобиля. Из него вышел человек с добродушно-хитрым, морщинистым сияющим мужицким лицом – Андреас Грейдерер, художник, написавший «Распятие». Широко шагая, доверчиво направился он к столу своих знаменитых коллег. Они всегда терпели его в своем обществе: ведь о нем не могло быть речи как о конкуренте. Наивное крестьянское остроумие и умение ловко играть на губной гармонике давали ему возможность занимать свое постоянное место в этом кругу. Но сегодня, когда он, добродушно подшучивая над своим чертовски неожиданным успехом, подошел к ним, его встретили с кислыми, недоступными лицами. Никто не выразил склонности отодвинуться, чтобы освободить для него место. Наступило молчание. С другой стороны площади, из пивной, донеслись звуки духового оркестра, игравшего популярную песню «Томится в Мантуе в окопах верный Гофер…». Смущенный холодным приемом, Грейдерер вернулся назад в общий зал, натолкнулся там на представителей оппозиции. При других условиях господа Винингер и Грунер демонстративно приветливо встретили бы художника, подвергшегося преследованиям со стороны министра просвещения. Но сегодня они очень скоро постарались отделаться от него, предугадывая, что его присутствие помешает столь желанной воскресной добродушно-воинственной беседе с «большеголовыми». Они становились все более односложными, пили, курили, ограничиваясь ничего не выражавшим хмыканьем. Художник долго не замечал, что именно он является причиной этого кислого настроения. Но наконец, почуяв, в чем дело, он удалился в своем темно-зеленом автомобиле, провожаемый взглядами всех присутствующих.
Зато теперь вместо него к столу в главном зале подошли наконец министр Флаухер и писатель доктор Пфистерер. Дело в том, что, согласно создавшемуся обычаю, министры правящей партии, льстя таким образом мещанскому самолюбию оппозиции, в предобеденные воскресные часы, за утренней кружкой пива, подходили к столу депутатов и вступали с ними в безобидные споры. Вот они сидели здесь, все эти политики Баварской возвышенности. Вежливо беседовали друг с другом, осторожно нащупывали слабые места противника. Франц Флаухер, облекший свое короткое, грузное тело в поношенный долгополый черный сюртук, в чем-то убеждал г-на Винингера, изредка что-то бурча себе под нос, стараясь быть очень вежливым. Писатель Пфистерер завладел Амбросом Грунером, добродушно похлопывал его по плечу.
Доктору Гейеру все четверо мужчин казались вылепленными из одного теста, из безвкусного баварского теста: хитрые, узколобые, лишенные горизонта, угловатые, как ущелья их родных гор. Их грубые голоса, привыкшие пробиваться сквозь гомон шумных собраний, пивные пары и дым скверных сигар, старались смягчиться до сдержанного, приветливого тона. Они говорили вымученно-литературным немецким языком, то и дело сбиваясь на жесткое и протяжное местное наречие. Тяжелые и массивные, сидели они на крепких деревянных стульях, улыбаясь друг другу с грубоватой вежливостью, – хитрые торговцы скотом, не склонные при заключении какой-либо сделки чрезмерно доверять друг другу.
Разговор вертелся вокруг вопроса о недавно введенной возрастной норме для государственных чиновников. Государственные служащие, достигшие шестидесяти шести лет, должны были уходить на пенсию, и только в исключительных случаях правительство могло разрешить особо незаменимым чиновникам продолжать службу. Такого рода исключение министр Флаухер хотел сделать и по отношению к одному из профессоров-историков Мюнхенского университета, тайному советнику Каленеггеру, давно уже перешагнувшему за положенный предельный возраст. Дело в том, что в Мюнхенском университете на кафедре истории имелось три профессуры. Назначение на одну из них, согласно заключенному с папой конкордату, требовало утверждения епископской властью, и, следовательно, ее занимал благонадежный католик. Вторая предназначалась для специалиста по истории Баварии, и, естественно, ее также занимал благонадежный католик. Третья, наиболее значительная, когда-то основанная королем Максом II специально для знаменитого исследователя Ранке, в настоящее время была занята тайным советником Каленеггером. Каленеггер свою жизнь и все свои исследования посвятил изучению биологических законов города Мюнхена. С маниакальным усердием подбирал он материалы, неизменно все явления геологического, палеонтологического, биологического характера связывая с историей Мюнхена и стремясь доказать, что Мюнхен, в силу всех законов природы, должен был быть и неизбежно оставаться и в будущем крестьянским земледельческим центром. При этом он никогда не впадал в противоречия с учением церкви и проявил себя как благонадежный католик. Правда, за пределами города Мюнхена результаты исследований Каленеггера считались нелепостью, так как маститый ученый совершенно упускал из виду как создавшуюся в связи с развитием техники независимость человека от местного климата, так и социальные сдвиги последних столетий. Факультет предполагал, в случае ухода Каленеггера на пенсию, предложить на эту должность ученого, хотя и коренного баварца, но протестанта. Мало того: этот ученый в одной из своих работ о политике Ватикана пришел к заключению, что папская власть по отношению к английской королеве Елизавете поступала несоответственно с законами христианской морали, ибо заранее знала о покушениях на убийство английской королевы, подготовлявшихся Марией Стюарт, и одобряла их. На этом основании доктор Флаухер твердо решил противодействовать назначению такого кандидата и не распространять на профессора Каленеггера закона о возрастной норме.
В то время как Флаухер пространно, в восторженном тоне расписывал значение Каленеггера, доктор Гейер приглядывался к старику-профессору, сидевшему в соседней комнате за столом «большеголовых». Долговязый, неуклюжий, несмотря на худобу, сидел он на своем стуле; костлявая узкая голова с широким горбатым носом поворачивалась на неимоверно длинной высохшей шее. Странно беспомощные, тупые птичьи глаза обводили взглядом присутствующих. Изредка старец откуда-то из глубины гортани извлекал хотя и громкий, но какой-то бессильно-напряженный голос, изрекал несколько плавных, словно готовых к печати, безжизненных фраз. Доктор Гейер думал о том, как давно уже иссякли умственные способности этого старца. Весь научный мир Германии постепенно начинал смеяться над этим человеком. Ведь он все последние десять лет посвятил служению одной идее: он изучал историю слонового чучела, хранившегося в мюнхенском зоологическом музее, того самого, которое после неудачного нападения султана Сулеймана II на Вену попало в руки императора Максимилиана II и было впоследствии подарено им баварскому герцогу Альбрехту V.
Доктор Гейер лично ничего не имел против Каленеггера, но был против преподносимых с таким наивным убеждением преувеличенных похвал Флаухера.
– Ну а как же с четырьмя томами слоновых исследований Каленеггера? – внезапно своим резким, неприятным голосом спросил он Флаухера.
Наступило молчание. Затем почти одновременно заговорили доктор Пфистерер и Флаухер. Доктор Пфистерер восхвалял краеведческие исследования старого тайного советника, в которых нераздельно сплетены знание и чувство. Неужели доктор Гейер серьезно считает, что такое изучение своего края не имеет значения?
– Давайте не делать мухи из каленеггеровского слона! – добродушно закончил он.
Флаухер, с своей стороны, серьезно и неодобрительно заметил, что если отдельные лица и недооценивают смысл и значение таких исследований, то народ в целом к таким американским взглядам относится резко отрицательно. Душа народа привязана к этим слонам, как привязана к башням Фрауэнкирхе или другим старинным достопримечательностям города.
– Правда, – мягко закончил министр, – на господина депутата Гейера не приходится особенно обижаться, если он в своей душе не находит настоящего отклика на такие вещи. Такие чувства доступны лишь тому, чьи корни вросли в землю этого края.
И Флаухер с почти презрительным состраданием оборвал разговор с адвокатом. Тупо и прямодушно поглядел он в глаза депутату Винингеру. Затем он так же дружески-предостерегающе поглядел и на депутата Грунера.
– Уважения достоин седовласый ученый Каленеггер, – проговорил в заключение Флаухер. – Всяческого уважения!
И все поглядели в ту сторону, где сидел старый профессор. Депутат Винингер, слегка растроганный, кивнул головой. Депутат Амброс Грунер задумчивым жестом бросил собачонке министра колбасную кожуру.
И вдруг адвокат доктор Гейер ощутил странное одиночество. Каленеггер и его слоны… Все они – реакционный министр, реакционный писатель и депутаты оппозиции, – все они, невзирая на политический антагонизм, были крепко спаяны друг с другом, все они был сынами Баварской возвышенности, а он, адвокат-еврей, сидел между ними чужой, враждебный и лишний. Он вдруг увидел, что на нем поношенный и испачканный костюм, и ему стало стыдно. Неловко и поспешно покинул он зал ресторана. Из большой пивной с другой стороны площади доносились звуки исполнявшейся с большим чувством и усиленным участием медных инструментов старинной местной песенки о зеленом Изаре и безграничном уюте. Кассирша Ценци, несмотря на полученные от него щедрые чаевые, глядя вслед поспешно удалявшемуся адвокату, решила, что он отвратительный субъект и что ему здесь вовсе не место. И она бережно долила новым вином стакан полудремавшего тайного советника Каленеггера.
Канцелярия, рассчитанная на большое число людей, обычно наполненная суетой служащих и треском пишущих машинок, сегодня, в воскресной тишине, казалась печальной и безжизненной. В воздухе держался запах бумаг, дыма, остывших сигар. Беспощадный свет солнца освещал каждую пылинку в этом голом помещении, яркой полосой ложился на неубранный, засыпанный пеплом письменный стол. Адвокат, кряхтя, достал объемистую рукопись, закурил сигару. Он выглядел старым, его тонкая бледно-розовая кожа при этом ярком свете казалась помятой. И он писал, изображал, сопоставлял цифры и даты, документально подтверждал многообразную историю беззаконий в Баварии в исследуемый им отрезок времени. Он писал, курил; сигара потухла – он все писал. Сухо, деловито, усердно, безнадежно.
10. Художник Алонсо Кано (1601–1667)
В это же время заключенный Крюгер сидел в камере сто тридцать четыре. Он поставил перед собой хорошую репродукцию автопортрета испанского художника Алонсо Кано из Кадикского музея. Об этом автопортрете нетрудно было сказать несколько метких фраз. Ленивый идеализм художника, гибкий талант, чрезмерно облегчавший ему работу, так что он и не делал попытки когда-либо действительно до предела напрячь свои силы, пустая декоративность, – заманчиво, пожалуй, было бы показать, как все эти черты отражаются в этом выхоленном, изящном, не лишенном выразительности лице. Но фразы в мозгу Мартина Крюгера закруглялись чересчур легко и свободно, картина заражала его, он не находил в себе той исходной точки покоя и силы, с которой он мог серьезно и вдумчиво судить о художнике и его творчестве.
Небольшая камера при резком освещении казалась сегодня какой-то особенно голой и неуютной. Крюгер вспомнил Кадикс, окруженный морем, четко белевший под ярким солнцем. Он чувствовал себя не то чтобы плохо, а как-то чересчур трезво и неокрыленно. Стол, стул, откинутая койка, белая кадка – и среди всего этого изящно очерченное лицо художника Кано, его франтовато-холеная, белокурая бородка на декоративно ржаво-красном фоне. У Крюгера мелькнула мысль, что, в сущности, безразлично, перед каким фоном мы стоим: перед серой ли стеной камеры, или перед такой картиной, или перед такими фразами, какие он как раз сейчас писал.
В камеру пропустили Каспара Прекля. Молодой инженер глубоко запавшими, блестящими глазами неодобрительно взглянул на автопортрет Алонсо Кано. Он ценил умение Крюгера выразить и передать другим свое понимание и проникновение картиной, но считал, что его высокоодаренный друг стоит на ложном пути. Он, Каспар Прекль, находил, что задачи искусствоведения в наше время совершенно иные. Проникшись современными теориями, видящими в экономике основу всего исторического процесса, он был убежден, что первейшей задачей искусствоведения является изучение вопроса о роли искусства в социалистическом обществе. Он полагал, что марксизм, по вполне понятным соображениям, не мог внести ясность в этот вопрос, так как он должен был заниматься более важными делами. Значение искусствоведения в нынешние времена и состояло в том, что лишь теперь, впервые со времени его существования, ему суждено было, освободившись от сухого коллекционерства, ожить и, в содружестве с политическими науками, подготовить почву искусству в пролетарском государстве. Он, молодой, полный огня и действенной любви к искусству, старался направить Крюгера, к которому был искренно привязан, на правильный путь.
То, что здесь стоял автопортрет Алонсо Кано, раздосадовало его. Он вначале был огорчен злой судьбой Крюгера, вовлекшей его в водоворот баварской политики, но затем почти обрадовался случившемуся: он надеялся, что Крюгер, на самом себе так болезненно испытав все отрицательные стороны современного государственного строя, откажется от своего сибаритского подхода к жизни и найдет путь к нему, своему другу. Мрачно глядели на картину из-за выдававшихся скул его запавшие глаза. Но он промолчал и сразу же подошел к непосредственной цели своего посещения. Владелец «Баварских автомобильных заводов», где служит Каспар Прекль, барон Рейндль, – отвратительный субъект. Но он интересуется вопросами искусства. Рейндль очень влиятелен. Преклю, быть может, удастся добиться его вмешательства в дело Крюгера. Крюгер не возлагал особенно больших надежд на успех этого дела. Он знал Рейндля, и у него сложилось впечатление, что барон его терпеть не может. Вскоре, как часто бывало во время их бесед, Мартин Крюгер и Каспар Прекль отклонились от основной темы и увлеклись спором о возможностях и реальных успехах искусства в большевистском государстве. Когда истекло время свидания, им пришлось наспех, в две минуты, обсудить шаги, которые Каспар Прекль должен был предпринять в пользу Крюгера.
После ухода молодого человека Крюгер почувствовал себя необычайно свежим и полным энергии. Одним взмахом руки скинул он со стола репродукцию картины. Потом набросал на бумаге несколько мыслей, на которые навела его беседа с Преклем. Самое важное пришло в голову, разумеется, лишь после ухода собеседника. Он улыбнулся: это было благоприятным показателем. Он писал так живо, твердо, убедительно, как это ему редко удавалось. Работа так увлекла его, что только приход надзирателя, принесшего ужин, напомнил ему, где он находится.
11. Министр юстиции проезжает по своей стране
В тот же воскресный день министр Отто Кленк через зеленеющие и желтеющие отроги Баварских Альп направился в горы. Он ехал не чересчур быстро. Ветерок, еще усиленный движением, навевал приятную прохладу. Почти не было пыли. Машина въехала в густой лес. Кленк, одетый в горный костюм из грубой ткани, весь отдался наслаждению быстрого движения.
Красновато-смуглое лицо Кленка освободилось от всякого напряжения. С трубкой в зубах, в необычной для этих мест небрежной и свободной позе, правил он машиной. Как хорош был этот край! Четко и рельефно выступали все контуры в чистом, живительном воздухе. Хорошо было жить здесь и постоянно вдыхать этот воздух. Здесь не докучали ненужные мысли. Весь день – то вверх, то вниз по горам, так что нужно было хорошо владеть своим дыханием. Ветер, снег, солнце закаляли и душу, и кожу. Кленк распорядился, чтобы его ожидал егерь: он обойдет места охоты. Он предвкушал удовольствие от грубой пищи, которой угостит его Вероника. Кстати, нужно будет как-нибудь при случае навести справки о своем и ее сыне Симоне, которого он пристроил в банк в Аллертсгаузене. Этот сопляк доставлял окружающим немало беспокойства. Ему, Кленку, это было по душе. Молодец бабенка эта Вероника: не пристает к нему насчет парня. Вообще он все это прекрасно устроил. Жена, эта жалкая, высохшая старая коза, нисколько не стесняет его и рада, когда он проявляет по отношению к ней шутливую жалость.
Автомобиль скользил вдоль берега красивого удлиненного озера. Холмистые берега, а за ними извилистая линия гор.
Удобный дорожный автомобиль обгоняет его. В нем большая компания экзотического вида людей. Много приезжих катается теперь по стране. Он недавно читал статью: усовершенствование транспорта будто бы неизбежно вызовет нечто вроде нового переселения народов; малоподвижный, оседлый тип будет вытеснен более легким, кочевым; готовится великое, всеобщее смешение рас. Уже началось.
Министр насмешливо, с легким отвращением глядел вслед автомобилю с чужеземцами. Ну, ему, к счастью, вряд ли придется дожить до этих прекрасных времен! Он лично ничего не имеет против иностранцев. Возможно, что китайцы, например, – представители более древней и зрелой культуры, чем баварцы. Но ему клецки и ливерные сосиски кажутся вкуснее печеных плавников акулы, он охотнее читает книги Лоренца Маттеи, чем произведения Ли Тайпо. Он не допустит, чтобы его поглотила чуждая культура.
– Я постараюсь все хорошенько вспомнить, – медленно произнесла Иоганна Крайн. – А что, если мне удастся с точностью установить, что в два часа ночи Мартин Крюгер был уже у меня? – добавила она.
– Тогда доверие к показаниям шофера было бы во всяком случае значительно поколеблено, – быстро ответил адвокат.
Он взял в руки газету, развернул ее; в глаза бросился рисунок с лицами присяжных, легкомысленное лицо присяжного фон Дельмайера.
– Вероятно, и тогда шоферу больше поверят, чем вам, – проговорил Гейер, тщательно складывая газету – Все же при таких условиях ваши показания имеют смысл.
– Я все хорошенько вспомню, – сказала Иоганна Крайн и поднялась. Она стояла перед ним, – широкое ясное лицо, серые смелые глаза над коротким носом, упругие губы, – высокая баварская девушка, твердо решившая хотя бы с опасностью для себя помочь своему неблагоразумному другу выпутаться из глупой истории.
– И все-таки, – еще раз повторил адвокат, – я советую вам отказаться от показаний, особенно если вы не можете совершенно точно вспомнить час.
Иоганна пожала своей несколько широкой грубоватой рукой узкую, покрытую тонкой кожей руку адвоката и вышла.
Из окна смежной комнаты ей вслед смотрело коричневато-желтое, под копною черных растрепанных волос, лицо экономки Агнесы, и глаза ее напряженно и страстно следили за тем, как Иоганна в своем кремовом, плотно облегавшем ее костюме шла, освещенная лучами июньского солнца.
Доктор Гейер, жалкий и обессиленный, сидел за покрытым разбросанными газетами столом. Эта девушка, эта Крайн была слишком хороша для Крюгера. Эта девушка, несмотря на то что была баваркой с широким баварским лицом и характерным баварским говором, имела некоторое сходство… Но ведь он решил не думать об этом, не думать о мальчике, не думать о его матери. Она умерла, все было изжито, кончено.
Он поднялся, слегка закряхтев. Заметил, что ужасно измазал свой костюм. Позвонил. Вошла экономка. Он закричал на нее: когда она не нужна, то вечно всюду суется, а когда она понадобится, то ее нет как нет. Она огрызнулась своим нервным, скрипучим голосом – сердито и многословно. Хоть теперь-то пусть он наденет костюм, который она для него приготовила. Но он уже не слушал ее и уселся за стол, делая пометки на полях газеты, а может быть, просто рисуя на них завитушки.
Даже тогда, когда экономка давно уже удалилась, он все еще продолжал сидеть так. Болели глаза, и он опустил слегка воспаленные веки под толстыми стеклами очков. Он казался старым и утомленным и не мог, несмотря на обычное умение владеть собой, удержаться от мыслей о свидетельнице Иоганне Крайн и тут же не вспомнить о некоей Эллис Борнгаак, уроженке Северной Германии, давно уже покойной.
9. Политики баварской возвышенности
Хотя прекрасный воскресный день многих увлек в горы и к озерам, все же «Тиролер вейнштубе» в это июньское утро была переполнена людьми. Все окна были раскрыты навстречу солнцу, но в обширном помещении царил приятный полумрак. Густой дым сигар стлался над массивными деревянными столами. Посетители ели маленькие хрустящие, поджаренные свиные сосиски или посасывали толстую, сочную ливерную колбасу, в то же время высказывая основательные суждения по вопросам искусства, философии и политики.
В воскресные послеобеденные часы в «Тиролер вейнштубе» собирались преимущественно политические деятели. Они сидели здесь в черных праздничных сюртуках, развязные и самоуверенные. Бавария была автономным государством, и быть баварским политиком – кое-чего да стоило!
Если в то время Европа состояла из многочисленных суверенных государств, одним из которых являлась Германия, то Германия в свою очередь распадалась на восемнадцать союзных государств. Эти страны, и в том числе Бавария, несмотря на то что в силу своей хозяйственной структуры давно уже превратились в провинции, ревниво охраняли свою обособленность. У них были свои традиции, свои «исторические чувства», свои «племенные особенности», свои кабинеты министров. Восемьдесят министров, две тысячи триста шестьдесят пять парламентариев правили Германией. Носители громких титулов, заседавшие в этих союзных правительствах, все эти президенты, министры, депутаты ландтагов не желали исчезнуть с политической арены или в лучшем случае превратиться в провинциальных чиновников. Они не желали признать, что их «государства» давно выродились в провинции. Они всеми силами противились этому, ораторствовали, властвовали, управляли, стремясь доказать свою самостоятельную государственную значимость. Баварские министры и парламентарии в этой борьбе союзных стран с общегерманским правительством играли руководящую роль, находили в защиту автономии союзных стран самые сочные выражения. Выступали с особенно развязной самоуверенностью.
Отблеск этой роли падал и на представителей оппозиции, соратников доктора Гейера. Несмотря на то что они, согласно своей программе, боролись против баварского партикуляризма, они также, благодаря политической структуре Германии, находились до некоторой степени в центре большой политики, чувствовали себя значительными, и воскресные предобеденные часы в «Тиролер вейнштубе» представлялись им чуть ли не историческими.
Они, эти деятели политической оппозиции, устраивались не в маленькой, более дорогой, боковой комнате, а с подчеркнутой простотой в битком набитом людьми главном зале. Чужой всем, худой, с измученным лицом, сидел доктор Гейер между двумя лидерами своей фракции г-дами Иозефом Винингером и Амбросом Грунером. Сразу по приходе он заглянул в соседнюю комнату, где часто бывал министр юстиции. Но он увидел не Кленка, а лишь тяжеловесного Флаухера. Слегка разочарованный отсутствием врага и все же, под влиянием усталости, довольный тем, что не придется бороться, Гейер сидел, торопливо, без всякого удовольствия глотал вино, сквозь табачный дым приглядывался к лицам своих соседей по столу. Иозеф Винингер принадлежал к обычному типу местных «круглоголовых». Над бледно-розовыми, обрамленными белокурой растительностью щеками выглядывали добродушные водянистые глаза. Медленно, миролюбиво, вместе с кусками сосисок, прожевывал он отрывки фраз. Амброс Грунер, напротив, вызывающе закручивал усы, сидел, по-фельдфебельски подобрав живот, терся им о стол и в сильных выражениях громил правительство. Что, собственно, нужно было доктору Гейеру среди этих людей? Он знал наверняка: как ни отличны друг от друга эти два человека, они одинаково будут реагировать на слова министра просвещения, поддадутся на приманку грубовато-простодушного обращения. У них была одинаковая душевная основа, они все, невзирая на социалистическую болтовню, одинаково увязли в липкой тине крестьянской идеологии.
Из соседней комнаты теперь явственно доносился ворчливый голос доктора Флаухера. За его столом шумно спорили о Бисмарке, об особых правах Баварского эмиссионного банка, о причинах смерти только что извлеченного из гробницы египетского царя Тутанхамона, о качестве пива завода «Шпатенбрей», о транспортной политике Советской России, о зобе – природной болезни местного населения, об экспрессионизме, о достоинствах кухни ресторана у Штарнбергского озера. Снова и снова разговор возвращался к автопортрету Анны Элизабет Гайдер. Из галереи Новодного просачивались слухи о том, что портрет продан в Мюнхен лицу с видным общественным положением, продан за круглую сумму. Кому именно – оставалось неизвестным. Высказывали предположение, что барону Рейндлю, крупному промышленнику. Спорили о достоинствах картины. Писатель Маттеи собирался в следующем номере своего журнала поместить стихотворение, о котором вчера говорил Гессрейтеру. Оно в голове его уже было готово. Он прочел вслух звучные, сальные строфы, полные яда. Из-за стекол пенсне этот человек с исполосованным сабельными рубцами лицом следил, словно жадный пес, за производимым его стихами впечатлением. За столом раскатисто хохотали, пили за его здоровье. Он сидел откинувшись, держа трубку в зубах, сытый, удовлетворенный. Но другой писатель, доктор Пфистерер, также непременный член этого общества, нашел стихотворение циничным. По его мнению, Анна Элизабет Гайдер, если бы только ее так не травили, сама вернулась бы к здравому смыслу. Доктор Пфистерер, так же как и доктор Лоренц Маттеи, носил серую куртку и также писал длинные рассказы о жизни в баварских горах, создавшие ему широкую популярность во всей Германии. Но его рассказы были оптимистичны, трогали душу, возвышали; он верил в доброе начало в людях, за исключением разве только Маттеи, которого ненавидел. Они сидели друг против друга, эти два баварских писателя, с багровыми лицами и мерили друг друга из-за стекол пенсне взглядами своих узких глазок. Неуклюжий, с исполосованным рубцами лицом держал голову наклоненной, другой – беспомощно и возбужденно выставлял вперед седеющую рыжую бороду.
Все кричали, перебивая друг друга. Победителем в этом крике оказался в конце концов, несмотря на то что он не был особенно громким, голос профессора Бальтазара фон Остернахера. С гибкой, настойчивой изысканностью заглушая все остальные голоса, ратовал он против умершей девушки. Кто посмеет сказать, что он не революционер? Не стоял ли он всегда за безусловную свободу в искусстве, даже и в изображении эротики? Но такая живопись представляла собой вполне определенный физиологический процесс: это был акт самоудовлетворения неудовлетворенной женщины, не имевший ничего общего с искусством.
Кельнерша Ценци, прислонясь к буфету, слушала и с беспокойством видела, что профессор Остернахер в пылу увлечения дает остыть своим сосискам. Она отлично разбиралась в установках своих клиентов по отношению к тем или иным вопросам. Ей многое приходилось слышать. Не бог весть как трудно было сопоставлять одно с другим. Она могла бы вскрыть подноготную многих событий в области политики, хозяйства и искусства. Она знала и то, почему так горячился профессор Остернахер и давал остыть стоявшим перед ним сосискам.
Большой человек этот профессор, знаток истории искусства, знаменитый и высоко оплачиваемый, особенно по ту сторону океана. Приезжие, когда она называла им его имя, с любопытством и уважением поглядывали на него. Но кассирша Ценци хорошо помнила его искаженное лицо, когда однажды кто-то из его прихвостней донес ему, что Крюгер отозвался о нем как о «способном декораторе». Она прекрасно понимала, что факт покупки пропагандируемой этим Крюгером картины, да еще мюнхенцем, да еще за высокую цену, он принял за личное оскорбление. Она знала его лучше, чем знали его даже жена и дочь. Да, он действительно когда-то был революционером в своей манере письма. Но он застыл в этой манере, а мода на нее оказалась преходящей. Он постарел и, когда ему казалось, что никто не наблюдает за ним – Ценци знала это, – постариковски горбился. Ценци хорошо угадывала его настроение, когда он бранился. Ведь это он, собственно, не на других нападал, а его кололо, злило, мучило собственное крушение. В таких случаях она особенно мягко, по-матерински обращалась с ним и успокаивала его до тех пор, пока, охрипший от злобного напряжения, он не принимался за остывшие сосиски.
В шум кипевших кругом споров ворвался звук подкатившего новехонького темно-зеленого автомобиля. Из него вышел человек с добродушно-хитрым, морщинистым сияющим мужицким лицом – Андреас Грейдерер, художник, написавший «Распятие». Широко шагая, доверчиво направился он к столу своих знаменитых коллег. Они всегда терпели его в своем обществе: ведь о нем не могло быть речи как о конкуренте. Наивное крестьянское остроумие и умение ловко играть на губной гармонике давали ему возможность занимать свое постоянное место в этом кругу. Но сегодня, когда он, добродушно подшучивая над своим чертовски неожиданным успехом, подошел к ним, его встретили с кислыми, недоступными лицами. Никто не выразил склонности отодвинуться, чтобы освободить для него место. Наступило молчание. С другой стороны площади, из пивной, донеслись звуки духового оркестра, игравшего популярную песню «Томится в Мантуе в окопах верный Гофер…». Смущенный холодным приемом, Грейдерер вернулся назад в общий зал, натолкнулся там на представителей оппозиции. При других условиях господа Винингер и Грунер демонстративно приветливо встретили бы художника, подвергшегося преследованиям со стороны министра просвещения. Но сегодня они очень скоро постарались отделаться от него, предугадывая, что его присутствие помешает столь желанной воскресной добродушно-воинственной беседе с «большеголовыми». Они становились все более односложными, пили, курили, ограничиваясь ничего не выражавшим хмыканьем. Художник долго не замечал, что именно он является причиной этого кислого настроения. Но наконец, почуяв, в чем дело, он удалился в своем темно-зеленом автомобиле, провожаемый взглядами всех присутствующих.
Зато теперь вместо него к столу в главном зале подошли наконец министр Флаухер и писатель доктор Пфистерер. Дело в том, что, согласно создавшемуся обычаю, министры правящей партии, льстя таким образом мещанскому самолюбию оппозиции, в предобеденные воскресные часы, за утренней кружкой пива, подходили к столу депутатов и вступали с ними в безобидные споры. Вот они сидели здесь, все эти политики Баварской возвышенности. Вежливо беседовали друг с другом, осторожно нащупывали слабые места противника. Франц Флаухер, облекший свое короткое, грузное тело в поношенный долгополый черный сюртук, в чем-то убеждал г-на Винингера, изредка что-то бурча себе под нос, стараясь быть очень вежливым. Писатель Пфистерер завладел Амбросом Грунером, добродушно похлопывал его по плечу.
Доктору Гейеру все четверо мужчин казались вылепленными из одного теста, из безвкусного баварского теста: хитрые, узколобые, лишенные горизонта, угловатые, как ущелья их родных гор. Их грубые голоса, привыкшие пробиваться сквозь гомон шумных собраний, пивные пары и дым скверных сигар, старались смягчиться до сдержанного, приветливого тона. Они говорили вымученно-литературным немецким языком, то и дело сбиваясь на жесткое и протяжное местное наречие. Тяжелые и массивные, сидели они на крепких деревянных стульях, улыбаясь друг другу с грубоватой вежливостью, – хитрые торговцы скотом, не склонные при заключении какой-либо сделки чрезмерно доверять друг другу.
Разговор вертелся вокруг вопроса о недавно введенной возрастной норме для государственных чиновников. Государственные служащие, достигшие шестидесяти шести лет, должны были уходить на пенсию, и только в исключительных случаях правительство могло разрешить особо незаменимым чиновникам продолжать службу. Такого рода исключение министр Флаухер хотел сделать и по отношению к одному из профессоров-историков Мюнхенского университета, тайному советнику Каленеггеру, давно уже перешагнувшему за положенный предельный возраст. Дело в том, что в Мюнхенском университете на кафедре истории имелось три профессуры. Назначение на одну из них, согласно заключенному с папой конкордату, требовало утверждения епископской властью, и, следовательно, ее занимал благонадежный католик. Вторая предназначалась для специалиста по истории Баварии, и, естественно, ее также занимал благонадежный католик. Третья, наиболее значительная, когда-то основанная королем Максом II специально для знаменитого исследователя Ранке, в настоящее время была занята тайным советником Каленеггером. Каленеггер свою жизнь и все свои исследования посвятил изучению биологических законов города Мюнхена. С маниакальным усердием подбирал он материалы, неизменно все явления геологического, палеонтологического, биологического характера связывая с историей Мюнхена и стремясь доказать, что Мюнхен, в силу всех законов природы, должен был быть и неизбежно оставаться и в будущем крестьянским земледельческим центром. При этом он никогда не впадал в противоречия с учением церкви и проявил себя как благонадежный католик. Правда, за пределами города Мюнхена результаты исследований Каленеггера считались нелепостью, так как маститый ученый совершенно упускал из виду как создавшуюся в связи с развитием техники независимость человека от местного климата, так и социальные сдвиги последних столетий. Факультет предполагал, в случае ухода Каленеггера на пенсию, предложить на эту должность ученого, хотя и коренного баварца, но протестанта. Мало того: этот ученый в одной из своих работ о политике Ватикана пришел к заключению, что папская власть по отношению к английской королеве Елизавете поступала несоответственно с законами христианской морали, ибо заранее знала о покушениях на убийство английской королевы, подготовлявшихся Марией Стюарт, и одобряла их. На этом основании доктор Флаухер твердо решил противодействовать назначению такого кандидата и не распространять на профессора Каленеггера закона о возрастной норме.
В то время как Флаухер пространно, в восторженном тоне расписывал значение Каленеггера, доктор Гейер приглядывался к старику-профессору, сидевшему в соседней комнате за столом «большеголовых». Долговязый, неуклюжий, несмотря на худобу, сидел он на своем стуле; костлявая узкая голова с широким горбатым носом поворачивалась на неимоверно длинной высохшей шее. Странно беспомощные, тупые птичьи глаза обводили взглядом присутствующих. Изредка старец откуда-то из глубины гортани извлекал хотя и громкий, но какой-то бессильно-напряженный голос, изрекал несколько плавных, словно готовых к печати, безжизненных фраз. Доктор Гейер думал о том, как давно уже иссякли умственные способности этого старца. Весь научный мир Германии постепенно начинал смеяться над этим человеком. Ведь он все последние десять лет посвятил служению одной идее: он изучал историю слонового чучела, хранившегося в мюнхенском зоологическом музее, того самого, которое после неудачного нападения султана Сулеймана II на Вену попало в руки императора Максимилиана II и было впоследствии подарено им баварскому герцогу Альбрехту V.
Доктор Гейер лично ничего не имел против Каленеггера, но был против преподносимых с таким наивным убеждением преувеличенных похвал Флаухера.
– Ну а как же с четырьмя томами слоновых исследований Каленеггера? – внезапно своим резким, неприятным голосом спросил он Флаухера.
Наступило молчание. Затем почти одновременно заговорили доктор Пфистерер и Флаухер. Доктор Пфистерер восхвалял краеведческие исследования старого тайного советника, в которых нераздельно сплетены знание и чувство. Неужели доктор Гейер серьезно считает, что такое изучение своего края не имеет значения?
– Давайте не делать мухи из каленеггеровского слона! – добродушно закончил он.
Флаухер, с своей стороны, серьезно и неодобрительно заметил, что если отдельные лица и недооценивают смысл и значение таких исследований, то народ в целом к таким американским взглядам относится резко отрицательно. Душа народа привязана к этим слонам, как привязана к башням Фрауэнкирхе или другим старинным достопримечательностям города.
– Правда, – мягко закончил министр, – на господина депутата Гейера не приходится особенно обижаться, если он в своей душе не находит настоящего отклика на такие вещи. Такие чувства доступны лишь тому, чьи корни вросли в землю этого края.
И Флаухер с почти презрительным состраданием оборвал разговор с адвокатом. Тупо и прямодушно поглядел он в глаза депутату Винингеру. Затем он так же дружески-предостерегающе поглядел и на депутата Грунера.
– Уважения достоин седовласый ученый Каленеггер, – проговорил в заключение Флаухер. – Всяческого уважения!
И все поглядели в ту сторону, где сидел старый профессор. Депутат Винингер, слегка растроганный, кивнул головой. Депутат Амброс Грунер задумчивым жестом бросил собачонке министра колбасную кожуру.
И вдруг адвокат доктор Гейер ощутил странное одиночество. Каленеггер и его слоны… Все они – реакционный министр, реакционный писатель и депутаты оппозиции, – все они, невзирая на политический антагонизм, были крепко спаяны друг с другом, все они был сынами Баварской возвышенности, а он, адвокат-еврей, сидел между ними чужой, враждебный и лишний. Он вдруг увидел, что на нем поношенный и испачканный костюм, и ему стало стыдно. Неловко и поспешно покинул он зал ресторана. Из большой пивной с другой стороны площади доносились звуки исполнявшейся с большим чувством и усиленным участием медных инструментов старинной местной песенки о зеленом Изаре и безграничном уюте. Кассирша Ценци, несмотря на полученные от него щедрые чаевые, глядя вслед поспешно удалявшемуся адвокату, решила, что он отвратительный субъект и что ему здесь вовсе не место. И она бережно долила новым вином стакан полудремавшего тайного советника Каленеггера.
Канцелярия, рассчитанная на большое число людей, обычно наполненная суетой служащих и треском пишущих машинок, сегодня, в воскресной тишине, казалась печальной и безжизненной. В воздухе держался запах бумаг, дыма, остывших сигар. Беспощадный свет солнца освещал каждую пылинку в этом голом помещении, яркой полосой ложился на неубранный, засыпанный пеплом письменный стол. Адвокат, кряхтя, достал объемистую рукопись, закурил сигару. Он выглядел старым, его тонкая бледно-розовая кожа при этом ярком свете казалась помятой. И он писал, изображал, сопоставлял цифры и даты, документально подтверждал многообразную историю беззаконий в Баварии в исследуемый им отрезок времени. Он писал, курил; сигара потухла – он все писал. Сухо, деловито, усердно, безнадежно.
10. Художник Алонсо Кано (1601–1667)
В это же время заключенный Крюгер сидел в камере сто тридцать четыре. Он поставил перед собой хорошую репродукцию автопортрета испанского художника Алонсо Кано из Кадикского музея. Об этом автопортрете нетрудно было сказать несколько метких фраз. Ленивый идеализм художника, гибкий талант, чрезмерно облегчавший ему работу, так что он и не делал попытки когда-либо действительно до предела напрячь свои силы, пустая декоративность, – заманчиво, пожалуй, было бы показать, как все эти черты отражаются в этом выхоленном, изящном, не лишенном выразительности лице. Но фразы в мозгу Мартина Крюгера закруглялись чересчур легко и свободно, картина заражала его, он не находил в себе той исходной точки покоя и силы, с которой он мог серьезно и вдумчиво судить о художнике и его творчестве.
Небольшая камера при резком освещении казалась сегодня какой-то особенно голой и неуютной. Крюгер вспомнил Кадикс, окруженный морем, четко белевший под ярким солнцем. Он чувствовал себя не то чтобы плохо, а как-то чересчур трезво и неокрыленно. Стол, стул, откинутая койка, белая кадка – и среди всего этого изящно очерченное лицо художника Кано, его франтовато-холеная, белокурая бородка на декоративно ржаво-красном фоне. У Крюгера мелькнула мысль, что, в сущности, безразлично, перед каким фоном мы стоим: перед серой ли стеной камеры, или перед такой картиной, или перед такими фразами, какие он как раз сейчас писал.
В камеру пропустили Каспара Прекля. Молодой инженер глубоко запавшими, блестящими глазами неодобрительно взглянул на автопортрет Алонсо Кано. Он ценил умение Крюгера выразить и передать другим свое понимание и проникновение картиной, но считал, что его высокоодаренный друг стоит на ложном пути. Он, Каспар Прекль, находил, что задачи искусствоведения в наше время совершенно иные. Проникшись современными теориями, видящими в экономике основу всего исторического процесса, он был убежден, что первейшей задачей искусствоведения является изучение вопроса о роли искусства в социалистическом обществе. Он полагал, что марксизм, по вполне понятным соображениям, не мог внести ясность в этот вопрос, так как он должен был заниматься более важными делами. Значение искусствоведения в нынешние времена и состояло в том, что лишь теперь, впервые со времени его существования, ему суждено было, освободившись от сухого коллекционерства, ожить и, в содружестве с политическими науками, подготовить почву искусству в пролетарском государстве. Он, молодой, полный огня и действенной любви к искусству, старался направить Крюгера, к которому был искренно привязан, на правильный путь.
То, что здесь стоял автопортрет Алонсо Кано, раздосадовало его. Он вначале был огорчен злой судьбой Крюгера, вовлекшей его в водоворот баварской политики, но затем почти обрадовался случившемуся: он надеялся, что Крюгер, на самом себе так болезненно испытав все отрицательные стороны современного государственного строя, откажется от своего сибаритского подхода к жизни и найдет путь к нему, своему другу. Мрачно глядели на картину из-за выдававшихся скул его запавшие глаза. Но он промолчал и сразу же подошел к непосредственной цели своего посещения. Владелец «Баварских автомобильных заводов», где служит Каспар Прекль, барон Рейндль, – отвратительный субъект. Но он интересуется вопросами искусства. Рейндль очень влиятелен. Преклю, быть может, удастся добиться его вмешательства в дело Крюгера. Крюгер не возлагал особенно больших надежд на успех этого дела. Он знал Рейндля, и у него сложилось впечатление, что барон его терпеть не может. Вскоре, как часто бывало во время их бесед, Мартин Крюгер и Каспар Прекль отклонились от основной темы и увлеклись спором о возможностях и реальных успехах искусства в большевистском государстве. Когда истекло время свидания, им пришлось наспех, в две минуты, обсудить шаги, которые Каспар Прекль должен был предпринять в пользу Крюгера.
После ухода молодого человека Крюгер почувствовал себя необычайно свежим и полным энергии. Одним взмахом руки скинул он со стола репродукцию картины. Потом набросал на бумаге несколько мыслей, на которые навела его беседа с Преклем. Самое важное пришло в голову, разумеется, лишь после ухода собеседника. Он улыбнулся: это было благоприятным показателем. Он писал так живо, твердо, убедительно, как это ему редко удавалось. Работа так увлекла его, что только приход надзирателя, принесшего ужин, напомнил ему, где он находится.
11. Министр юстиции проезжает по своей стране
В тот же воскресный день министр Отто Кленк через зеленеющие и желтеющие отроги Баварских Альп направился в горы. Он ехал не чересчур быстро. Ветерок, еще усиленный движением, навевал приятную прохладу. Почти не было пыли. Машина въехала в густой лес. Кленк, одетый в горный костюм из грубой ткани, весь отдался наслаждению быстрого движения.
Красновато-смуглое лицо Кленка освободилось от всякого напряжения. С трубкой в зубах, в необычной для этих мест небрежной и свободной позе, правил он машиной. Как хорош был этот край! Четко и рельефно выступали все контуры в чистом, живительном воздухе. Хорошо было жить здесь и постоянно вдыхать этот воздух. Здесь не докучали ненужные мысли. Весь день – то вверх, то вниз по горам, так что нужно было хорошо владеть своим дыханием. Ветер, снег, солнце закаляли и душу, и кожу. Кленк распорядился, чтобы его ожидал егерь: он обойдет места охоты. Он предвкушал удовольствие от грубой пищи, которой угостит его Вероника. Кстати, нужно будет как-нибудь при случае навести справки о своем и ее сыне Симоне, которого он пристроил в банк в Аллертсгаузене. Этот сопляк доставлял окружающим немало беспокойства. Ему, Кленку, это было по душе. Молодец бабенка эта Вероника: не пристает к нему насчет парня. Вообще он все это прекрасно устроил. Жена, эта жалкая, высохшая старая коза, нисколько не стесняет его и рада, когда он проявляет по отношению к ней шутливую жалость.
Автомобиль скользил вдоль берега красивого удлиненного озера. Холмистые берега, а за ними извилистая линия гор.
Удобный дорожный автомобиль обгоняет его. В нем большая компания экзотического вида людей. Много приезжих катается теперь по стране. Он недавно читал статью: усовершенствование транспорта будто бы неизбежно вызовет нечто вроде нового переселения народов; малоподвижный, оседлый тип будет вытеснен более легким, кочевым; готовится великое, всеобщее смешение рас. Уже началось.
Министр насмешливо, с легким отвращением глядел вслед автомобилю с чужеземцами. Ну, ему, к счастью, вряд ли придется дожить до этих прекрасных времен! Он лично ничего не имеет против иностранцев. Возможно, что китайцы, например, – представители более древней и зрелой культуры, чем баварцы. Но ему клецки и ливерные сосиски кажутся вкуснее печеных плавников акулы, он охотнее читает книги Лоренца Маттеи, чем произведения Ли Тайпо. Он не допустит, чтобы его поглотила чуждая культура.