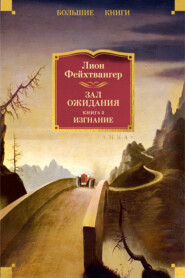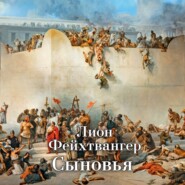По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семья Опперман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, завтра приезжает в Пугано друг его юности, Иоганнес Коган. Третьего дня Густав получил от него телеграмму. Густав взволнован: страшиться ему этой встречи или радоваться? Все его существо взбудоражено. Так или иначе, а без стычек у них не обойдется.
С этим Иоганнесом трудно ладить, но и порвать с ним трудно. Годы, десятки лет Густав ссорится с ним; сотни раз он говорил себе: ну, теперь точка. Но он никогда не ставил этой точки. Иоганнес Коган из тех людей, которые доводят человека до белого каления, сшибают его с ног, навязывают ему новые мысли, но тот, кто по-настоящему поймет Иоганнеса, всегда будет тянуться к нему.
Вот уже больше года, как Иоганнес ничего не давал знать о себе. Он даже не поздравил Густава с пятидесятилетием. А между тем поступок Густава не мог послужить поводом к разрыву даже для самого обидчивого человека. В прошлую зиму, в пору, когда особенно усилились бесчинства студентов, Густав написал ему, настойчиво советуя бросить наконец профессуру в Лейпциге. Разве Иоганнес не добился чего хотел? Его книга «О коварстве идеи, или Есть ли смысл в мировой истории» получила всемирную известность, и множество иностранных университетов наперебой предлагали ему кафедру. Тогда лейпцигский сенат, ранее бывший против его кандидатуры, предложил ему должность ординарного профессора философии в Лейпцигском университете. Можно было удовольствоваться уже самим этим фактом. Лейпцигские студенты попросту не желали Иоганнеса. Они буянили через каждые два дня. Между тем он мог бы лучше и спокойнее жить литературным трудом. Что заставляло его, который так не выносил саксонского говора, жить именно в Лейпциге, в совершенно невозможной обстановке, среди студентов, грубивших ему на каждом шагу, да еще на своем саксонском наречии? Что за интерес сидеть на кафедре и дожидаться, пока полиция водворит порядок, чтобы получить возможность начать лекцию? Почему он стремится учить студентов, которые вовсе не желают учиться? Ведь достойных он может учить и через свои книги.
Обо всем этом ровно четырнадцать месяцев тому назад написал Густав своему другу Иоганнесу Когану. Но Иоганнес не ответил ему. И с тех пор вообще не давал о себе знать. Густав не признавался себе, но весь этот год молчание друга его жестоко обижало. А сам Иоганнес присвоил себе право всех и все издевательски, зло критиковать. В годы их совместного учения Иоганнес, бывало, занимая у Густава деньги, нередко тут же грубо высмеивал его. А когда ему, Иоганнесу, хочешь дать совет, осторожно, по-дружески, он с досадой отмахивается или, хуже того, больше года высокомерно молчит. Оказалось, однако, что Густав был прав тогда: фашиствующие студенты с улюлюканьем прогнали Иоганнеса из университета. Но, бог свидетель, Густав не торжествовал. Конечно, упорство, с которым его друг не оставлял своего поста, ужасно раздражало Густава, но в глубине души он уважал Иоганнеса за это упорство, хотя оно и было неблагоразумно; он завидовал Иоганнесу. Больше того: его настойчивость, честно говоря, была вечным укором Густаву.
Он вздохнул с великим облегчением, получив несколько дней назад письмо от Иоганнеса. Ему льстило, что Иоганнес, когда понадобилась дружеская поддержка, обратился именно к нему. Он тут же телеграфировал, чтобы Иоганнес выехал. Завтра, значит, он будет здесь. Густав ходил взад и вперед по палубе маленького пароходика твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Перед ним вставало смугло-желтое, остроносое, умное, подвижное, высокомерное лицо друга. Густав с удовольствием думал о предстоящем ему духовном массаже.
Давно уже не было на озере Лугано такой прекрасной весны, как в этом году. Было очень тепло, и все вокруг зацветало буйным и нежным цветом. Хорошо было бы уговорить Иоганнеса пожить несколько месяцев в этой горной деревушке. Вынужденный отъезд из Берлина представляется вдруг Густаву истинным даром судьбы. Разве это не дар, когда человек в пятьдесят лет получает возможность еще раз до самого основания перестроиться? С помощью Иоганнеса это, пожалуй, может выйти.
Пароходик причалил. Густав пошел по бульвару набережной. Приходилось раскланиваться со множеством знакомых. Но ему хотелось быть одному. Он прошел в самый конец бульвара, сел на скамью.
Много народу уехало из Германии, но во много раз больше осталось там. «Коричневые» не могут убить или засадить всех своих противников, так как их противники – это две трети населения. Приходится создавать какой-то modus vivendi[50 - способ ужиться с кем-либо (лат.)]. В эту пору, когда устанавливается новый порядок, между фашистами и их врагами возникают самые необычайные отношения как просто человеческого, так и делового порядка. Тысячи людей поднимаются на гребень волны, тысячи падают в пропасть. «Мы, как ведра на вороте колодца, судьба наполняет одно, осушает другое, вздымает высоко, спускает на дно, смыкает враждебное, непримиримое, – капризная, как малое дитя». Да, между теми, кто поднимается, и теми, кто падает, существовала всегда самая тесная связь, и теперь они это почувствовали. Преследователи то и дело предлагают преследуемым помочь удержаться на службе или сохранить состояние при условии, что преследуемые сделают их участниками своих благ; вся «национальная революция», если поближе к ней присмотреться, – это миллионы мелких сделок, основанных на взаимности.
Успокоенный прекрасным днем, весь во власти радостного ожидания друга, Густав беззлобно перебирал в памяти удивительные случаи, которые ему рассказывали.
Художник Гольстен, добродушный бахвал и далеко не первоклассный мастер, очень опустился. А во времена своего процветания он дружески обращался со своим камердинером и щедро одаривал его. Теперь этот камердинер служит у одного нацистского министра. Ему хотелось отплатить своему прежнему хозяину добром за добро. И ныне от художника Гольстена зависит, кого посадить заправилой во влиятельные союзы художников, кому дать государственные заказы.
Адвокат-националист, чуть ли не самый рьяный поборник изгнания евреев из юриспруденции, помог коллеге-еврею бежать за границу. «Я рассчитываю, коллега, – сказал он ему на прощание, – что в случае нужды вы окажете мне такую же услугу». Так многие теперешние властители пытаются обеспечить себе тыл на случай падения их режима.
Немного неприятно было думать о друге Фридрихе-Вильгельме Гутветтере. Густав прочел его последний очерк, в котором Гутветтер напыщенным, торжественным языком возвещал рожденье «Нового Человека». Нацисты пели дифирамбы Гутветтеру, а в оппозиционных кругах о нем сожалели, нападали на него, высмеивали. Густаву, убежденному в безусловной честности Гутветтера, было бы приятнее, если бы очерк этот не был написан. Вчера Густав получил письмо от Гутветтера. Гутветтер просит разрешения, ввиду того что поездка друга затягивается, пользоваться в его отсутствие библиотекой на Макс-Регерштрассе и временами работать там.
Мимо Густава, который беззлобно перебирал все эти факты, расценивал их, прошел молодой человек лет тридцати, крупного сложения, с костистым квадратным лицом. Густав знал его. Это был доктор Бильфингер из Южной Германии, владелец крупного состояния. Густав обратил на него внимание еще вчера и третьего дня, Молодой человек чем-то выделялся среди прочей публики: безупречно одетый, в иссиня-сером весеннем пальто, в крахмальном воротничке, он бродил всегда в одиночестве, держа шляпу в руках, погруженный в себя, устремив в пространство взгляд сильно прищуренных глаз. Увидев Густава, Бильфингер в нерешительности остановился, затем подошел и попросил разрешения присесть. Его, очевидно, что-то тяготило. С присущей ему непосредственностью и любезностью Густав подбодрил его. Да, сказал тот наконец, ему хотелось бы о многом поговорить, и именно с Густавом. Он кое-что слышал о нем от своего друга Фришлина. Он знает, что Густав тоже один из пострадавших, и ему хочется в некотором смысле просить у Густава прощения. Густава поразило упоминание о Фришлине. В сущности, в этом ничего неожиданного не было, к тому же – припомнилось ему – он несколько раз слышал от Фришлина имя Бильфингера. Но ему казалось, что в последнее время он почти намеренно забыл о Фришлине. Он подумал о рельсах-нитях на Бернском вокзале, и молодой Бильфингер показался ему вестником Фришлина. Густав взглянул на него. Доктор Бильфингер в своем сером пальто сидел подтянутый, строгий, его квадратное лицо с зачесанными наверх волосами – лицо человека, одержимого какой-то идеей, – внушало доверие.
– Так я слушаю вас, доктор Бильфингер, – еще раз сказал Густав.
Но Бильфингер не хотел говорить здесь, он не раз платился за подобное легкомыслие. Он обо всем расскажет Густаву, но только в таком месте, где можно быть уверенным, что тебя не подслушает шпик. Он предложил Густаву поехать после обеда куда-нибудь за город. За городом можно без помехи говорить и слушать.
И вот они сидят, залитые солнцем, на зеленом холмике на берегу озера, и Бильфингер рассказывает. Он жил в Швабии, недалеко от Кюнцлингена, в поместье, которое должен со временем унаследовать у своего дяди – президента сената фон Даффнера. 25 марта Бильфингер поехал в Кюнцлинген, в банк за деньгами. Он видел, как отряды нацистов под командой штандартенфюрера Клейна из Хейльбронна заняли Кюнцлинген, окружили синагогу, прервали субботнее богослужение, мужчин выгнали на улицу, а женщин заперли, не сказав им, куда угоняют мужчин. Мужчин привели в ратушу и стали «искать у них оружие». Для чего могло понадобиться людям, идущим в синагогу, оружие, осталось невыясненным. Как водится, людей избивали стальными хлыстами и резиновыми дубинками. Страшно было глядеть на этих несчастных, когда они вышли из ратуши. Семидесятилетний старец, некто Берг, умер в тот же день от разрыва сердца, как было потом официально заявлено. Бургомистр посоветовал евреям, которые в большинстве своем пользовались в городе любовью и уважением, немедленно покинуть Кюнцлинген, так как он не может поручиться за их неприкосновенность. Но лишь немногие были в состоянии последовать его совету, большинство было приковано к постели.
Его, Бильфингера, история эта возмутила, и он в сопровождении своего дяди, вышеупомянутого господина фон Даффнера, поехал в столицу Швабии Штутгарт, где подал жалобу заместителю министра полиции. Последний, некто доктор Диль, немедленно вызвал кюнцлингенского бургомистра. Бургомистр, увиливая от прямого ответа, то подтверждал, то отрицал факт избиения. Любого, кто посмеет разгласить их «подвиги», нацисты грозили изувечить так, что он вовек не забудет. Для точного выяснения всех обстоятельств этого дела министр послал в Кюнцлинген специальную комиссию под руководством двух полицейских советников, Вайценекера и Гейслера. Комиссия установила, что данные, сообщенные Бильфингером, далеко не исчерпывают сути дела. Однако расследование повлекло за собой лишь четырехдневное заключение в подследственную тюрьму одного из насильников; штандартенфюрера Клейна в виде наказания перевели в другой штандарт. В самой влиятельной газете Штутгарта об этих событиях сообщалось так: «Вблизи Мергентейма были произведены поиски оружия среди некоторой части населения. При обыске были допущены достойные порицания действия, вследствие чего один из обыскивавших задержан».
По профессии он, Бильфингер, юрист, юрист со специальным образованием, страстно преданный своему делу. Мысль, что деяния, явно преступающие четкие параграфы имперского уголовного кодекса, не наказуются, не давала ему покоя. Он стал присматриваться к тому, что творилось в районе Мергентейма, Ротенбурга и Крайльсгейма. Собрать проверенный материал было не так легко: потерпевшие жестоко запуганы, иные чуть не до сумасшествия. Им самим, женам их и детям пригрозили – если они пикнут, им несдобровать. И люди никого не подпускают к себе, боятся слово проронить. Но Бильфингеру все же удалось повидать и даже допросить кое-кого из раненых, говорить с заслуживающими доверия очевидцами, чиновниками регулярной полиции, врачами, которые пользовали пострадавших; он видел фотографические снимки. Нет никакого сомнения, что в этом районе имело место нарушение общественного порядка, организованные погромы, явное нарушение гражданского мира.
В местечке Бюнцельзее, например, «коричневые» пинками и побоями заставили тринадцать евреев пройти процессией по всем улицам; передний, держа в руке знамя, должен был при этом кричать: «Мы лгали, мы обманывали, мы предавали свое отечество!» Людям вырывали волосы из бороды и на голове, нещадно били их стальными хлыстами и резиновыми дубинками. В местечке Рейдельсгейм нацисты избили, наряду с другими евреями, одного учителя, отказавшегося составить список еврейских фирм, подлежавших бойкоту. С криками: «Исидор, где твой список?» – они так его изувечили, что посетивший его вечером родственник, по фамилии Бинсвангер, при виде его ран скончался от паралича сердца. Лечивший пострадавшего врач-христианин доктор Штаупп попросил своего пациента не связывать его врачебной тайной: он не останется в этой Германии, он уедет и разгласит все, что здесь происходит.
В Вейсахе девятерых наиболее уважаемых евреев поставили в ратуше лицом к стенке. Начался «допрос». Если кто-либо, отвечая на вопрос, машинально поворачивал голову к спрашивающему, его били по щекам. Среди «допрашиваемых» таким способом находились двое бывших офицеров-фронтовиков, один из них потерял на фронте руку. Многие жители города, христиане, громко изъявляли свое негодование, свое возмущение.
В Оберштеттене умирала старуха еврейка. Ландскнехты увели от постели умирающей обоих сыновей и учинили в квартире разгром «в поисках оружия». Присутствовавший чиновник регулярной полиции заявил, что он не желает быть свидетелем такого бесчинства. Старуха так и скончалась в одиночестве. Чиновник лишился места.
Так как вюртембергские власти, рассказывал Бильфингер, ограничились четырехдневным арестом одного ландскнехта и, видимо, больше никого не собирались карать за погромы, то он и его дядя, президент сената, отправились в Берлин заявить протест руководящим деятелям нового режима. Но повсюду в ответ только пожимали плечами, а если они настаивали на своем, им отвечали резкостями. Вообще в Германии сейчас очень косо смотрят на частных лиц, вторгающихся в область юстиции. Одного референдария присудили к десяти месяцам тюрьмы за то, что он на основании официальных данных составил списки убитых во время политических стычек. В конце концов один благожелатель посоветовал Бильфингеру и его дяде спешно ретироваться за границу: им угрожал «превентивный арест». «Превентивный арест» – это административная мера. Ее применяют как для того, чтобы общество уберечь от преступников, так и для того, чтобы «преступника уберечь от справедливого народного гнева», по выражению новых властителей. Любой начальник ландскнехтов или тайной полиции имеет право по собственному усмотрению произвести такой арест. В суд дело не передается, обвинительного акта арестованному не предъявляют, – ни обжалования, ни сроков не существует, адвокаты к защите не допускаются. Арестованных заключают в концентрационные лагеря. По идее это якобы исправительные заведения, соответствующие духу параграфа 562 Имперского уголовного кодекса. Концентрационные лагеря – самодержавное царство армии ландскнехтов, а они не терпят вмешательства никаких других властей. Ландскнехтов вербуют главным образом среди безработной молодежи. Они-то и призваны прививать профессорам, писателям, судьям, министрам, лидерам политических партий «качества, требуемые духом нового времени».
Обо всем этом Бильфингер повествовал, сидя на зеленом холмике над озером Лугано. Он говорил очень обстоятельно, сухим канцелярским языком, он не был хорошим рассказчиком. Его мягкий швабский говор странно контрастировал с содержанием того, что он рассказывал. Он сидел неподвижно, в иссиня-сером пальто, и говорил почти целый час, не упуская ни малейшей подробности. Густав слушал, сидя в неудобной позе, у него затекли ноги, но он почти не менял положения. Вначале он нервно мигал, но потом и взгляд у него застыл. Ни единым словом не прерывал он Бильфингера. Ему приходилось уже слышать и более страшные вещи, но протокольная сухость, с которой этот молодой человек излагал кровавые и грязные события, придавала им особую конкретность. Густав внимал ему всем существом. Он впитывал в себя каждое слово; оно целиком растворялось в нем, становилось ощущением, частью его самого.
Бильфингер говорил медленно, ровно, без пауз. До сих пор, сказал он, ему представлялась возможность описывать лишь отдельные случаи. А вот так, целиком, связно, без обиняков, деловито, как и подобает настоящему юристу, – он излагает все это впервые. Он настоятельно просит Густава правильно понять его. Его волнует не наличие тех или иных преступлений, а факт их безнаказанности. Он, Бильфингер, насквозь немец, член «Стального шлема», но он вместе с тем и насквозь юрист. Нет ничего удивительного в том, что среди шестидесяти пяти миллионов населения есть убийцы, есть выродки, но как немцу ему стыдно, что отрицание права и нравственности, свойственное первобытному человеку, провозглашено мудростью нации и возведено в идеал и норму. Организованные еврейские погромы и расстрелы рабочих, утвержденная законодательством антропологическая и зоологическая бессмыслица, узаконенный садизм – вот что его так возмущает. Он происходит из старинной семьи юристов и считает, что жизнь без правовых норм теряет свою ценность. Ему нечего делать с правом, которое новые властители ввели вместо римского и которое основано на принципе – человек не равен человеку: «чистокровный немец» господин по рождению, он самой природой поставлен выше других и подлежит суду по иным правовым нормам, нежели «нечистокровный немец». Он, Бильфингер, при всем желании не может признать законом декреты фашистских «законодателей», ибо одну часть этих законодателей следовало бы, согласно правовым нормам, существующим решительно у всех белых народов, бросить в тюрьмы как преступников, а другую, согласно экспертизе авторитетнейших врачей, запереть в дома для умалишенных. Человек, который по правомочному приговору шведских судей настолько невменяем, что не годится в опекуны собственному ребенку, тем более не годится в опекуны тридцати восьми миллионам пруссаков. Германия перестала быть правовым государством. Он, Бильфингер, ни о чем другом не в состоянии теперь думать. Он считает, что чистый немецкий воздух отравлен, грубо говоря, зловонием, зачумлен всем происшедшим, а еще более тем, что все эти преступления не влекут за собой должного наказания. Жить в этой стране он больше не может. Он пренебрег всеми своими перспективами в Германии и покинул ее. С выражением ожесточенности на квадратном лице Бильфингер смотрел сквозь большие очки в золотой оправе прямо перед собой.
– Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией, – сказал он желчно, яростно, беспомощно.
Густав молчал. «Они уничтожили меру вещей» – звучали у него в ушах слова его молодого собеседника. «Они уничтожили меру вещей». Густаву вдруг представился человек, измеряющий желтым складным метром небольшой предмет, 15, самое большее 20 сантиметров высоты. Человек мерил и мерил, а потом сломал метр и записал: 2 метра. Вслед за ним пришел другой человек и записал: 2,5 метра.
Больше минуты молчал Густав.
– Почему вы рассказали все это именно мне? – спросил он наконец. Голос его звучал неуверенно, он несколько раз откашлялся, чтобы прочистить горло.
Бильфингер посмотрел на него своими узкими глазами смущенно, застенчиво.
– Две вещи навели меня на мысль, что вас это должно волновать. Прежде всего то, что вы подписали воззвание против одичания общественной жизни, а затем – слово, сказанное о вас однажды моим другом Клаусом Фришлином. Он сказал, что вы «созерцатель». Я очень хорошо понимаю, что он разумел под этим словом, я высоко ценю моего друга Клауса Фришлина. – Бильфингер слегка покраснел, он смутился.
Солнце закатилось. Стало холодно. Густав, все так же с трудом выталкивая из себя слова, сказал:
– Благодарю вас, доктор Бильфингер, за то, что вы обратились ко мне. – И поспешно прибавил: – Становится холодно. Надо возвращаться.
На обратном пути он сказал:
– Не будем сейчас говорить, доктор Бильфингер. Нет смысла говорить об этом. – И действительно, что мог человек, любящий Германию, сказать о фактах, переданных Бильфингером? А что значит; любящий? Ему вспомнилось не то старинное, не то им самим сочиненное двустишие: «Любишь ли ты Германию? Что за пустой вопрос? Можно ли любить самого себя?»
Бильфингер сказал:
– Я совершенно точно записал все, что видел сам и что мне рассказывали другие. Точность этих показаний я подтвердил под присягой у цюрихского нотариуса. Такую же присягу принесли все те из очевидцев и жертв, которым удалось бежать за границу и которые могли все это подтвердить в качестве очевидцев и жертв. Если хотите, я пришлю вам эту запись. Но она длинна и читать ее тяжко.
– Да, пожалуйста, пришлите мне, – сказал Густав.
В этот вечер он не мог есть, в эту ночь он не мог спать. План – нанять или купить дом в горной деревушке Пиетра – казался ему теперь абсурдом.
Молодой доктор Бильфингер бросил в Германии многообещающую карьеру, он отказался от своей Германии, раз нечто подобное может остаться безнаказанным. А Бильфингер – немец, только немец, одна плоть и кровь с теми, кто убивает. Положение Густава хуже. Он одна плоть и кровь с теми, кто убивает, и с теми, кого убивают.
Людей истязают, им отбивают почки, срывают мясо с костей. Он об этом читал, ему рассказывали. Так было и в Восточной Пруссии, и в Силезии, и во Франконии, и в Пфальце. Но то были мертвые слова. И лишь теперь, после рассказа молодого шваба, мертвые слова ожили. Густав видит, ощущает все. Побои, о которых он слышал, ранят теперь его собственное тело.
Нет, в такое время он не может поселиться в горной деревушке Пиетра и сидеть там сложа руки.
Волна набегает и уходит, человеческие чувства и мысли исчезают, как волна. Но человеку дано сделать невозможное возможным. Одной и той же волне не подняться два раза, а человек может заставить ее подняться вторично. Он говорит: «Остановись, волна». Он запечатлевает преходящее в слове, в мраморе, звуке.
Иные производят на свет детей, чтобы продолжать свой род. Ему, Густаву, дано уменье: красоту, которую он почувствовал, передать другим. Он «созерцатель», сказал Фришлин. Это великое обязательство. Разве не обязан он передать другим жгучее возмущение, которое он испытал?
Приход фашистов к власти сопровождался такими гнусными делами, какие Европа уже много столетий считала немыслимыми. Но они герметически закупорили Германию. Кто скажет или только шепнет немцам о том, что происходит у них в стране, того будут преследовать до третьего поколения. На Курфюрстендамме в Берлине, на Юнгфернштиге в Гамбурге, на Гохштрассе в Кельне никто ничего не видел, даже не слышал о происходящих в стране гнусностях. Стало быть, торжествуют «коричневые», стало быть, их вовсе не было. Как же не кричать в оглохшие уши жителей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе, как же не пытаться открыть им глаза, не пытаться пробудить наконец их уснувшие чувства? И разве плохо оружие, которое он поднимет в этой борьбе, – гнев, его гнев?
На следующий день утром Густав снова сидел один на своей излюбленной скамье в самом конце набережной. Как все удивительно складывается. Не подпиши он того, может быть действительно ненужного, воззвания, он бы не сидел здесь, не разговаривал бы с Бильфингером, был бы, возможно, одним из тех слепых, глухих, с закрытым сердцем и с замкнутыми чувствами людей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе. Но случайность вовлекла его в водоворот. А может быть, не случайность.
Нет, не случайность. Фришлин сказал о нем, что он «созерцатель». Он знает, что понимал под этим словом Фришлин. Он горд тем, что Фришлин назвал его «созерцателем».
Молодой Бильфингер «документально зафиксировал события», он пришлет ему свою запись. Густав испытывает перед ней физический страх. Он испытывает страх при мысли, что рукопись эта будет в его комнате, в ящике маленького письменного стола у него в номере. Внизу, в ресторане, музыка, в зале танцуют, в баре пьют, болтают, флиртуют, а рукопись с холодным, жутким описанием ужасающих фактов лежит в ящике письменного стола.
Хоть бы Иоганнес Коган был уже тут. Чертовски трудно одному со всем этим справиться. Густав представляет себе смуглое, желтое, худое, умное, насмешливое лицо друга. Он изрядно поиздевался бы над Густавом, если бы знал, в какие выси поднимался он этой ночью и в какие бездны низвергался. Хорошо, что Иоганнес приезжает сегодня вечером.
Он так погрузился в свои думы, что слегка вздрогнул, когда его окликнули:
– Алло, Опперман!
С этим Иоганнесом трудно ладить, но и порвать с ним трудно. Годы, десятки лет Густав ссорится с ним; сотни раз он говорил себе: ну, теперь точка. Но он никогда не ставил этой точки. Иоганнес Коган из тех людей, которые доводят человека до белого каления, сшибают его с ног, навязывают ему новые мысли, но тот, кто по-настоящему поймет Иоганнеса, всегда будет тянуться к нему.
Вот уже больше года, как Иоганнес ничего не давал знать о себе. Он даже не поздравил Густава с пятидесятилетием. А между тем поступок Густава не мог послужить поводом к разрыву даже для самого обидчивого человека. В прошлую зиму, в пору, когда особенно усилились бесчинства студентов, Густав написал ему, настойчиво советуя бросить наконец профессуру в Лейпциге. Разве Иоганнес не добился чего хотел? Его книга «О коварстве идеи, или Есть ли смысл в мировой истории» получила всемирную известность, и множество иностранных университетов наперебой предлагали ему кафедру. Тогда лейпцигский сенат, ранее бывший против его кандидатуры, предложил ему должность ординарного профессора философии в Лейпцигском университете. Можно было удовольствоваться уже самим этим фактом. Лейпцигские студенты попросту не желали Иоганнеса. Они буянили через каждые два дня. Между тем он мог бы лучше и спокойнее жить литературным трудом. Что заставляло его, который так не выносил саксонского говора, жить именно в Лейпциге, в совершенно невозможной обстановке, среди студентов, грубивших ему на каждом шагу, да еще на своем саксонском наречии? Что за интерес сидеть на кафедре и дожидаться, пока полиция водворит порядок, чтобы получить возможность начать лекцию? Почему он стремится учить студентов, которые вовсе не желают учиться? Ведь достойных он может учить и через свои книги.
Обо всем этом ровно четырнадцать месяцев тому назад написал Густав своему другу Иоганнесу Когану. Но Иоганнес не ответил ему. И с тех пор вообще не давал о себе знать. Густав не признавался себе, но весь этот год молчание друга его жестоко обижало. А сам Иоганнес присвоил себе право всех и все издевательски, зло критиковать. В годы их совместного учения Иоганнес, бывало, занимая у Густава деньги, нередко тут же грубо высмеивал его. А когда ему, Иоганнесу, хочешь дать совет, осторожно, по-дружески, он с досадой отмахивается или, хуже того, больше года высокомерно молчит. Оказалось, однако, что Густав был прав тогда: фашиствующие студенты с улюлюканьем прогнали Иоганнеса из университета. Но, бог свидетель, Густав не торжествовал. Конечно, упорство, с которым его друг не оставлял своего поста, ужасно раздражало Густава, но в глубине души он уважал Иоганнеса за это упорство, хотя оно и было неблагоразумно; он завидовал Иоганнесу. Больше того: его настойчивость, честно говоря, была вечным укором Густаву.
Он вздохнул с великим облегчением, получив несколько дней назад письмо от Иоганнеса. Ему льстило, что Иоганнес, когда понадобилась дружеская поддержка, обратился именно к нему. Он тут же телеграфировал, чтобы Иоганнес выехал. Завтра, значит, он будет здесь. Густав ходил взад и вперед по палубе маленького пароходика твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Перед ним вставало смугло-желтое, остроносое, умное, подвижное, высокомерное лицо друга. Густав с удовольствием думал о предстоящем ему духовном массаже.
Давно уже не было на озере Лугано такой прекрасной весны, как в этом году. Было очень тепло, и все вокруг зацветало буйным и нежным цветом. Хорошо было бы уговорить Иоганнеса пожить несколько месяцев в этой горной деревушке. Вынужденный отъезд из Берлина представляется вдруг Густаву истинным даром судьбы. Разве это не дар, когда человек в пятьдесят лет получает возможность еще раз до самого основания перестроиться? С помощью Иоганнеса это, пожалуй, может выйти.
Пароходик причалил. Густав пошел по бульвару набережной. Приходилось раскланиваться со множеством знакомых. Но ему хотелось быть одному. Он прошел в самый конец бульвара, сел на скамью.
Много народу уехало из Германии, но во много раз больше осталось там. «Коричневые» не могут убить или засадить всех своих противников, так как их противники – это две трети населения. Приходится создавать какой-то modus vivendi[50 - способ ужиться с кем-либо (лат.)]. В эту пору, когда устанавливается новый порядок, между фашистами и их врагами возникают самые необычайные отношения как просто человеческого, так и делового порядка. Тысячи людей поднимаются на гребень волны, тысячи падают в пропасть. «Мы, как ведра на вороте колодца, судьба наполняет одно, осушает другое, вздымает высоко, спускает на дно, смыкает враждебное, непримиримое, – капризная, как малое дитя». Да, между теми, кто поднимается, и теми, кто падает, существовала всегда самая тесная связь, и теперь они это почувствовали. Преследователи то и дело предлагают преследуемым помочь удержаться на службе или сохранить состояние при условии, что преследуемые сделают их участниками своих благ; вся «национальная революция», если поближе к ней присмотреться, – это миллионы мелких сделок, основанных на взаимности.
Успокоенный прекрасным днем, весь во власти радостного ожидания друга, Густав беззлобно перебирал в памяти удивительные случаи, которые ему рассказывали.
Художник Гольстен, добродушный бахвал и далеко не первоклассный мастер, очень опустился. А во времена своего процветания он дружески обращался со своим камердинером и щедро одаривал его. Теперь этот камердинер служит у одного нацистского министра. Ему хотелось отплатить своему прежнему хозяину добром за добро. И ныне от художника Гольстена зависит, кого посадить заправилой во влиятельные союзы художников, кому дать государственные заказы.
Адвокат-националист, чуть ли не самый рьяный поборник изгнания евреев из юриспруденции, помог коллеге-еврею бежать за границу. «Я рассчитываю, коллега, – сказал он ему на прощание, – что в случае нужды вы окажете мне такую же услугу». Так многие теперешние властители пытаются обеспечить себе тыл на случай падения их режима.
Немного неприятно было думать о друге Фридрихе-Вильгельме Гутветтере. Густав прочел его последний очерк, в котором Гутветтер напыщенным, торжественным языком возвещал рожденье «Нового Человека». Нацисты пели дифирамбы Гутветтеру, а в оппозиционных кругах о нем сожалели, нападали на него, высмеивали. Густаву, убежденному в безусловной честности Гутветтера, было бы приятнее, если бы очерк этот не был написан. Вчера Густав получил письмо от Гутветтера. Гутветтер просит разрешения, ввиду того что поездка друга затягивается, пользоваться в его отсутствие библиотекой на Макс-Регерштрассе и временами работать там.
Мимо Густава, который беззлобно перебирал все эти факты, расценивал их, прошел молодой человек лет тридцати, крупного сложения, с костистым квадратным лицом. Густав знал его. Это был доктор Бильфингер из Южной Германии, владелец крупного состояния. Густав обратил на него внимание еще вчера и третьего дня, Молодой человек чем-то выделялся среди прочей публики: безупречно одетый, в иссиня-сером весеннем пальто, в крахмальном воротничке, он бродил всегда в одиночестве, держа шляпу в руках, погруженный в себя, устремив в пространство взгляд сильно прищуренных глаз. Увидев Густава, Бильфингер в нерешительности остановился, затем подошел и попросил разрешения присесть. Его, очевидно, что-то тяготило. С присущей ему непосредственностью и любезностью Густав подбодрил его. Да, сказал тот наконец, ему хотелось бы о многом поговорить, и именно с Густавом. Он кое-что слышал о нем от своего друга Фришлина. Он знает, что Густав тоже один из пострадавших, и ему хочется в некотором смысле просить у Густава прощения. Густава поразило упоминание о Фришлине. В сущности, в этом ничего неожиданного не было, к тому же – припомнилось ему – он несколько раз слышал от Фришлина имя Бильфингера. Но ему казалось, что в последнее время он почти намеренно забыл о Фришлине. Он подумал о рельсах-нитях на Бернском вокзале, и молодой Бильфингер показался ему вестником Фришлина. Густав взглянул на него. Доктор Бильфингер в своем сером пальто сидел подтянутый, строгий, его квадратное лицо с зачесанными наверх волосами – лицо человека, одержимого какой-то идеей, – внушало доверие.
– Так я слушаю вас, доктор Бильфингер, – еще раз сказал Густав.
Но Бильфингер не хотел говорить здесь, он не раз платился за подобное легкомыслие. Он обо всем расскажет Густаву, но только в таком месте, где можно быть уверенным, что тебя не подслушает шпик. Он предложил Густаву поехать после обеда куда-нибудь за город. За городом можно без помехи говорить и слушать.
И вот они сидят, залитые солнцем, на зеленом холмике на берегу озера, и Бильфингер рассказывает. Он жил в Швабии, недалеко от Кюнцлингена, в поместье, которое должен со временем унаследовать у своего дяди – президента сената фон Даффнера. 25 марта Бильфингер поехал в Кюнцлинген, в банк за деньгами. Он видел, как отряды нацистов под командой штандартенфюрера Клейна из Хейльбронна заняли Кюнцлинген, окружили синагогу, прервали субботнее богослужение, мужчин выгнали на улицу, а женщин заперли, не сказав им, куда угоняют мужчин. Мужчин привели в ратушу и стали «искать у них оружие». Для чего могло понадобиться людям, идущим в синагогу, оружие, осталось невыясненным. Как водится, людей избивали стальными хлыстами и резиновыми дубинками. Страшно было глядеть на этих несчастных, когда они вышли из ратуши. Семидесятилетний старец, некто Берг, умер в тот же день от разрыва сердца, как было потом официально заявлено. Бургомистр посоветовал евреям, которые в большинстве своем пользовались в городе любовью и уважением, немедленно покинуть Кюнцлинген, так как он не может поручиться за их неприкосновенность. Но лишь немногие были в состоянии последовать его совету, большинство было приковано к постели.
Его, Бильфингера, история эта возмутила, и он в сопровождении своего дяди, вышеупомянутого господина фон Даффнера, поехал в столицу Швабии Штутгарт, где подал жалобу заместителю министра полиции. Последний, некто доктор Диль, немедленно вызвал кюнцлингенского бургомистра. Бургомистр, увиливая от прямого ответа, то подтверждал, то отрицал факт избиения. Любого, кто посмеет разгласить их «подвиги», нацисты грозили изувечить так, что он вовек не забудет. Для точного выяснения всех обстоятельств этого дела министр послал в Кюнцлинген специальную комиссию под руководством двух полицейских советников, Вайценекера и Гейслера. Комиссия установила, что данные, сообщенные Бильфингером, далеко не исчерпывают сути дела. Однако расследование повлекло за собой лишь четырехдневное заключение в подследственную тюрьму одного из насильников; штандартенфюрера Клейна в виде наказания перевели в другой штандарт. В самой влиятельной газете Штутгарта об этих событиях сообщалось так: «Вблизи Мергентейма были произведены поиски оружия среди некоторой части населения. При обыске были допущены достойные порицания действия, вследствие чего один из обыскивавших задержан».
По профессии он, Бильфингер, юрист, юрист со специальным образованием, страстно преданный своему делу. Мысль, что деяния, явно преступающие четкие параграфы имперского уголовного кодекса, не наказуются, не давала ему покоя. Он стал присматриваться к тому, что творилось в районе Мергентейма, Ротенбурга и Крайльсгейма. Собрать проверенный материал было не так легко: потерпевшие жестоко запуганы, иные чуть не до сумасшествия. Им самим, женам их и детям пригрозили – если они пикнут, им несдобровать. И люди никого не подпускают к себе, боятся слово проронить. Но Бильфингеру все же удалось повидать и даже допросить кое-кого из раненых, говорить с заслуживающими доверия очевидцами, чиновниками регулярной полиции, врачами, которые пользовали пострадавших; он видел фотографические снимки. Нет никакого сомнения, что в этом районе имело место нарушение общественного порядка, организованные погромы, явное нарушение гражданского мира.
В местечке Бюнцельзее, например, «коричневые» пинками и побоями заставили тринадцать евреев пройти процессией по всем улицам; передний, держа в руке знамя, должен был при этом кричать: «Мы лгали, мы обманывали, мы предавали свое отечество!» Людям вырывали волосы из бороды и на голове, нещадно били их стальными хлыстами и резиновыми дубинками. В местечке Рейдельсгейм нацисты избили, наряду с другими евреями, одного учителя, отказавшегося составить список еврейских фирм, подлежавших бойкоту. С криками: «Исидор, где твой список?» – они так его изувечили, что посетивший его вечером родственник, по фамилии Бинсвангер, при виде его ран скончался от паралича сердца. Лечивший пострадавшего врач-христианин доктор Штаупп попросил своего пациента не связывать его врачебной тайной: он не останется в этой Германии, он уедет и разгласит все, что здесь происходит.
В Вейсахе девятерых наиболее уважаемых евреев поставили в ратуше лицом к стенке. Начался «допрос». Если кто-либо, отвечая на вопрос, машинально поворачивал голову к спрашивающему, его били по щекам. Среди «допрашиваемых» таким способом находились двое бывших офицеров-фронтовиков, один из них потерял на фронте руку. Многие жители города, христиане, громко изъявляли свое негодование, свое возмущение.
В Оберштеттене умирала старуха еврейка. Ландскнехты увели от постели умирающей обоих сыновей и учинили в квартире разгром «в поисках оружия». Присутствовавший чиновник регулярной полиции заявил, что он не желает быть свидетелем такого бесчинства. Старуха так и скончалась в одиночестве. Чиновник лишился места.
Так как вюртембергские власти, рассказывал Бильфингер, ограничились четырехдневным арестом одного ландскнехта и, видимо, больше никого не собирались карать за погромы, то он и его дядя, президент сената, отправились в Берлин заявить протест руководящим деятелям нового режима. Но повсюду в ответ только пожимали плечами, а если они настаивали на своем, им отвечали резкостями. Вообще в Германии сейчас очень косо смотрят на частных лиц, вторгающихся в область юстиции. Одного референдария присудили к десяти месяцам тюрьмы за то, что он на основании официальных данных составил списки убитых во время политических стычек. В конце концов один благожелатель посоветовал Бильфингеру и его дяде спешно ретироваться за границу: им угрожал «превентивный арест». «Превентивный арест» – это административная мера. Ее применяют как для того, чтобы общество уберечь от преступников, так и для того, чтобы «преступника уберечь от справедливого народного гнева», по выражению новых властителей. Любой начальник ландскнехтов или тайной полиции имеет право по собственному усмотрению произвести такой арест. В суд дело не передается, обвинительного акта арестованному не предъявляют, – ни обжалования, ни сроков не существует, адвокаты к защите не допускаются. Арестованных заключают в концентрационные лагеря. По идее это якобы исправительные заведения, соответствующие духу параграфа 562 Имперского уголовного кодекса. Концентрационные лагеря – самодержавное царство армии ландскнехтов, а они не терпят вмешательства никаких других властей. Ландскнехтов вербуют главным образом среди безработной молодежи. Они-то и призваны прививать профессорам, писателям, судьям, министрам, лидерам политических партий «качества, требуемые духом нового времени».
Обо всем этом Бильфингер повествовал, сидя на зеленом холмике над озером Лугано. Он говорил очень обстоятельно, сухим канцелярским языком, он не был хорошим рассказчиком. Его мягкий швабский говор странно контрастировал с содержанием того, что он рассказывал. Он сидел неподвижно, в иссиня-сером пальто, и говорил почти целый час, не упуская ни малейшей подробности. Густав слушал, сидя в неудобной позе, у него затекли ноги, но он почти не менял положения. Вначале он нервно мигал, но потом и взгляд у него застыл. Ни единым словом не прерывал он Бильфингера. Ему приходилось уже слышать и более страшные вещи, но протокольная сухость, с которой этот молодой человек излагал кровавые и грязные события, придавала им особую конкретность. Густав внимал ему всем существом. Он впитывал в себя каждое слово; оно целиком растворялось в нем, становилось ощущением, частью его самого.
Бильфингер говорил медленно, ровно, без пауз. До сих пор, сказал он, ему представлялась возможность описывать лишь отдельные случаи. А вот так, целиком, связно, без обиняков, деловито, как и подобает настоящему юристу, – он излагает все это впервые. Он настоятельно просит Густава правильно понять его. Его волнует не наличие тех или иных преступлений, а факт их безнаказанности. Он, Бильфингер, насквозь немец, член «Стального шлема», но он вместе с тем и насквозь юрист. Нет ничего удивительного в том, что среди шестидесяти пяти миллионов населения есть убийцы, есть выродки, но как немцу ему стыдно, что отрицание права и нравственности, свойственное первобытному человеку, провозглашено мудростью нации и возведено в идеал и норму. Организованные еврейские погромы и расстрелы рабочих, утвержденная законодательством антропологическая и зоологическая бессмыслица, узаконенный садизм – вот что его так возмущает. Он происходит из старинной семьи юристов и считает, что жизнь без правовых норм теряет свою ценность. Ему нечего делать с правом, которое новые властители ввели вместо римского и которое основано на принципе – человек не равен человеку: «чистокровный немец» господин по рождению, он самой природой поставлен выше других и подлежит суду по иным правовым нормам, нежели «нечистокровный немец». Он, Бильфингер, при всем желании не может признать законом декреты фашистских «законодателей», ибо одну часть этих законодателей следовало бы, согласно правовым нормам, существующим решительно у всех белых народов, бросить в тюрьмы как преступников, а другую, согласно экспертизе авторитетнейших врачей, запереть в дома для умалишенных. Человек, который по правомочному приговору шведских судей настолько невменяем, что не годится в опекуны собственному ребенку, тем более не годится в опекуны тридцати восьми миллионам пруссаков. Германия перестала быть правовым государством. Он, Бильфингер, ни о чем другом не в состоянии теперь думать. Он считает, что чистый немецкий воздух отравлен, грубо говоря, зловонием, зачумлен всем происшедшим, а еще более тем, что все эти преступления не влекут за собой должного наказания. Жить в этой стране он больше не может. Он пренебрег всеми своими перспективами в Германии и покинул ее. С выражением ожесточенности на квадратном лице Бильфингер смотрел сквозь большие очки в золотой оправе прямо перед собой.
– Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией, – сказал он желчно, яростно, беспомощно.
Густав молчал. «Они уничтожили меру вещей» – звучали у него в ушах слова его молодого собеседника. «Они уничтожили меру вещей». Густаву вдруг представился человек, измеряющий желтым складным метром небольшой предмет, 15, самое большее 20 сантиметров высоты. Человек мерил и мерил, а потом сломал метр и записал: 2 метра. Вслед за ним пришел другой человек и записал: 2,5 метра.
Больше минуты молчал Густав.
– Почему вы рассказали все это именно мне? – спросил он наконец. Голос его звучал неуверенно, он несколько раз откашлялся, чтобы прочистить горло.
Бильфингер посмотрел на него своими узкими глазами смущенно, застенчиво.
– Две вещи навели меня на мысль, что вас это должно волновать. Прежде всего то, что вы подписали воззвание против одичания общественной жизни, а затем – слово, сказанное о вас однажды моим другом Клаусом Фришлином. Он сказал, что вы «созерцатель». Я очень хорошо понимаю, что он разумел под этим словом, я высоко ценю моего друга Клауса Фришлина. – Бильфингер слегка покраснел, он смутился.
Солнце закатилось. Стало холодно. Густав, все так же с трудом выталкивая из себя слова, сказал:
– Благодарю вас, доктор Бильфингер, за то, что вы обратились ко мне. – И поспешно прибавил: – Становится холодно. Надо возвращаться.
На обратном пути он сказал:
– Не будем сейчас говорить, доктор Бильфингер. Нет смысла говорить об этом. – И действительно, что мог человек, любящий Германию, сказать о фактах, переданных Бильфингером? А что значит; любящий? Ему вспомнилось не то старинное, не то им самим сочиненное двустишие: «Любишь ли ты Германию? Что за пустой вопрос? Можно ли любить самого себя?»
Бильфингер сказал:
– Я совершенно точно записал все, что видел сам и что мне рассказывали другие. Точность этих показаний я подтвердил под присягой у цюрихского нотариуса. Такую же присягу принесли все те из очевидцев и жертв, которым удалось бежать за границу и которые могли все это подтвердить в качестве очевидцев и жертв. Если хотите, я пришлю вам эту запись. Но она длинна и читать ее тяжко.
– Да, пожалуйста, пришлите мне, – сказал Густав.
В этот вечер он не мог есть, в эту ночь он не мог спать. План – нанять или купить дом в горной деревушке Пиетра – казался ему теперь абсурдом.
Молодой доктор Бильфингер бросил в Германии многообещающую карьеру, он отказался от своей Германии, раз нечто подобное может остаться безнаказанным. А Бильфингер – немец, только немец, одна плоть и кровь с теми, кто убивает. Положение Густава хуже. Он одна плоть и кровь с теми, кто убивает, и с теми, кого убивают.
Людей истязают, им отбивают почки, срывают мясо с костей. Он об этом читал, ему рассказывали. Так было и в Восточной Пруссии, и в Силезии, и во Франконии, и в Пфальце. Но то были мертвые слова. И лишь теперь, после рассказа молодого шваба, мертвые слова ожили. Густав видит, ощущает все. Побои, о которых он слышал, ранят теперь его собственное тело.
Нет, в такое время он не может поселиться в горной деревушке Пиетра и сидеть там сложа руки.
Волна набегает и уходит, человеческие чувства и мысли исчезают, как волна. Но человеку дано сделать невозможное возможным. Одной и той же волне не подняться два раза, а человек может заставить ее подняться вторично. Он говорит: «Остановись, волна». Он запечатлевает преходящее в слове, в мраморе, звуке.
Иные производят на свет детей, чтобы продолжать свой род. Ему, Густаву, дано уменье: красоту, которую он почувствовал, передать другим. Он «созерцатель», сказал Фришлин. Это великое обязательство. Разве не обязан он передать другим жгучее возмущение, которое он испытал?
Приход фашистов к власти сопровождался такими гнусными делами, какие Европа уже много столетий считала немыслимыми. Но они герметически закупорили Германию. Кто скажет или только шепнет немцам о том, что происходит у них в стране, того будут преследовать до третьего поколения. На Курфюрстендамме в Берлине, на Юнгфернштиге в Гамбурге, на Гохштрассе в Кельне никто ничего не видел, даже не слышал о происходящих в стране гнусностях. Стало быть, торжествуют «коричневые», стало быть, их вовсе не было. Как же не кричать в оглохшие уши жителей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе, как же не пытаться открыть им глаза, не пытаться пробудить наконец их уснувшие чувства? И разве плохо оружие, которое он поднимет в этой борьбе, – гнев, его гнев?
На следующий день утром Густав снова сидел один на своей излюбленной скамье в самом конце набережной. Как все удивительно складывается. Не подпиши он того, может быть действительно ненужного, воззвания, он бы не сидел здесь, не разговаривал бы с Бильфингером, был бы, возможно, одним из тех слепых, глухих, с закрытым сердцем и с замкнутыми чувствами людей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе. Но случайность вовлекла его в водоворот. А может быть, не случайность.
Нет, не случайность. Фришлин сказал о нем, что он «созерцатель». Он знает, что понимал под этим словом Фришлин. Он горд тем, что Фришлин назвал его «созерцателем».
Молодой Бильфингер «документально зафиксировал события», он пришлет ему свою запись. Густав испытывает перед ней физический страх. Он испытывает страх при мысли, что рукопись эта будет в его комнате, в ящике маленького письменного стола у него в номере. Внизу, в ресторане, музыка, в зале танцуют, в баре пьют, болтают, флиртуют, а рукопись с холодным, жутким описанием ужасающих фактов лежит в ящике письменного стола.
Хоть бы Иоганнес Коган был уже тут. Чертовски трудно одному со всем этим справиться. Густав представляет себе смуглое, желтое, худое, умное, насмешливое лицо друга. Он изрядно поиздевался бы над Густавом, если бы знал, в какие выси поднимался он этой ночью и в какие бездны низвергался. Хорошо, что Иоганнес приезжает сегодня вечером.
Он так погрузился в свои думы, что слегка вздрогнул, когда его окликнули:
– Алло, Опперман!