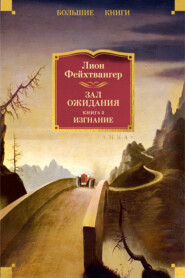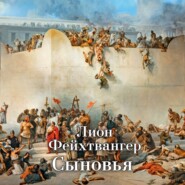По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семья Опперман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Увидев мужа в дверях, фрау Вольфсон стала бурно изливать свою радость и не менее бурно выражать возмущение по поводу страданий, которые пришлось ни за что ни про что перенести ее мужу. Она совершенно не считалась с тем, что ее могут слышать в соседней квартире, и деловито бегала из комнат в кухню и обратно. Прежде всего она приготовила Маркусу горячую ванну; потом принялась стряпать, оставив открытой дверь на кухню. Маркус сидел в большом вольтеровском кресле, и они громко переговаривались. Он утопал в блаженстве. Какое огромное счастье вернуться домой. Он сидел, смотрел, слушал и почти не говорил.
Она глядела, с какой жадностью он поглощает еду, накладывая себе еще и еще, и даже не вспомнила, сколько все это стоит. Выложить свое обвинение она собиралась потом, когда он покончит с едой, но так как это очень уж долго продолжалось, она не выдержала, и когда он, уничтожив шницель с яйцом, принялся за сыр, заговорила о чудовищном обмане, который он совершил по отношению к ней и детям. Он слабо оправдывался и медленно, с наслаждением жевал сыр, чувствуя себя виноватым, но не очень.
Пережитые волнения придали ему твердости. Он решил уехать в Палестину. Он был тщедушен и слаб здоровьем. Но человека, который мог выдержать несколько недель в подследственной тюрьме при нацистском режиме, да еще по обвинению в поджоге рейхстага, уже не могут испугать ни древнееврейский язык, ни работа на палестинских полях. Фрау Вольфсон попросту высмеяла его. Однако господин Вольфсон оставался тверд, говорил о судьбе, читал библию, знакомился в читальне еврейской общины с литературой о Палестине. Заручившись рекомендациями Мартина Оппермана и Бригера, он обивал сотни порогов, чтобы сколотить необходимую для выезда в Палестину сумму, и подготовлял, хотя и не очертя голову, но все-таки поспешно, свой отъезд.
При этом он с не меньшим рвением, чем всегда, выполнял свои обязанности в фирме Опперман. Упаковщик Гинкель смотрел на него с ненавистью, но не без удивления: как этому человеку удалось вырваться из когтей нацистов? Упаковщик Гинкель пришел к выводу, что даже нацисты не в силах одолеть тайного союза евреев всего мира. Шестьдесят пять миллионов немцев не могли прогнать со службы одного Маркуса Вольфсона.
Маркус Вольфсон стал мудрым. Он вспоминал проведенные в страхе ночи, когда он в холодном поту, без сна, лежал рядом с Марией, вспоминал кошмарные ночи в ярко освещенной камере. Под влиянием пережитого он и добрее стал. Ему даже не доставила особой радости новость, что арестован Царнке вместе со всем его отрядом; рейхсвер обезоружил ландскнехтов, и их отправили в концентрационный лагерь. Конечно, маленькое удовлетворение Маркус Вольфсон все же испытал. Когда-то он представлял себе, как он отомстит этому Царнке. А теперь сама судьба воздала ему, и гораздо ужаснее, чем того желал Маркус Вольфсон, ибо если в тюремной камере было так страшно, то можно себе представить, что творилось в концентрационном лагере.
Господин Вольфсон не обольщался кажущимся спокойствием и надежностью своего положения. Не покладая рук подготовлял он свой отъезд, свое переселение под более приветливое небо.
Как-то, когда ему уже твердо обещали, что его ходатайство о визе на въезд в Палестину будет удовлетворено, фрау Вольфсон рассказала ему, что к ней заходила фрау Царнке и просила, нельзя ли что-нибудь сделать для ее мужа. Он невинен, как грудной младенец, а его засадили в концентрационный лагерь; к тому же из пособия, которое ей выдают, у нее вычитают еще на его содержание, и у нее на все кругом остается пятьдесят две марки; даже квартиру она не в состоянии оплатить; придется, вероятно, отдать ее шурину господина Царнке. Господин Вольфсон подавил в себе чувство торжества, готовое охватить его, покачал головой и сказал:
– Да, такова жизнь. – А потом добавил, что чрезвычайно рискованно подвергать критике правительственные мероприятия. Но когда он будет по ту сторону границы, он не прочь раскошелиться и выслать фрау Царнке в качестве единовременной помощи полпалестинского фунта.
Жак Лавендель вынул опреснок из старинной серебряной многоярусной вазы и разломил его надвое. Он откинулся на атласную подушку с вышитыми на ней золотом древнееврейскими письменами. Хриплым голосом читал он нараспев по-арамейски: «Это хлеб изгнания, который ели отцы наши в Египте. Голодный да придет и ест с нами. Жаждущий да придет и празднует с нами праздник пасхи. В этом году здесь, в будущем – в Иерусалиме. В этом году рабы, в будущем – свободные люди». Потом он повернулся к сыну и сказал:
– Ну, Генрих, теперь твоя очередь.
И Генрих, так же нараспев, прочел древние вопросы, которые задает в этот вечер самый младший из сидящих за столом. «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Все думали о Бертольде; будь он жив, он читал бы теперь эти вопросы, так как он был моложе Генриха.
Это был вечер 11 апреля, или 14 нисана по еврейскому исчислению, первый пасхальный вечер, сейдер. С незапамятных времен эта ночь священна для евреев, они отмечают ее домашним богослужением и ритуальным ужином; так чтят они память об освобождении из Египта и пасхальном вечере. Память эта жива на протяжении нескольких тысячелетий, ибо: «не только фараоны воздвигали гонения против нас», говорится в литургии этого вечера, «во все времена были люди, заносившие меч над нами, дабы уничтожить нас, но господь спасал нас от рук их».
Со дня пятидесятилетия Густава семья Опперман не собиралась в таком полном составе, как в этот пасхальный вечер в доме Жака Лавенделя, на берегу озера Лугано. Иоахим Ранцов и Лизелотта тоже присутствовали. Все сидели вокруг большого, празднично сервированного стола. Сосуды, употребляемые при пасхальных обрядах, были лучшими экземплярами в коллекции Жака Лавенделя. На столе стояла старинная многоярусная серебряная ваза для опресноков, всевозможные маленькие серебряные тарелочки, одна с костью и остатками жареного мяса, другая – с листьями салата, мисочка со сладким муссом из яблок с орехами. Серебряные кубки с вином, один – большой, нетронутый, для Ильи-пророка, предтечи мессии, на случай, если он, как следовало надеяться, посетит в пасхальную ночь этот дом. Около каждого прибора Жак Лавендель положил книжечку с пасхальными молитвами – «Аггаду». У него было множество изданий «Аггады», среди них очень старинные, с иллюстрациями.
Слушая хриплый голос Жака Лавенделя, напевавшего старинные молитвы, Густав перелистывал свою «Аггаду», рассматривал наивные иллюстрации. Вот фараон с неподвижным лицом и короной на голове сидит в ванне; совершаются знаменитые десять казней египетских – вода превращается в кровь. А вот фараон с тем же неподвижным лицом сидит на троне, и вокруг него – все те же десять казней – прыгают жабы. Перечисляя десять казней, следовало при упоминании каждой казни обмакивать в вине по одному пальцу, и так все десять; десять капель отливались из кубка радости, потому что эта радость досталась ценою страданий других людей. О собственных мучениях тоже вспоминалось вдосталь. На наивных картинках «Аггады» изображены были евреи, таскавшие под ударами плетей кирпич и глину для постройки городов Пифона и Рамзеса. В сущности, тогдашним евреям было не так уж плохо; плети у надсмотрщиков обыкновенные. Теперь евреев бьют резиновыми дубинками и стальными хлыстами, поговаривают даже о подпаленных ладонях и ступнях. И вдруг в воображении Густава вновь возникла картина, которая неотступно преследовала его со дня получения памятной телеграммы: друг его, Иоганнес Коган, стоит на ящике, ящик почему-то треугольный, с острыми ребрами. Иоганнес пляшет, стоя именно на ребре ящика; он причудливо приседает, пружинисто подпрыгивает и опять приседает, как паяц, которого изображал знаменитый танцор в каком-то давно виденном балете; Иоганнес вытягивает руки и с каждым приседанием, как попугай, выкрикивает: «Я, жидовский выродок, предал отечество».
Густав сделал над собой усилие и вернулся к иллюстрациям в своей «Аггаде». Вот сидят они, горсточка евреев, вокруг длинного стола за вечерней трапезой. Около двух тысяч лет празднуют так евреи свое «освобождение». Однако дарованная им свобода весьма сомнительного свойства. Когда они молят господа бога излить гнев свой на врагов их, то в знак твердого упования они отворяют двери, чтобы и враги знали, как тверда их вера. Осторожные же люди, как господин Вейнберг, например, посылают сначала в коридор посмотреть, не подслушивает ли там кто-нибудь. Но, несмотря ни на что, они продолжают упорно верить в свое полное освобождение. Вот уже почти девятнадцать веков, как они ставят на стол кубок с вином для пророка, предтечи мессии, ставят упрямо, год за годом, и на следующее утро дети разочарованно убеждаются, что бокал как был полный, так и остался и что пророк опять не отпил из него. «Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши».
Жак Лавендель кончил первую часть затрапезных молитв. Приступили к ужину. До ужина они читали по-древнееврейски и по-арамейски о стране Египте, из которой бог две тысячи лет тому назад вывел евреев; теперь же они говорили по-немецки о немецкой стране, из которой евреев еще никто не вывел. Лишь немногим удалось спастись бегством из страны ужасов; остальных просто не выпускали, а если кому-либо и давали возможность уехать, то накладывали арест на его имущество. Когда же за границей рассказывали об ужасах, происходящих в Германии, угнетатели пользовались этим как предлогом для еще более зверской травли тех, кто оставался в Германии. Что же делать? Молчать, не восстанавливать цивилизованный мир против этого царства варваров? Нет, молчать нельзя, – так думают все сидящие за этим столом, ибо все равно, есть предлог или нет его, нацисты твердо решили переложить в свои карманы имущество евреев, захватить их места, уничтожить их самих. Нельзя прятать голову под крыло. Надо неустанно твердить всему миру о том, что в нынешней Германии насаждается ненависть к культуре, что первобытные инстинкты возводятся в добродетель, что мораль первобытных орд поднята на высоту государственной религии. Но Опперманы – люди умные, они знают свет, знают его равнодушие. У иных имущество в Германии, им не хочется его терять, иные заинтересованы в военных поставках Германии, а иные боятся, что на смену фашизму может прийти большевизм. Гуманность и цивилизация – слабые доводы против этих соображений. Чтобы побудить мир к вмешательству, нужны более осязательные аргументы.
Мартин заговорил о своих планах. Ему хочется по мере своих скромных сил содействовать пересадке на другую почву того, что есть хорошего в Германии. Его давно уже интересовал архитектор, специалист по интерьеру, Бюркнер. Но мебельная фирма Опперман в Берлине была неподходящим полем действия для этого архитектора: там Мартин не мог как следует его популяризировать. Теперь он собирается пригласить его в Лондон, где хочет открыть магазин для продажи вещей, сделанных исключительно по моделям Бюркнера. К большим прибылям Мартин не стремится. Да и для кого они нужны ему? Но ту или иную задачу в жизни человек иметь должен.
Сказанное Мартином причинило Густаву почти физическую боль. Бывало, он посмеивался над «достоинством», в которое облекался Мартин. А теперь, увидев Мартина, сбросившего с себя эту броню, он был потрясен. Прежде Мартин никогда так многоречиво не распространялся бы о своем положении, своих планах, своей «задаче». А задача-то какова? Из Германии захватывают с собой то, что в ней есть хорошего, и пересаживают на заграничную почву. Слишком простой выход из положения, мой милый. А что же сама Германия – пусть гибнет? Мартин и не понимает, как ему хорошо. Рядом с ним сидит его Лизелотта. Лицо у нее, правда, не такое светлое, как раньше, удлиненные серые глаза не такие ясные. И все-таки сколько в ней уверенности и спокойствия. Куда бы ни переселился Мартин, в Лизелотте он берет с собой кусок Германии. А таких, как Лизелотта, верных, стойких немцев, много. Много есть Бильфингеров и Фришлинов. И сейчас еще Германия полна ими. Что же, бросить их на произвол судьбы? В ящике его письменного стола в бернской гостинице лежат документы Бильфингера. Иоганнес Коган заключен в концентрационный лагерь, его «исправляют». Кто в Германии знает обо всех этих вещах? Разве не обязан кто-нибудь открыть глаза людям? Густав чувствует глубокую связь с братьями, со всеми, кто сидит за этим столом. Они все очень умны, он уважает их за здравый смысл, которого у них больше, чем у него. Но сейчас их практический ум кажется ему слишком равнодушным, косным. Кто, подобно ему, перечувствовал документы Бильфингера, перечувствовал терзания Иоганнеса Когана, тот уже не может считаться с практическими соображениями.
Ужин кончился. Жак Лавенделъ возобновил моление. Но он не был строг и не сердился на тех своих гостей, которые, усевшись в уголке, продолжали вполголоса беседу.
Среди них Гина. С озабоченным видом рассказывает она о своих трудностях. У нее был нелегкий выбор: то ли Эдгара сопровождать в Париж, то ли Рут – в Палестину. Теперь они проводили свою девочку на пароход. Девочка категорически воспротивилась желанию матери сопровождать ее в Палестину. Рут ведь очень самостоятельна и очень умна. Но как бы она ни протестовала, они непременно поедут в Палестину посмотреть, как она там устроилась, пусть только Эдгар наладит свою лабораторию в Париже.
Эдгар не слышит торопливой бесцветной болтовни жены. Он сидит за столом, за которым распевает молитвы Жак Лавендель, и перелистывает свою «Аггаду». В детстве он учился древнееврейскому, но не слишком усердно. С трудом разбирает он сейчас слова и с помощью приложенного перевода раскрывает их смысл. Он космополит, он всегда высмеивал стремление сионистов воскресить мертвый язык, а вот маленькому доктору Якоби придется теперь засесть за древнееврейский, если он хочет работать в Палестине: ведь других возможностей у Якоби нет. У него, Эдгара, много возможностей, но они доставляют ему мало радости. Он уже не молод, позади тяжелый год, да и впереди, конечно, нелегкий. Он тоже рассматривает наивные иллюстрации своей «Аггады». Вот египтяне бросают в Нил еврейских младенцев. Что за кустарный способ. Наши египтяне поступают радикальней. Всех евреев они собираются подвергнуть стерилизации, а заодно и социалистов и вообще всех интеллигентов. Размножаться впредь должны только нацисты, им нужно обезопасить себя от вредных элементов, которые могут испортить им кашу.
Беседующие в уголке вновь заговорили о Германии. Они старались говорить деловито, сухо. Но сухость их – только маска. Их родина, их Германия, оказалась изменницей. Они так твердо стояли на земле своей родины, веками утверждались на ней, и теперь вдруг она ускользает из-под ног. Трезво рассудив, они приходили к заключению, что, видимо, им никогда не вернуться в Германию. Чем, в самом деле, может кончиться господство фашистов, как не войной, кровавыми потрясениями? Но про себя каждый, вопреки рассудку, надеялся, что все повернется иначе: Германия снова станет великой и здоровой, и они смогут вернуться на родину.
Жак Лавендель пригласил гостей к столу. Он дошел до предпоследней страницы своей «Аггады». «Тут вам придется поддержать меня», – ласково уговаривал он. Он начал читать заключительную часть «Аггады», древнюю арамейскую песню о козочке, которую отец курил за два гроша и которую кошка искусала насмерть. И тут начинался круговорот судеб и возмездие: собака разорвала кошку, палка ударила собаку, огонь сжег палку, вода погасила огонь, вол выпил воду, мясник заколол вола, смерть сразила мясника, и бог сразил смерть. Ко-озочка, козочка! Жак Лавендель, полузакрыв глаза, покачивая головой, упоенно напевал простую, мудрую, меланхолическую песенку. Таинственно звучали арамейские слова. Даже в немецком переводе от них веяло древностью, покоем и в то же время угрозой. Сквозь голос Жака Лавенделя Густаву слышался желчный швабский говор: «они уничтожили меру вещей», чудилась рука, которая стирала неправильную цифру «2,5 метра» и вместо нее записывала точную цифру.
Жак Лавендель допел песню о козочке, и наступило молчание. Нарушил его Генрих.
– Well, daddy[52 - прекрасно, папа (англ.)], – сказал он. – Ты очень хорошо поешь, но если бы ты поставил пластинку с этой песней, было бы еще лучше.
Перешли в другую комнату. Жак Лавендель, мгновенно преобразившись из молящегося старого еврея, выходца из гетто, в современного делового человека, заговорил о своих планах. Он собирался прежде всего пожить несколько месяцев здесь, основательно полодырничать. В сущности, он должен быть благодарен фюреру, что тот, правда, не слишком вежливо, но все-таки заставил его наконец взять отпуск. Он будет много читать. Ведь он очень мало учился. Генрих один не может восполнить пробелы в образовании отца, хотя совет по поводу граммофона и свидетельствует о его наблюдательности. Потом он собирается поездить по свету. Нельзя полагаться на книги и газеты; надо побывать в Америке, в России, Палестине и воочию убедиться, что и где делается.
Слушая Жака Лавенделя, Мартин думал: Жаку Лавенделю хорошо говорить о путешествиях. Что самое приятное в путешествии? Возвращение домой. У Жака есть здесь дом, свой очаг, у него есть подданство, он единственный из них, у кого есть твердая почва под ногами. Все остальные лишены собственного крова; когда кончится срок их паспортов, им вряд ли возобновят их. Мартина в последнее время не так-то легко пронять, однако при мысли, что дом на Гертраудтенштрассе уплывает из их рук, что единственная прочная база Опперманов – вот это случайное прибежище в Лугано, – сердце у него больно сжимается. А тут еще Клара, как всегда самая молчаливая из всех, сказала с присущей ей прямолинейностью:
– Никто из нас, видимо, не знает еще, куда он направится. Но помните: здесь вы во всякое время желанные гости. Мы были бы очень рады, если бы вы время от времени съезжались сюда повидаться. – Клара говорила рассудительно и просто, как всегда. Но все почувствовали, что у Опперманов нет больше своего очага, что история Эммануила Оппермана, его детей и внуков кончилась.
Сегодня они еще вместе. Но в будущем разве только случай может свести их. Родины они лишились, потеряли Бертольда, потеряли и дом на Гертраудтенштрассе и все, что было с ним связано, потеряли лабораторию Эдгара, особняк на Макс-Регерштрассе. Все, что создали три поколения в Берлине и трижды семь поколений в Германии, кануло в вечность. Мартин едет в Лондон, Эдгар – в Париж, Рут – в Тель-Авиве, Густав, Жак, Генрих разъедутся неизвестно куда. Их рассеет по всей земле, разбросает по всем океанам, развеет всеми ветрами.
А Германию тем временем все плотней и плотней обволакивал туман лжи. Герметически изолированная от остального мира, страна отдана была во власть лжи, которую изо дня в день изрыгали фашисты, миллионы раз повторяя ее в печати и по радио. Для этой цели они создали специальное министерство. Пользуясь всеми средствами современной техники, фашисты внушали голодающим, что они сыты, угнетенным – что они свободны, тем, кому угрожало растущее возмущение всего мира, – что весь земной шар завидует их мощи и величию.
Германия готовилась к войне. Подготовку вели в стране и за пределами страны, открыто нарушая существующие договоры. Цель жизни – это смерть на поле битвы, проповедовали фашистские вожаки. Война – высшее предназначение нации, провозглашали громкоговорители, все свободное время молодежи заполнялось военной муштрой. На улицах снова зазвучали военные песни. В то же время фюрер в высокопарных истерических речах заверял, что страна неукоснительно придерживается существующих договоров и стремится только к миру. Хитро подмигивая, массам объясняли, что речи фюрера предназначены исключительно для дураков за границей и произносятся лишь для того, чтобы без помех продолжать вооружение. Эта «маскировка», измышленная «северной хитростью», оправдана великими целями нации. Так пыталось правительство объединить шестьдесят пять миллионов людей в союз хитро подмигивающих двурушников.
В таком же духе воспитывалась молодежь. Ей внушали, что война вовсе не была проиграна, что германский народ самый благородный в мире и что именно поэтому на него извне и изнутри ополчаются коварные недруги. На расспросы любопытных молодежи предлагали отвечать, что военные учения не военные учения, а «спорт». Детям внушали, что тот, кто говорит правду, направленную против интересов «коричневых», – негодяй, поставленный вне закона. Им внушали, что они – достояние государства, а не дети своих родителей. Чернили и оплевывали все то, что родители их славили, славили все то, что родители их предавали проклятию, и жестоко наказывали тех из них, кто открыто разделял убеждения родителей. Детей учили лгать.
В этой фашистской Германии не существовало преступления злее, чем приверженность здравому смыслу, приверженность идее мира и принципам правдивости. Правительство требовало, чтобы каждый тщательно следил за своим ближним, за тем, в какой мере он исповедует предписанные нацистами взгляды. Кто не доносил, тот уже сам был на подозрении. Сосед шпионил за соседом, сын – за отцом, приятель – за приятелем. В квартирах разговаривали шепотом, ибо громко сказанное слово проникало сквозь стены. Боялись друга, подчиненного, официанта, подававшего обед, боялись соседа в трамвае.
Ложь и насилие шли рука об руку. «Коричневые» отменили принципы, которые со времен французской революции лежали в основе общественной жизни и культуры народов. Они вновь ввели рабство под видом «добровольной трудовой повинности». Они заточали в тюрьмы своих противников, содержали их хуже зверей, подвергали их пыткам и называли это «физической закалкой». Они выжигали им свастики на теле, заставляли их мочиться друг на друга, выщипывать траву ртом, водили в скоморошьих процессиях по улицам и называли это «воспитанием в духе национального самосознания». Заповедь «не убий» была отменена. Политическое убийство превозносилось, как героический поступок, фюрер величал убийц – именно за то, что они были убийцами, – своими братьями; убийцам воздвигали мемориальные доски, убитых выбрасывали из могил; одного убийцу – именно за то, что он был убийцей, – возвели в ранг полицейпрезидента. За первые три месяца фашистского господства в стране насчитывали пятьсот девяносто три безнаказанных убийства – больше чем за все предыдущее десятилетие. В эту цифру вошли только зарегистрированные, документально заверенные убийства. А число казненных в первые месяцы фашистского господства было больше, чем за предыдущие пятнадцать лет.
Ложь и нищета шли рука об руку. «Свобода и хлеб» в устах фашистов означало: свобода для них убивать своих противников и хлеб для них, за счет хлеба и работы, отнятых у других. Они изгнали из страны или заточили в тюрьмы талантливых людей, чтобы очистить место для своих бездарных ставленников. Они подняли цены на продукты и снизили заработную плату. Голод и нищета росли день ото дня. За первые три месяца фашистского господства число браков сократилось на 5,5% по сравнению с соответствующим периодом за прошлый год; смертность повысилась на 16%. Безработица разрослась неизмеримо; по числу безработных Германия заняла первое место в мире. А фашисты, и глазом не моргнув, утверждали, что они сократили безработицу.
Ложь, корысть и разнузданность шли рука об руку. Кто принадлежал к господствующей клике, тот мог упрятать своего конкурента в концентрационный лагерь. Самый популярный человек в Германии, чей голос особенно охотно слушали по радио народные массы, был заключен в концентрационный лагерь, когда к власти пришел фюрер, на пути которого популярность этого человека была помехой. Под угрозой концентрационного лагеря у кредитора-еврея вымогали отказ от взыскания долга, а еврея-должника заставляли платить до срока. Еврею-домовладельцу жильцы его дома отказывались вносить квартирную плату, «ему переведут ее в Палестину». Все не фашисты жили под постоянным страхом. Достаточно было обмолвиться, что при нынешнем режиме поднялись цены на мясо или что программа какого-нибудь фашистского празднества была недостаточно хорошо составлена, чтобы угодить в концентрационный лагерь. Достаточно было и голословного обвинения в таком «преступлении». Если «коричневому» не нравился нос какого-нибудь прохожего, он мог этот нос разбить. Потом он заявлял, что этот вот с таким-то носом недостаточно быстро поднял руку, когда заиграли фашистский гимн. Такого мотива было достаточно для оправдания.
А народ был хорош. Он дал миру великих людей и творил великие дела. Его составляли сильные, трудолюбивые, способные люди. Но их культура была молода. Оказалось нетрудно злоупотребить их поверхностным, безотчетным идеализмом, развить атавистические инстинкты, пещерные страсти – и тонкая оболочка культуры прорвалась. А отсюда то, что случилось. Внешне страна была такой, как всегда. Катились трамваи и автомобили, функционировали рестораны и даже театры, хотя они работали теперь по указке, у газет были те же названия, те же шрифты. Но внутренне страна изо дня в день все больше дичала, нищала, загнивала, гибла. Зверство и ложь разъедали ее. Вся жизнь превратилась в зловонный грим.
Очень многие проявляли равнодушие к общественной жизни. Они верили в обманчивое спокойствие будней, в искусственное веселье празднеств и манифестаций, которые «коричневые» устраивали в изобилии, чтобы заглушить вопиющую нищету крестьян и рабочих, ужасы концентрационных и трудовых лагерей. К тому же те, кто заступил место изгнанных талантливых людей, и те, кто питался объедками со стола новых властителей, создавали иллюзию нового благополучия. Большинство населения обмануть, конечно, не удавалось: возмущенных было больше, чем довольных. При виде марширующих отрядов ландскнехтов недовольные прятались в подворотни, только бы избежать обязательного приветствия. Они до крови закусывали губы, когда слышали гнусную песню о том, что «мир лишь тогда хорош, когда еврею всадишь в горло нож». Но никто не смел открыть рта: за неугодное слово привлекали к суду.
В эту пору в Германии научились лгать. Вслух фашистов прославляли, а втайне проклинали. Одевались в коричневый цвет нацистов, а в сердце таили красный цвет их врагов. «Бифштексы» называли они себя сами (потому что, как бифштексы, были коричневы снаружи и красны внутри). Партия «бифштексов» была куда многочисленнее партии фюрера. Но ее голос не прорывался за границу, а голоса из-за границы не доходили до нее. В берлинском предместье Кепеник была казарма ландскнехтов, известная под названием «Смиренье». Казарма эта пользовалась печальной славой, так как заключенных в ней подвергали особенно жестокой «обработке». Когда в подвале увечили людей, на дворе заводили мотоцикл. Шум мотора заглушал крики истязуемых и стук ударов. Этот мотор, действующий вхолостую и заведенный только для того, чтобы заглушать крики пытаемых, был символом третьей империи.
Безумием и ложью являлось все, что делали и приказывали властители третьей империи. Ложью были их слова, и ложью было их молчанье. С ложью они вставали, с ложью ложились. Весь их строй был ложью, ложью были их законы, ложью были их приговоры, ложью была их немецкая речь, наука, право, вера. Ложью был их национализм и «социализм». Ложью были их мораль и любовь. Все было ложью. И только одно было правдой: их человеконенавистничество.
Страна стонала. Но внешне сохранялся вид покоя и порядка. Столпом этого порядка были 600.000 ландскнехтов, основой его – 100.000 заключенных. Страна была доведена до нищеты, страна была доведена до разорения. Но гуляющие по Курфюстендамму в Берлине, по Юнгфернштигу в Гамбурге или по Гохштрассе в Кельне видели только спокойствие и порядок.
Из этой Германии сегодня приезжала Анна.
Густав стоял на перроне провансальского приморского городка Бандоль, ожидая прихода ее поезда. Вот она вышла из вагона. Она чуть пополнела, но была по-прежнему стройна, сочетая в себе девическую хрупкость и женскую зрелость, высокая, спокойная. Дул мистраль. На свежем, приятном ветру бледное лицо Анны слегка порозовело, и только вокруг глаз сохранилась бледность. Веселая, спокойная, сидела она рядом с ним. Густав взял ее руку; она сняла перчатку, не отнимая у него руки.
Густав был доволен, что выбрал для встречи эту прекрасную южную местность. Морской берег то извилисто выдавался вперед, то широкой дугой уходил вглубь. В нем не было назойливых красок. Отлогой грядой поднимались невысокие, покойных тонов горы, с их серебристо-зелеными масличными рощами, с пиниями и виноградниками и бурыми крошащимися скалами.
За ужином Анна говорила о том, как ей хотелось бы провести свой отпуск. Утомленная горячей работой этого года, она радовалась ничегонеделанию, радовалась морю. Гулять, купаться, греться на солнышке – это будет чудесно. Но совсем бездельничать она все-таки не может. Ей нужно подзаняться французским языком. Она захватила с собой книги, хороший словарь. Говорила она, как всегда, спокойно, серьезно и весело. Ее светлые глаза под густыми каштановыми волосами смотрели испытующе, многое отметали, вбирали в себя лишь то, что им было нужно, медленно, но навсегда. Анна была такою же, как полтора года назад, когда Густав видел ее в последний раз. Он был изумлен. Ему казалось, что всякий, явившийся из страны кошмаров, должен неузнаваемо измениться. Прав ли он, желая согнать с этого безмятежного лица, с этого выпуклого лба покой, которого сам он навсегда лишился? А если прав, то удастся ли ему это?
На первых порах он не говорил с ней о том главном, что его волновало. Он сказал только, что на этот раз он не может жить так широко, как раньше. Аккуратной, бережливой Анне это обстоятельство пришлось очень по душе. Они наняли маленький старый автомобиль и весело пустились на поиски дешевого дома, в котором могли бы провести несколько недель. Они нашли домик на полуострове Ла-Горгет. Широкий, приземистый, он уединенно стоял на берегу маленькой бухты, на небольшом мысу, розово-коричневый, облупленный. Позади высились холмы, покрытые оливами, виноградниками, а чаще всего пиниями. Дорога поднималась к мысу четким, красивым изгибом. Под соленым ветром не росли ни цветы, ни трава. Перед домом были лишь море да отлогий песчаный пляж, залитый солнцем, отгороженный густой каймой молодых низеньких пиний, сползавших с мыса прямо к морю.
Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, показывал им дом. Комнаты были большие, голые, запущенные, но во все окна глядело море. Кое-какая полуразвалившаяся мебель служила обстановкой. Хозяин был немногословен и отнюдь не навязчив. Анна полагала, что она сможет здесь все хорошо устроить; ее подмывало навести тут порядок. Починить самое необходимое не составит больших трудов и затрат. Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, изъявил готовность помочь. Он был виноградарем и владел небольшим участком земли на расстоянии нескольких сот метров отсюда. Они наняли домик.
Через двое суток они собирались переселиться, к этому времени все должно быть готово. Анна возилась и убирала целый день, виноградарь – спокойный и немногоречивый человек с красивыми движениями, что-то пилил, сколачивал. Густав глядел на них. Иногда Анна спрашивала какое-нибудь французское слово, чтоб объясниться с виноградарем. Этим и ограничивалась его помощь. Работа доставляла Анне радость, она вся ушла в нее. Женись он на Анне, живи с ней, – все было бы иначе.
Густав вышел из комнаты, где он только мешал, лег перед самым домом на солнцепеке, дремотно отдаваясь легкому ветерку. Какое непоколебимое спокойствие на лице у Анны. От этого спокойствия в сердце вливается бодрость, но в то же время охватывает жуть. Лицо Анны, ее широкий красивый рот, ее крепкие скулы, выпуклый лоб под густыми каштановыми волосами, – это лицо Германии.
Но Германии вчерашней. Он должен во что бы то ни стало согнать спокойствие с этого лица, если хочет, чтобы сегодняшняя Германия снова стала вчерашней. Перед ним раскинулось большое серо-голубое море в белых барашках, вздуваемых легким ветром, широкий простор дышал покоем и миром. Какую радость доставляет Анне наводить порядок в этом запущенном доме. Он мог бы приятно провести здесь время; для этого надо только молчать, не нарушать спокойствия Анны. Жаль, что он не имеет права молчать.
Она глядела, с какой жадностью он поглощает еду, накладывая себе еще и еще, и даже не вспомнила, сколько все это стоит. Выложить свое обвинение она собиралась потом, когда он покончит с едой, но так как это очень уж долго продолжалось, она не выдержала, и когда он, уничтожив шницель с яйцом, принялся за сыр, заговорила о чудовищном обмане, который он совершил по отношению к ней и детям. Он слабо оправдывался и медленно, с наслаждением жевал сыр, чувствуя себя виноватым, но не очень.
Пережитые волнения придали ему твердости. Он решил уехать в Палестину. Он был тщедушен и слаб здоровьем. Но человека, который мог выдержать несколько недель в подследственной тюрьме при нацистском режиме, да еще по обвинению в поджоге рейхстага, уже не могут испугать ни древнееврейский язык, ни работа на палестинских полях. Фрау Вольфсон попросту высмеяла его. Однако господин Вольфсон оставался тверд, говорил о судьбе, читал библию, знакомился в читальне еврейской общины с литературой о Палестине. Заручившись рекомендациями Мартина Оппермана и Бригера, он обивал сотни порогов, чтобы сколотить необходимую для выезда в Палестину сумму, и подготовлял, хотя и не очертя голову, но все-таки поспешно, свой отъезд.
При этом он с не меньшим рвением, чем всегда, выполнял свои обязанности в фирме Опперман. Упаковщик Гинкель смотрел на него с ненавистью, но не без удивления: как этому человеку удалось вырваться из когтей нацистов? Упаковщик Гинкель пришел к выводу, что даже нацисты не в силах одолеть тайного союза евреев всего мира. Шестьдесят пять миллионов немцев не могли прогнать со службы одного Маркуса Вольфсона.
Маркус Вольфсон стал мудрым. Он вспоминал проведенные в страхе ночи, когда он в холодном поту, без сна, лежал рядом с Марией, вспоминал кошмарные ночи в ярко освещенной камере. Под влиянием пережитого он и добрее стал. Ему даже не доставила особой радости новость, что арестован Царнке вместе со всем его отрядом; рейхсвер обезоружил ландскнехтов, и их отправили в концентрационный лагерь. Конечно, маленькое удовлетворение Маркус Вольфсон все же испытал. Когда-то он представлял себе, как он отомстит этому Царнке. А теперь сама судьба воздала ему, и гораздо ужаснее, чем того желал Маркус Вольфсон, ибо если в тюремной камере было так страшно, то можно себе представить, что творилось в концентрационном лагере.
Господин Вольфсон не обольщался кажущимся спокойствием и надежностью своего положения. Не покладая рук подготовлял он свой отъезд, свое переселение под более приветливое небо.
Как-то, когда ему уже твердо обещали, что его ходатайство о визе на въезд в Палестину будет удовлетворено, фрау Вольфсон рассказала ему, что к ней заходила фрау Царнке и просила, нельзя ли что-нибудь сделать для ее мужа. Он невинен, как грудной младенец, а его засадили в концентрационный лагерь; к тому же из пособия, которое ей выдают, у нее вычитают еще на его содержание, и у нее на все кругом остается пятьдесят две марки; даже квартиру она не в состоянии оплатить; придется, вероятно, отдать ее шурину господина Царнке. Господин Вольфсон подавил в себе чувство торжества, готовое охватить его, покачал головой и сказал:
– Да, такова жизнь. – А потом добавил, что чрезвычайно рискованно подвергать критике правительственные мероприятия. Но когда он будет по ту сторону границы, он не прочь раскошелиться и выслать фрау Царнке в качестве единовременной помощи полпалестинского фунта.
Жак Лавендель вынул опреснок из старинной серебряной многоярусной вазы и разломил его надвое. Он откинулся на атласную подушку с вышитыми на ней золотом древнееврейскими письменами. Хриплым голосом читал он нараспев по-арамейски: «Это хлеб изгнания, который ели отцы наши в Египте. Голодный да придет и ест с нами. Жаждущий да придет и празднует с нами праздник пасхи. В этом году здесь, в будущем – в Иерусалиме. В этом году рабы, в будущем – свободные люди». Потом он повернулся к сыну и сказал:
– Ну, Генрих, теперь твоя очередь.
И Генрих, так же нараспев, прочел древние вопросы, которые задает в этот вечер самый младший из сидящих за столом. «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Все думали о Бертольде; будь он жив, он читал бы теперь эти вопросы, так как он был моложе Генриха.
Это был вечер 11 апреля, или 14 нисана по еврейскому исчислению, первый пасхальный вечер, сейдер. С незапамятных времен эта ночь священна для евреев, они отмечают ее домашним богослужением и ритуальным ужином; так чтят они память об освобождении из Египта и пасхальном вечере. Память эта жива на протяжении нескольких тысячелетий, ибо: «не только фараоны воздвигали гонения против нас», говорится в литургии этого вечера, «во все времена были люди, заносившие меч над нами, дабы уничтожить нас, но господь спасал нас от рук их».
Со дня пятидесятилетия Густава семья Опперман не собиралась в таком полном составе, как в этот пасхальный вечер в доме Жака Лавенделя, на берегу озера Лугано. Иоахим Ранцов и Лизелотта тоже присутствовали. Все сидели вокруг большого, празднично сервированного стола. Сосуды, употребляемые при пасхальных обрядах, были лучшими экземплярами в коллекции Жака Лавенделя. На столе стояла старинная многоярусная серебряная ваза для опресноков, всевозможные маленькие серебряные тарелочки, одна с костью и остатками жареного мяса, другая – с листьями салата, мисочка со сладким муссом из яблок с орехами. Серебряные кубки с вином, один – большой, нетронутый, для Ильи-пророка, предтечи мессии, на случай, если он, как следовало надеяться, посетит в пасхальную ночь этот дом. Около каждого прибора Жак Лавендель положил книжечку с пасхальными молитвами – «Аггаду». У него было множество изданий «Аггады», среди них очень старинные, с иллюстрациями.
Слушая хриплый голос Жака Лавенделя, напевавшего старинные молитвы, Густав перелистывал свою «Аггаду», рассматривал наивные иллюстрации. Вот фараон с неподвижным лицом и короной на голове сидит в ванне; совершаются знаменитые десять казней египетских – вода превращается в кровь. А вот фараон с тем же неподвижным лицом сидит на троне, и вокруг него – все те же десять казней – прыгают жабы. Перечисляя десять казней, следовало при упоминании каждой казни обмакивать в вине по одному пальцу, и так все десять; десять капель отливались из кубка радости, потому что эта радость досталась ценою страданий других людей. О собственных мучениях тоже вспоминалось вдосталь. На наивных картинках «Аггады» изображены были евреи, таскавшие под ударами плетей кирпич и глину для постройки городов Пифона и Рамзеса. В сущности, тогдашним евреям было не так уж плохо; плети у надсмотрщиков обыкновенные. Теперь евреев бьют резиновыми дубинками и стальными хлыстами, поговаривают даже о подпаленных ладонях и ступнях. И вдруг в воображении Густава вновь возникла картина, которая неотступно преследовала его со дня получения памятной телеграммы: друг его, Иоганнес Коган, стоит на ящике, ящик почему-то треугольный, с острыми ребрами. Иоганнес пляшет, стоя именно на ребре ящика; он причудливо приседает, пружинисто подпрыгивает и опять приседает, как паяц, которого изображал знаменитый танцор в каком-то давно виденном балете; Иоганнес вытягивает руки и с каждым приседанием, как попугай, выкрикивает: «Я, жидовский выродок, предал отечество».
Густав сделал над собой усилие и вернулся к иллюстрациям в своей «Аггаде». Вот сидят они, горсточка евреев, вокруг длинного стола за вечерней трапезой. Около двух тысяч лет празднуют так евреи свое «освобождение». Однако дарованная им свобода весьма сомнительного свойства. Когда они молят господа бога излить гнев свой на врагов их, то в знак твердого упования они отворяют двери, чтобы и враги знали, как тверда их вера. Осторожные же люди, как господин Вейнберг, например, посылают сначала в коридор посмотреть, не подслушивает ли там кто-нибудь. Но, несмотря ни на что, они продолжают упорно верить в свое полное освобождение. Вот уже почти девятнадцать веков, как они ставят на стол кубок с вином для пророка, предтечи мессии, ставят упрямо, год за годом, и на следующее утро дети разочарованно убеждаются, что бокал как был полный, так и остался и что пророк опять не отпил из него. «Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши».
Жак Лавендель кончил первую часть затрапезных молитв. Приступили к ужину. До ужина они читали по-древнееврейски и по-арамейски о стране Египте, из которой бог две тысячи лет тому назад вывел евреев; теперь же они говорили по-немецки о немецкой стране, из которой евреев еще никто не вывел. Лишь немногим удалось спастись бегством из страны ужасов; остальных просто не выпускали, а если кому-либо и давали возможность уехать, то накладывали арест на его имущество. Когда же за границей рассказывали об ужасах, происходящих в Германии, угнетатели пользовались этим как предлогом для еще более зверской травли тех, кто оставался в Германии. Что же делать? Молчать, не восстанавливать цивилизованный мир против этого царства варваров? Нет, молчать нельзя, – так думают все сидящие за этим столом, ибо все равно, есть предлог или нет его, нацисты твердо решили переложить в свои карманы имущество евреев, захватить их места, уничтожить их самих. Нельзя прятать голову под крыло. Надо неустанно твердить всему миру о том, что в нынешней Германии насаждается ненависть к культуре, что первобытные инстинкты возводятся в добродетель, что мораль первобытных орд поднята на высоту государственной религии. Но Опперманы – люди умные, они знают свет, знают его равнодушие. У иных имущество в Германии, им не хочется его терять, иные заинтересованы в военных поставках Германии, а иные боятся, что на смену фашизму может прийти большевизм. Гуманность и цивилизация – слабые доводы против этих соображений. Чтобы побудить мир к вмешательству, нужны более осязательные аргументы.
Мартин заговорил о своих планах. Ему хочется по мере своих скромных сил содействовать пересадке на другую почву того, что есть хорошего в Германии. Его давно уже интересовал архитектор, специалист по интерьеру, Бюркнер. Но мебельная фирма Опперман в Берлине была неподходящим полем действия для этого архитектора: там Мартин не мог как следует его популяризировать. Теперь он собирается пригласить его в Лондон, где хочет открыть магазин для продажи вещей, сделанных исключительно по моделям Бюркнера. К большим прибылям Мартин не стремится. Да и для кого они нужны ему? Но ту или иную задачу в жизни человек иметь должен.
Сказанное Мартином причинило Густаву почти физическую боль. Бывало, он посмеивался над «достоинством», в которое облекался Мартин. А теперь, увидев Мартина, сбросившего с себя эту броню, он был потрясен. Прежде Мартин никогда так многоречиво не распространялся бы о своем положении, своих планах, своей «задаче». А задача-то какова? Из Германии захватывают с собой то, что в ней есть хорошего, и пересаживают на заграничную почву. Слишком простой выход из положения, мой милый. А что же сама Германия – пусть гибнет? Мартин и не понимает, как ему хорошо. Рядом с ним сидит его Лизелотта. Лицо у нее, правда, не такое светлое, как раньше, удлиненные серые глаза не такие ясные. И все-таки сколько в ней уверенности и спокойствия. Куда бы ни переселился Мартин, в Лизелотте он берет с собой кусок Германии. А таких, как Лизелотта, верных, стойких немцев, много. Много есть Бильфингеров и Фришлинов. И сейчас еще Германия полна ими. Что же, бросить их на произвол судьбы? В ящике его письменного стола в бернской гостинице лежат документы Бильфингера. Иоганнес Коган заключен в концентрационный лагерь, его «исправляют». Кто в Германии знает обо всех этих вещах? Разве не обязан кто-нибудь открыть глаза людям? Густав чувствует глубокую связь с братьями, со всеми, кто сидит за этим столом. Они все очень умны, он уважает их за здравый смысл, которого у них больше, чем у него. Но сейчас их практический ум кажется ему слишком равнодушным, косным. Кто, подобно ему, перечувствовал документы Бильфингера, перечувствовал терзания Иоганнеса Когана, тот уже не может считаться с практическими соображениями.
Ужин кончился. Жак Лавенделъ возобновил моление. Но он не был строг и не сердился на тех своих гостей, которые, усевшись в уголке, продолжали вполголоса беседу.
Среди них Гина. С озабоченным видом рассказывает она о своих трудностях. У нее был нелегкий выбор: то ли Эдгара сопровождать в Париж, то ли Рут – в Палестину. Теперь они проводили свою девочку на пароход. Девочка категорически воспротивилась желанию матери сопровождать ее в Палестину. Рут ведь очень самостоятельна и очень умна. Но как бы она ни протестовала, они непременно поедут в Палестину посмотреть, как она там устроилась, пусть только Эдгар наладит свою лабораторию в Париже.
Эдгар не слышит торопливой бесцветной болтовни жены. Он сидит за столом, за которым распевает молитвы Жак Лавендель, и перелистывает свою «Аггаду». В детстве он учился древнееврейскому, но не слишком усердно. С трудом разбирает он сейчас слова и с помощью приложенного перевода раскрывает их смысл. Он космополит, он всегда высмеивал стремление сионистов воскресить мертвый язык, а вот маленькому доктору Якоби придется теперь засесть за древнееврейский, если он хочет работать в Палестине: ведь других возможностей у Якоби нет. У него, Эдгара, много возможностей, но они доставляют ему мало радости. Он уже не молод, позади тяжелый год, да и впереди, конечно, нелегкий. Он тоже рассматривает наивные иллюстрации своей «Аггады». Вот египтяне бросают в Нил еврейских младенцев. Что за кустарный способ. Наши египтяне поступают радикальней. Всех евреев они собираются подвергнуть стерилизации, а заодно и социалистов и вообще всех интеллигентов. Размножаться впредь должны только нацисты, им нужно обезопасить себя от вредных элементов, которые могут испортить им кашу.
Беседующие в уголке вновь заговорили о Германии. Они старались говорить деловито, сухо. Но сухость их – только маска. Их родина, их Германия, оказалась изменницей. Они так твердо стояли на земле своей родины, веками утверждались на ней, и теперь вдруг она ускользает из-под ног. Трезво рассудив, они приходили к заключению, что, видимо, им никогда не вернуться в Германию. Чем, в самом деле, может кончиться господство фашистов, как не войной, кровавыми потрясениями? Но про себя каждый, вопреки рассудку, надеялся, что все повернется иначе: Германия снова станет великой и здоровой, и они смогут вернуться на родину.
Жак Лавендель пригласил гостей к столу. Он дошел до предпоследней страницы своей «Аггады». «Тут вам придется поддержать меня», – ласково уговаривал он. Он начал читать заключительную часть «Аггады», древнюю арамейскую песню о козочке, которую отец курил за два гроша и которую кошка искусала насмерть. И тут начинался круговорот судеб и возмездие: собака разорвала кошку, палка ударила собаку, огонь сжег палку, вода погасила огонь, вол выпил воду, мясник заколол вола, смерть сразила мясника, и бог сразил смерть. Ко-озочка, козочка! Жак Лавендель, полузакрыв глаза, покачивая головой, упоенно напевал простую, мудрую, меланхолическую песенку. Таинственно звучали арамейские слова. Даже в немецком переводе от них веяло древностью, покоем и в то же время угрозой. Сквозь голос Жака Лавенделя Густаву слышался желчный швабский говор: «они уничтожили меру вещей», чудилась рука, которая стирала неправильную цифру «2,5 метра» и вместо нее записывала точную цифру.
Жак Лавендель допел песню о козочке, и наступило молчание. Нарушил его Генрих.
– Well, daddy[52 - прекрасно, папа (англ.)], – сказал он. – Ты очень хорошо поешь, но если бы ты поставил пластинку с этой песней, было бы еще лучше.
Перешли в другую комнату. Жак Лавендель, мгновенно преобразившись из молящегося старого еврея, выходца из гетто, в современного делового человека, заговорил о своих планах. Он собирался прежде всего пожить несколько месяцев здесь, основательно полодырничать. В сущности, он должен быть благодарен фюреру, что тот, правда, не слишком вежливо, но все-таки заставил его наконец взять отпуск. Он будет много читать. Ведь он очень мало учился. Генрих один не может восполнить пробелы в образовании отца, хотя совет по поводу граммофона и свидетельствует о его наблюдательности. Потом он собирается поездить по свету. Нельзя полагаться на книги и газеты; надо побывать в Америке, в России, Палестине и воочию убедиться, что и где делается.
Слушая Жака Лавенделя, Мартин думал: Жаку Лавенделю хорошо говорить о путешествиях. Что самое приятное в путешествии? Возвращение домой. У Жака есть здесь дом, свой очаг, у него есть подданство, он единственный из них, у кого есть твердая почва под ногами. Все остальные лишены собственного крова; когда кончится срок их паспортов, им вряд ли возобновят их. Мартина в последнее время не так-то легко пронять, однако при мысли, что дом на Гертраудтенштрассе уплывает из их рук, что единственная прочная база Опперманов – вот это случайное прибежище в Лугано, – сердце у него больно сжимается. А тут еще Клара, как всегда самая молчаливая из всех, сказала с присущей ей прямолинейностью:
– Никто из нас, видимо, не знает еще, куда он направится. Но помните: здесь вы во всякое время желанные гости. Мы были бы очень рады, если бы вы время от времени съезжались сюда повидаться. – Клара говорила рассудительно и просто, как всегда. Но все почувствовали, что у Опперманов нет больше своего очага, что история Эммануила Оппермана, его детей и внуков кончилась.
Сегодня они еще вместе. Но в будущем разве только случай может свести их. Родины они лишились, потеряли Бертольда, потеряли и дом на Гертраудтенштрассе и все, что было с ним связано, потеряли лабораторию Эдгара, особняк на Макс-Регерштрассе. Все, что создали три поколения в Берлине и трижды семь поколений в Германии, кануло в вечность. Мартин едет в Лондон, Эдгар – в Париж, Рут – в Тель-Авиве, Густав, Жак, Генрих разъедутся неизвестно куда. Их рассеет по всей земле, разбросает по всем океанам, развеет всеми ветрами.
А Германию тем временем все плотней и плотней обволакивал туман лжи. Герметически изолированная от остального мира, страна отдана была во власть лжи, которую изо дня в день изрыгали фашисты, миллионы раз повторяя ее в печати и по радио. Для этой цели они создали специальное министерство. Пользуясь всеми средствами современной техники, фашисты внушали голодающим, что они сыты, угнетенным – что они свободны, тем, кому угрожало растущее возмущение всего мира, – что весь земной шар завидует их мощи и величию.
Германия готовилась к войне. Подготовку вели в стране и за пределами страны, открыто нарушая существующие договоры. Цель жизни – это смерть на поле битвы, проповедовали фашистские вожаки. Война – высшее предназначение нации, провозглашали громкоговорители, все свободное время молодежи заполнялось военной муштрой. На улицах снова зазвучали военные песни. В то же время фюрер в высокопарных истерических речах заверял, что страна неукоснительно придерживается существующих договоров и стремится только к миру. Хитро подмигивая, массам объясняли, что речи фюрера предназначены исключительно для дураков за границей и произносятся лишь для того, чтобы без помех продолжать вооружение. Эта «маскировка», измышленная «северной хитростью», оправдана великими целями нации. Так пыталось правительство объединить шестьдесят пять миллионов людей в союз хитро подмигивающих двурушников.
В таком же духе воспитывалась молодежь. Ей внушали, что война вовсе не была проиграна, что германский народ самый благородный в мире и что именно поэтому на него извне и изнутри ополчаются коварные недруги. На расспросы любопытных молодежи предлагали отвечать, что военные учения не военные учения, а «спорт». Детям внушали, что тот, кто говорит правду, направленную против интересов «коричневых», – негодяй, поставленный вне закона. Им внушали, что они – достояние государства, а не дети своих родителей. Чернили и оплевывали все то, что родители их славили, славили все то, что родители их предавали проклятию, и жестоко наказывали тех из них, кто открыто разделял убеждения родителей. Детей учили лгать.
В этой фашистской Германии не существовало преступления злее, чем приверженность здравому смыслу, приверженность идее мира и принципам правдивости. Правительство требовало, чтобы каждый тщательно следил за своим ближним, за тем, в какой мере он исповедует предписанные нацистами взгляды. Кто не доносил, тот уже сам был на подозрении. Сосед шпионил за соседом, сын – за отцом, приятель – за приятелем. В квартирах разговаривали шепотом, ибо громко сказанное слово проникало сквозь стены. Боялись друга, подчиненного, официанта, подававшего обед, боялись соседа в трамвае.
Ложь и насилие шли рука об руку. «Коричневые» отменили принципы, которые со времен французской революции лежали в основе общественной жизни и культуры народов. Они вновь ввели рабство под видом «добровольной трудовой повинности». Они заточали в тюрьмы своих противников, содержали их хуже зверей, подвергали их пыткам и называли это «физической закалкой». Они выжигали им свастики на теле, заставляли их мочиться друг на друга, выщипывать траву ртом, водили в скоморошьих процессиях по улицам и называли это «воспитанием в духе национального самосознания». Заповедь «не убий» была отменена. Политическое убийство превозносилось, как героический поступок, фюрер величал убийц – именно за то, что они были убийцами, – своими братьями; убийцам воздвигали мемориальные доски, убитых выбрасывали из могил; одного убийцу – именно за то, что он был убийцей, – возвели в ранг полицейпрезидента. За первые три месяца фашистского господства в стране насчитывали пятьсот девяносто три безнаказанных убийства – больше чем за все предыдущее десятилетие. В эту цифру вошли только зарегистрированные, документально заверенные убийства. А число казненных в первые месяцы фашистского господства было больше, чем за предыдущие пятнадцать лет.
Ложь и нищета шли рука об руку. «Свобода и хлеб» в устах фашистов означало: свобода для них убивать своих противников и хлеб для них, за счет хлеба и работы, отнятых у других. Они изгнали из страны или заточили в тюрьмы талантливых людей, чтобы очистить место для своих бездарных ставленников. Они подняли цены на продукты и снизили заработную плату. Голод и нищета росли день ото дня. За первые три месяца фашистского господства число браков сократилось на 5,5% по сравнению с соответствующим периодом за прошлый год; смертность повысилась на 16%. Безработица разрослась неизмеримо; по числу безработных Германия заняла первое место в мире. А фашисты, и глазом не моргнув, утверждали, что они сократили безработицу.
Ложь, корысть и разнузданность шли рука об руку. Кто принадлежал к господствующей клике, тот мог упрятать своего конкурента в концентрационный лагерь. Самый популярный человек в Германии, чей голос особенно охотно слушали по радио народные массы, был заключен в концентрационный лагерь, когда к власти пришел фюрер, на пути которого популярность этого человека была помехой. Под угрозой концентрационного лагеря у кредитора-еврея вымогали отказ от взыскания долга, а еврея-должника заставляли платить до срока. Еврею-домовладельцу жильцы его дома отказывались вносить квартирную плату, «ему переведут ее в Палестину». Все не фашисты жили под постоянным страхом. Достаточно было обмолвиться, что при нынешнем режиме поднялись цены на мясо или что программа какого-нибудь фашистского празднества была недостаточно хорошо составлена, чтобы угодить в концентрационный лагерь. Достаточно было и голословного обвинения в таком «преступлении». Если «коричневому» не нравился нос какого-нибудь прохожего, он мог этот нос разбить. Потом он заявлял, что этот вот с таким-то носом недостаточно быстро поднял руку, когда заиграли фашистский гимн. Такого мотива было достаточно для оправдания.
А народ был хорош. Он дал миру великих людей и творил великие дела. Его составляли сильные, трудолюбивые, способные люди. Но их культура была молода. Оказалось нетрудно злоупотребить их поверхностным, безотчетным идеализмом, развить атавистические инстинкты, пещерные страсти – и тонкая оболочка культуры прорвалась. А отсюда то, что случилось. Внешне страна была такой, как всегда. Катились трамваи и автомобили, функционировали рестораны и даже театры, хотя они работали теперь по указке, у газет были те же названия, те же шрифты. Но внутренне страна изо дня в день все больше дичала, нищала, загнивала, гибла. Зверство и ложь разъедали ее. Вся жизнь превратилась в зловонный грим.
Очень многие проявляли равнодушие к общественной жизни. Они верили в обманчивое спокойствие будней, в искусственное веселье празднеств и манифестаций, которые «коричневые» устраивали в изобилии, чтобы заглушить вопиющую нищету крестьян и рабочих, ужасы концентрационных и трудовых лагерей. К тому же те, кто заступил место изгнанных талантливых людей, и те, кто питался объедками со стола новых властителей, создавали иллюзию нового благополучия. Большинство населения обмануть, конечно, не удавалось: возмущенных было больше, чем довольных. При виде марширующих отрядов ландскнехтов недовольные прятались в подворотни, только бы избежать обязательного приветствия. Они до крови закусывали губы, когда слышали гнусную песню о том, что «мир лишь тогда хорош, когда еврею всадишь в горло нож». Но никто не смел открыть рта: за неугодное слово привлекали к суду.
В эту пору в Германии научились лгать. Вслух фашистов прославляли, а втайне проклинали. Одевались в коричневый цвет нацистов, а в сердце таили красный цвет их врагов. «Бифштексы» называли они себя сами (потому что, как бифштексы, были коричневы снаружи и красны внутри). Партия «бифштексов» была куда многочисленнее партии фюрера. Но ее голос не прорывался за границу, а голоса из-за границы не доходили до нее. В берлинском предместье Кепеник была казарма ландскнехтов, известная под названием «Смиренье». Казарма эта пользовалась печальной славой, так как заключенных в ней подвергали особенно жестокой «обработке». Когда в подвале увечили людей, на дворе заводили мотоцикл. Шум мотора заглушал крики истязуемых и стук ударов. Этот мотор, действующий вхолостую и заведенный только для того, чтобы заглушать крики пытаемых, был символом третьей империи.
Безумием и ложью являлось все, что делали и приказывали властители третьей империи. Ложью были их слова, и ложью было их молчанье. С ложью они вставали, с ложью ложились. Весь их строй был ложью, ложью были их законы, ложью были их приговоры, ложью была их немецкая речь, наука, право, вера. Ложью был их национализм и «социализм». Ложью были их мораль и любовь. Все было ложью. И только одно было правдой: их человеконенавистничество.
Страна стонала. Но внешне сохранялся вид покоя и порядка. Столпом этого порядка были 600.000 ландскнехтов, основой его – 100.000 заключенных. Страна была доведена до нищеты, страна была доведена до разорения. Но гуляющие по Курфюстендамму в Берлине, по Юнгфернштигу в Гамбурге или по Гохштрассе в Кельне видели только спокойствие и порядок.
Из этой Германии сегодня приезжала Анна.
Густав стоял на перроне провансальского приморского городка Бандоль, ожидая прихода ее поезда. Вот она вышла из вагона. Она чуть пополнела, но была по-прежнему стройна, сочетая в себе девическую хрупкость и женскую зрелость, высокая, спокойная. Дул мистраль. На свежем, приятном ветру бледное лицо Анны слегка порозовело, и только вокруг глаз сохранилась бледность. Веселая, спокойная, сидела она рядом с ним. Густав взял ее руку; она сняла перчатку, не отнимая у него руки.
Густав был доволен, что выбрал для встречи эту прекрасную южную местность. Морской берег то извилисто выдавался вперед, то широкой дугой уходил вглубь. В нем не было назойливых красок. Отлогой грядой поднимались невысокие, покойных тонов горы, с их серебристо-зелеными масличными рощами, с пиниями и виноградниками и бурыми крошащимися скалами.
За ужином Анна говорила о том, как ей хотелось бы провести свой отпуск. Утомленная горячей работой этого года, она радовалась ничегонеделанию, радовалась морю. Гулять, купаться, греться на солнышке – это будет чудесно. Но совсем бездельничать она все-таки не может. Ей нужно подзаняться французским языком. Она захватила с собой книги, хороший словарь. Говорила она, как всегда, спокойно, серьезно и весело. Ее светлые глаза под густыми каштановыми волосами смотрели испытующе, многое отметали, вбирали в себя лишь то, что им было нужно, медленно, но навсегда. Анна была такою же, как полтора года назад, когда Густав видел ее в последний раз. Он был изумлен. Ему казалось, что всякий, явившийся из страны кошмаров, должен неузнаваемо измениться. Прав ли он, желая согнать с этого безмятежного лица, с этого выпуклого лба покой, которого сам он навсегда лишился? А если прав, то удастся ли ему это?
На первых порах он не говорил с ней о том главном, что его волновало. Он сказал только, что на этот раз он не может жить так широко, как раньше. Аккуратной, бережливой Анне это обстоятельство пришлось очень по душе. Они наняли маленький старый автомобиль и весело пустились на поиски дешевого дома, в котором могли бы провести несколько недель. Они нашли домик на полуострове Ла-Горгет. Широкий, приземистый, он уединенно стоял на берегу маленькой бухты, на небольшом мысу, розово-коричневый, облупленный. Позади высились холмы, покрытые оливами, виноградниками, а чаще всего пиниями. Дорога поднималась к мысу четким, красивым изгибом. Под соленым ветром не росли ни цветы, ни трава. Перед домом были лишь море да отлогий песчаный пляж, залитый солнцем, отгороженный густой каймой молодых низеньких пиний, сползавших с мыса прямо к морю.
Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, показывал им дом. Комнаты были большие, голые, запущенные, но во все окна глядело море. Кое-какая полуразвалившаяся мебель служила обстановкой. Хозяин был немногословен и отнюдь не навязчив. Анна полагала, что она сможет здесь все хорошо устроить; ее подмывало навести тут порядок. Починить самое необходимое не составит больших трудов и затрат. Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, изъявил готовность помочь. Он был виноградарем и владел небольшим участком земли на расстоянии нескольких сот метров отсюда. Они наняли домик.
Через двое суток они собирались переселиться, к этому времени все должно быть готово. Анна возилась и убирала целый день, виноградарь – спокойный и немногоречивый человек с красивыми движениями, что-то пилил, сколачивал. Густав глядел на них. Иногда Анна спрашивала какое-нибудь французское слово, чтоб объясниться с виноградарем. Этим и ограничивалась его помощь. Работа доставляла Анне радость, она вся ушла в нее. Женись он на Анне, живи с ней, – все было бы иначе.
Густав вышел из комнаты, где он только мешал, лег перед самым домом на солнцепеке, дремотно отдаваясь легкому ветерку. Какое непоколебимое спокойствие на лице у Анны. От этого спокойствия в сердце вливается бодрость, но в то же время охватывает жуть. Лицо Анны, ее широкий красивый рот, ее крепкие скулы, выпуклый лоб под густыми каштановыми волосами, – это лицо Германии.
Но Германии вчерашней. Он должен во что бы то ни стало согнать спокойствие с этого лица, если хочет, чтобы сегодняшняя Германия снова стала вчерашней. Перед ним раскинулось большое серо-голубое море в белых барашках, вздуваемых легким ветром, широкий простор дышал покоем и миром. Какую радость доставляет Анне наводить порядок в этом запущенном доме. Он мог бы приятно провести здесь время; для этого надо только молчать, не нарушать спокойствия Анны. Жаль, что он не имеет права молчать.