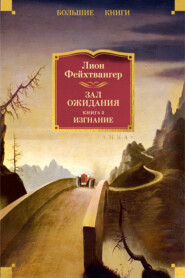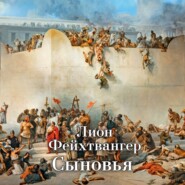По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семья Опперман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пообедали всякой всячиной: яйца, холодное мясо, фрукты, сыр, вино. Это был веселый обед. Все, что Анна задумала, все ее планы на ближайшие пять недель облекались в более конкретные формы. Прежде всего она закончит возню с домом. Она задалась целью привести все в желанный вид, и выполнит это. Правда, не успеет все наладиться, как им уже придется уезжать.
А вообще она собирается жить по твердому расписанию. Ежедневно заниматься спортом, гимнастикой. Красивая дорога с пологим подъемом очень хороша для бега на большую дистанцию. Анне свойственна была педантичность, но она обладала и юмором. Она весело смеялась вместе с Густавом, когда он подтрунивал над ее педантичностью. Она медлительна и потому педантична. Требуется, например, довольно много времени, пока она разберется в человеке. Поэтому она решила серьезно заняться физиогномическими теориями. Густав спросил ее, не стал ли он умнее за полтора года их разлуки, не замечает ли она в нем нового, не набрался ли он наконец, хотя бы к пятидесяти годам, немножко мудрости. Анна серьезно посмотрела на него. Да, он изменился, сказала она. Его чувственный рот стал чуть тверже, а линии, бегущие от глаз к носу, не такие мягкие, не такие расплывчатые, как прежде. Густав выслушал ее анализ, чуть-чуть улыбаясь, задумчиво.
После обеда они отправились в Тулон приобрести кое-что из хозяйственных вещей. Анна решила сделать это возможно экономней. Они обегали много лавок. Анна была неутомима, выискивая здесь одно, там – другое. Им нравилась пестрота города, его шум. Они поели в портовом ресторанчике, потом Анна снова отправилась в город одна и наконец торжественно объявила, что теперь у нее есть все, что ей нужно.
Наступил вечер, и наступило утро третьего дня их совместной жизни. Скоро дом примет тот вид, о котором мечтала Анна. Густав все еще не начинал разговора о том, что его волновало. После обеда они, лежа на скалах в своей маленькой бухте, принимали солнечную ванну. Анна лежала на животе, подперев обеими руками голову, и читала французскую книгу, заглядывая в словарь. Иногда она спрашивала у Густава о более точном оттенке слова; она была упряма и нередко настаивала на своем толковании, даже если ошибалась.
Он не имеет права пропустить и сегодняшний день, больше молчать нельзя. Издалека, осторожно приступает он к своей теме. Нет лучшей поры в Германии, чем поздняя весна и раннее лето. Ему бы, в сущности, очень хотелось поехать с нею в Берлин и провести неделю-другую в особняке на Макс-Регерштрассе. Густав лежал на спине, подложив волосатые руки под голову, лениво, задумчиво глядя в небо.
– Жаль, – медленно протянул он, – что это невозможно.
– Почему невозможно? – помолчав, спросила Анна, не отрываясь от книги. Густав приподнялся.
– Разве ты ничего не знаешь? Ты ничего не слышала?
Нет, она ничего не знала. Оказалось, что она не знала ни о пресловутом воззвании, ни о злоключениях Густава, ни о преследованиях, которым он подвергался. Оказалось, что она совершенно ничего не знала и о гнусностях, которые творились в Германии.
Она была возмущена тем, что стряслось с Густавом. Но решительно отказывалась делать общие выводы на основании этого факта. Как всегда неторопливо и рассудительно, она изложила ему свое мнение о событиях в Германии, говоря больше для себя, чем для него. Одно «национальное» правительство уступило место другому, еще более «национальному». Об этом возвещают в высокопарных глупых речах, грандиозными глупыми демонстрациями. А разве митинговые речи и демонстрации когда-нибудь бывали умными? Бойкот и сжигание книг – это, конечно, отвратительно. Газеты противно читать, трескотню, поднятую нацистами, противно слушать. Но разве кто-нибудь принимает все это всерьез? Жизнь, в общем, идет своим чередом. На предприятии, где работает Анна, выбран новый заводской комитет и рабочим снижены ставки. Новый заводской комитет попытался сначала командовать и потребовал увольнения семнадцати евреев и социалистов. Но теперь из числа семнадцати уволенных девять восстановлены. Тайный советник Гарпрехт, ее патрон, иногда добродушно дразнит Анну «ее приятелем-евреем». Внешне он соблюдает всю обрядность нового культа, но наедине с, ней или с другими приближенными высмеивает их.
Оба приподнялись. Он сидел на песке, поджав ноги, она – на камне против него. Французский словарь, который она обычно бережно клала в тень, валялся на солнцепеке, и переплет его коробился. Она говорила медленно, боясь сказать лишнее, но боясь и не договорить. Ее светлые глаза смотрели на него прямо и спокойно. Это была Анна, его Анна. Она приехала из Германии, из герметически закупоренной страны, она была одной из живущих наверху, она не знала, что творится у нее под ногами. Она верила в «спокойствие и порядок» и отстаивала свою веру.
Он слушал внимательно, не перебивая. Все, что она говорила, он слышал много раз, – это можно было прочесть во всех немецких газетах. Так защищали себя те, кто жил в Германии, даже честные, благомыслящие люди, чтобы только не потерять почвы под ногами, не потерять родины. Говорить ли с ней? Есть ли в этом смысл? Не легкомысленно ли, больше того, не бесчестно ли вырвать эту женщину из ее уверенного непоколебимого спокойствия? Перед ним всплывает Иоганнес Коган на ящике. Приседание! Встать! Иоганнес похож на клоуна в цирке, он кричит, как попугай: «Я, жидовский выродок, предал свое отечество». Анна и месяца не может провести в этом южнофранцузском городке, чтобы не навести порядка в доме, где она живет. Так неужели оставить ее в неведении, не рассказать ей о гниении и распаде, которые убивают ее родину? Нет, он не имеет права щадить Анну.
Он передает ей то, что ему рассказал Бильфингер. Он говорит под тихое журчанье моря и легкий шум ветра. Он говорит не так сухо и деловито, как Бильфингер, его слова окрашены чувством. Он не может спокойно излагать факты, он усиливает, преувеличивает. Да, да, пусть она послушает, что происходило в ее Вюртемберге, почти под самым Штутгартом, в то время, когда она расхаживала по его улицам и ничего не видела, кроме «спокойствия и порядка».
Он чувствует, что говорит плохо, слишком возбужденно, неубедительно. Он не рассказывает, он словно защищается. Чего он, в сущности, хочет? Чего хотел Бильфингер – понятно. Он испытывал настоятельную потребность сказать все это ему, еврею, человеку, к которому это имело прямое отношение. Но что заставляет Густава тревожить Анну? Ведь он ничего от нее не хочет. Он вовсе не желает принудить ее к действию. Нет, все-таки чего-то он хочет от нее. Подтверждения. Подтверждения, что он правильно чувствует. Не эгоизм ли это с его стороны? Нет. Они уничтожили меру вещей, и на нас возложено восстановить ее, – и он должен получить подтверждение этого от Анны. С кем же еще ему говорить? С Иоганнесом Коганом? Но Иоганнес Коган в Герренштейне. Приседание! Встать!
Анна слушает. Светлые глаза ее темнеют. Она возмущена, но не услышанным, а тем, что кто-либо может поверить этому. У Густава забрали дом, и потому он поверил, что вся страна превратилась в первобытный лес, а жители ее – в дикарей. Море рокочет сильнее. Анне приходится напрягать голос. Щеки ее покрылись красными пятнами, бледность вокруг глаз усилилась.
Густава не очень трогает ее гнев. Он знал, что Анну нелегко переубедить. Она явилась из страны лжи. В течение долгих месяцев лучшие виртуозы лжи, пользуясь последними техническими достижениями, сеяли по всей стране миллиарды лживых вымыслов. Анна вдыхала этот отравленный ложью воздух день за днем, час за часом. Затуманивать головы таким, как она, скрывать от них истину, – для этого существует специальное министерство лжи. Больше того: вся эта лжереволюция видит во лжи свою важнейшую политическую миссию. Анна напиталась этой ложью. Противоядие не может подействовать сразу. Чтобы излечить ее, требуется время, выдержка.
Густав приносит документы. Он и Анна лежат на животе, подперев голову руками, и он читает ей то, что запротоколировал Бильфингер. Ровно катятся волны, мистраль разбрасывает листки, приходится класть на них камешки. Густав читает, показывает заверенные под присягой документы, фотографии. О собственных бедах он почти не говорит, об Иоганнесе Когане не упоминает. Пусть это постепенно надвинется на нее, как постепенно вошло в него.
Когда он кончил, Анна молча собрала листки, тщательно уложила их в прочную папку. Она раздумывает, она не легковерна. По узкой, осыпающейся тропинке они идут к себе. Анна принимается за хозяйственные дела. Потом она зовет его ужинать. Перед ними песчаный пляж, пинии, море. Близится ночь, быстро холодает. Они говорят о тысяче значительных и незначительных вещей; Анна, может быть, не так весела, но спокойна, как обычно.
Так проходит вечер, так проходит следующее утро. Они проделывают утренний бег на большую дистанцию, плавают, гуляют. Анна читает свою французскую книжку, хозяйничает. День проходит по заранее составленному расписанию.
И только раз воскресает вчерашнее. Анна спрашивает, когда же приедет Иоганнес Коган, и приедет ли он вообще? В свое время Густав писал ей, что Иоганнес, возможно, остановится у нее в Штутгарте дня на три. И вот теперь Густав рассказывает ей о своем друге. Он говорит, что Иоганнес к ней не заедет, и объясняет почему. Это потрясло ее больше, чем бильфингеровские документы.
– Неужели нельзя ему помочь, неужели нельзя для него что-нибудь сделать? – горячо говорит она после минутной растерянности.
– Нет, – отвечает Густав, – ландскнехты не терпят, чтобы вступались за их жертвы. Если вмешивается какой-нибудь юрист или даже министр, заключенный чувствует это потом на своих костях. – На лбу у него вертикальные складки, он слегка скрежещет зубами. Но не позволил себе заговорить о концентрационном лагере. Он отлично видел, что спокойствие Анны нарушено, но он стал умнее, он ждал: пусть она как следует все перемелет под своим выпуклым лбом.
Произошло это вечером. Он читал, лежа в постели, когда она пришла. Она села к нему на кровать и начала говорить. Дом обставлен, и все устроено так, как она рисовала себе. Но теперь это ее не радует по-настоящему. Вещи, о которых рассказывал ей Густав, так чудовищны, что после всего слышанного нелегко прийти в себя. Но все-таки она должна встать на защиту своей Германии. В общем, переворот был необходим. Прежние правители – этого он не может не признать – и шагу не делали без множества оговорок, оговорок на «законнейшем основании». Вместо того чтобы хлопнуть противника по голове, они заводили канитель с сотнями судебных экспертиз, а потом деликатно просили его не так уж нагло изменять родине. Сажали под замок какого-нибудь политического убийцу, а через несколько месяцев, смотришь, он опять на воле; лишали предателя пенсии, а через две недели, цепляясь за букву закона, восстанавливали его в правах. Прежние правители боялись шевельнуться, они жевали жвачку и этим довели республику до распада и гниения. Новые правители хитры и грубы, но они действуют. Это отвечает желаниям народа, это нравится. И фюрер пришелся ко двору именно в силу своей хитрости, не знающей сомнений ограниченности, твердолобой, чугунной веры. Он явился необходимой противоположностью прежних правителей. Это была революция, долгожданная революция. Варварства, конечно, немало, но оно, пожалуй, неизбежное следствие всякой революции, а уж те, кого задели, вечно вопят о разбое, убийстве, конце света. Не сам ли Густав прочел ей вчера обличительные страницы одного забытого египетского писателя, написанные более четырех тысяч лет назад и очень сходные по содержанию с тем, что говорит Густав? Совершались чудовищные злодеяния, верно, но за них ответственны отдельные люди, не народ и не страна. И если Густав укажет ей на сто тысяч злодеяний, то это – сто тысяч единичных случаев, и только.
Густав смотрел на ее светлое, серьезное лицо. Оно не так спокойно, как всегда. Ей нелегко было наскрести свои возражения. Обличительные слова египетского поэта, жившего четыре тысячи триста лет назад. Густав хорошо помнит их. «Искусные правители изгнаны, страной управляют несколько невежд. Наступает царство черни. Вожак ее, вознесенный на гребень волны, пользуется этим, как умеет. Он облачается в тончайшие ткани, умащает плешь свою мирром, захватил большой дом и амбары. Раньше он сам был простым скороходом, теперь другие у него на побегушках. Князья льстят ему. Знатные в прошлом сановники, испив чашу бед, кланяются временщикам». Густав любит хорошие цитаты, но эта взята уж из слишком отдаленных времен и не может служить аргументом против него. Все сказанное Анной – суррогат, недостойный ее. Она правдива до глубины души. Если она от всего сердца верит во что-нибудь, она умеет хорошо выразить свою мысль. Все, что она говорит сейчас, – расплывчато, неустойчиво. Незачем заниматься физиогномистикой, чтобы видеть, что она сама верит своим словам только наполовину.
Густаву нетрудно разбить ее возражения. Он приподнялся, оперся головой на руку. Лампа над кроватью освещала его лицо, и оно резко выделялось в полумраке комнаты.
– Да, это верно, – сказал Густав, – не народ повинен в творящихся бесчинствах. Четырнадцать лет его науськивали на евреев и социалистов, но он не бросался на них как дикий зверь. Прекрасное доказательство хороших качеств народа. В варварстве повинен не он, а правительство, третья империя, ее чиновники, ее ландскнехты. Все злодеяния совершались наемниками правительства, а оно покрывало их. Но варварство заключается не только в этих деяниях, оно присуще самим принципам новых властителей. Они уничтожили меру вещей и узаконили произвол и насилие. Вина нового правительства не столько в том, что совершаются эти злодеяния, сколько в том, что оно препятствует расследованию их, бросает в тюрьмы разоблачителей и этим наперед санкционирует новые преступления.
Густав говорил об открытом исповедании террора, который новые правители бесстыдно проповедуют в десятках тысяч книг, газет и журналов, в своих речах, в своих декретах; он говорил о голом, неприкрытом рвачестве, о дурацком расовом чванстве. Они вытащили этот фетиш из чулана, где хранился старый хлам. Тошно смотреть, как профессора в своих аудиториях курят этому фетишу фимиам, а судьи его именем произносят приговоры. Гнусная комедия. Король сидит в одних подштанниках, а люди валяются у него в ногах и кричат, как прекрасны его одежды. Конечно, и сейчас в Германии делают великолепные машины, четко работают на фабриках и заводах, создают новые музыкальные произведения, много миллионов людей стараются сохранить порядочность. Но вокруг поднялся первобытный лес, где пытают и режут, а они вынуждены судорожно закрывать глаза и уши. Допустим, все это единичные преступления. Допустим, что отдельное издевательство, отдельное убийство – пустяк по сравнению с целым. Но дело в том, что само это целое состоит из таких пустяков, как тело из клеток. А тело в конце концов загнивает, если разрушено много клеток.
И на этот раз возражения Густава лишены были деловитости, он не назвал почти ни одной цифры, ни одной даты. Но он высказал все, чем был полон до краев; он возражал ей не словами, все существо его изливалось перед ней. Она смотрела на него, на его большое взволнованное лицо; в пятне света, отбрасываемого ночной лампой, оно до последней черточки было ярко освещено. Оно было не молодо, но мужественно и отважно. Перед ней был не тот Густав, которого она знала. Его снисходительная флегма исчезла. События захватили его, смешались с ним, закалили ткань, из которой он был сделан, огрубили ее. Анна любила его.
Однако верила ему лишь наполовину. То, что однажды засело под ее выпуклым лбом, прочно оставалось там. Чтобы перестроить ее, надо немало поработать. В лице Анны Густав столкнулся с той отравленной, загипнотизированной Германией, которая до ужаса медленно будет приходить в себя от наркоза. Вот оно, необходимое ему подтверждение. Нельзя не выполнить задачу, которую он перед собой поставил.
Это было то, чего он добивался. Теперь, в сущности, он имел право провести несколько спокойных недель с Анной. Его ждут в дальнейшем немалые трудности. Анна, хотя они и не говорили больше о Германии, уже не та, что прежде. Как ни медленно она сдавалась, вернувшись, она увидит другую Германию.
Они проводили ясные, мирные дни в своем облупленном домике, внутри которого царили образцовая чистота и порядок. Здесь, среди покоя солнечного латинского взморья, трудно было представить себе, что в каких-нибудь двадцати часах езды отсюда находится страна кошмаров – Германия, на города которой обрушились первобытные чудовища. Густав и Анна много бродили по широким, ласкающим глаз просторам; красивым изгибом поднималась дорога к их мысу; кругом были виноградники, пинии, оливковые рощи; ровный рокот морского прибоя провожал их ко сну и встречал их пробуждение; непрерывно дул легкий соленый ветер. По вечерам с тихих холмов спускались козьи стада. Жизнь была привольна и полна античного покоя.
За четыре последних дня Густав не обмолвился ни единым словом о Германии, были часы, когда он совершенно забывал о ней. Но внезапно она вновь страшным образом напомнила о себе.
Они сидели в маленьком, пестром портовом кабачке ближайшего приморского городка, и Густав читал какую-то газету. Вдруг его смуглое от загара лицо побледнело, он выпустил газету из рук, Анна подняла ее. Известный немецкий профессор Иоганнес Коган, прочла Анна, покончил самоубийством в концентрационном лагере Герренштейн. Анна, в свою очередь, побледнела, сначала только вокруг глаз, пятом бледность разлилась по всему лицу.
– Пойдем, – сказала она.
Они поехали домой. Всю дорогу молчали. Густав сошел к морю, сел на камень. Она оставила его одного. Вечером она сказала ему:
– Ты прав, Густав. Я ошибалась. Я закрывала глаза. Ты прав, Германия стала другой. И дело не только в том, что там умер Иоганнес Коган, не только в том, о чем ты мне рассказывал и давал читать, и не в том, что в Германии, доведись им узнать, что я здесь, с тобой, мне бы срезали волосы и водили меня по улицам, ругая бесстыдной тварью. Когда я думаю, что я видела в Германии, когда я отсюда смотрю на все новыми глазами, теперь, вот с этого мгновенья, я, Густав, говорю: мне стыдно. Новая Германия ужасна.
Густав вспоминал изжелта-смуглое, умное, гордое лицо своего друга Иоганнеса. «Самоубийство», «убит при попытке к бегству», «сердечная слабость» – таковы были официальные причины смерти заключенных в концентрационных лагерях. А потом то, что оставалось от узников – переломанные кости и бесформенные груды мяса, – клали в гроб; по возмещении расходов запаянный гроб выдавали родным под расписку, что он не будет вскрыт. Они запрещают печатать объявления о смерти, если в них есть слова: «скоропостижно скончался».
– Почти все мои друзья и знакомые перебывали на фронте, – сказал Густав. – Многие были убиты. Я не считал, сколько людей отняла у меня смерть за последние месяцы, но могу сказать с уверенностью: с тех пор как фашисты пришли к власти, насильственной смертью погибло их больше, чем за время войны.
Потом Анна спросила его, что он намерен делать. Он сказал:
– Я не могу молчать. Это все, что я знаю.
Анна нерешительно спросила:
– А не подвергаешь ли ты себя опасности?
Тревога в ее голосе глубоко обрадовала его. Он пожал плечами.
– Так дальше я жить не могу, – сказал он.
Пришло лето. Анне пора было уезжать. Густав проводил ее до Марселя. Анна всматривалась в лицо друга. Оно казалось серьезнее и спокойнее, чем прежде. Что-то молодое появилось в нем и в то же время мужественное. В смятении, в тревоге за его судьбу, но глубоко радуясь совершившейся в Густаве перемене, переехала она границу.
Он стоял на перроне, глядя вслед поезду, уносящему Анну в страну кошмаров. Дни, проведенные с нею, были хорошие и плодотворные. Он уяснил себе многое, что раньше бессознательно и безотчетно угнетало его.
Он все еще жил в облупленном домике на высоком мысу, в отдалении от всякой суеты. Порядок, созданный Анной, быстро исчезал, но это его не огорчало. Он не сторонится людей, болтает с местными жителями, с рыбаками, виноделами, крестьянами, со случайными туристами. Но он подолгу бывает один. С братьями, с близкими он слабо поддерживает связь. Он получает письма, но отвечает редко, все реже и реже. Он испытывает глубокий покой; его судьба определилась.
Деньги в бумажнике тают. Он мог бы написать Мюльгейму или в Швейцарский банк, в котором у него есть текущий счет. Но он не делает ни того, ни другого. Пока есть деньги в бумажнике, он будет оставаться здесь. Деньги на текущем счету в банке предназначены для другой цели.
Привычки его упрощаются, у него нет никаких потребностей. Он бродит или разъезжает в маленьком, все более и более ветшающем автомобиле по прекрасным широким просторам. Делает привал где-нибудь на солнце и завтракает хлебом, сыром, фруктами, запивая глотком местного терпкого вина. Иногда он заходит в кабачки, вступает в разговоры с крестьянами, торговцами, рыбаками, кондукторами автобусов. Днем кричат громкоговорители, повсюду музыка, по вечерам танцуют, жизнь пестра, шумна. Густав спокойно отдается ее течению. Он бывает порой даже весел и общителен. В эти мгновенья в нем мелькает что-то от прежнего Густава, которого охотно слушали мужчины, дружбой которого гордились женщины. Да и теперь женщины посматривают на него и вздыхают, когда он уходит. Он часто бывает задумчив, редко печален. Ужасы страны кошмаров не забыты им, он не отворачивается от них, переживает их так же, как переживал бы, находясь по ту сторону границы. И хотя мысль о них не оставляет его, он спокоен, даже весел.
В ближайшем большом городе, в Марселе, в витрине книжного магазина он увидел новую немецкую книгу, небольшую брошюру: Фридрих Гутветтер «О воспитании новой человеческой породы. Эскиз. Посвящается подруге». Густав купил книжонку. В ней есть несколько выспренних мыслей о фашизме, но они изложены таким вычурным туманным языком, что самую «идею» и не разглядеть сквозь этот туман.
А вообще она собирается жить по твердому расписанию. Ежедневно заниматься спортом, гимнастикой. Красивая дорога с пологим подъемом очень хороша для бега на большую дистанцию. Анне свойственна была педантичность, но она обладала и юмором. Она весело смеялась вместе с Густавом, когда он подтрунивал над ее педантичностью. Она медлительна и потому педантична. Требуется, например, довольно много времени, пока она разберется в человеке. Поэтому она решила серьезно заняться физиогномическими теориями. Густав спросил ее, не стал ли он умнее за полтора года их разлуки, не замечает ли она в нем нового, не набрался ли он наконец, хотя бы к пятидесяти годам, немножко мудрости. Анна серьезно посмотрела на него. Да, он изменился, сказала она. Его чувственный рот стал чуть тверже, а линии, бегущие от глаз к носу, не такие мягкие, не такие расплывчатые, как прежде. Густав выслушал ее анализ, чуть-чуть улыбаясь, задумчиво.
После обеда они отправились в Тулон приобрести кое-что из хозяйственных вещей. Анна решила сделать это возможно экономней. Они обегали много лавок. Анна была неутомима, выискивая здесь одно, там – другое. Им нравилась пестрота города, его шум. Они поели в портовом ресторанчике, потом Анна снова отправилась в город одна и наконец торжественно объявила, что теперь у нее есть все, что ей нужно.
Наступил вечер, и наступило утро третьего дня их совместной жизни. Скоро дом примет тот вид, о котором мечтала Анна. Густав все еще не начинал разговора о том, что его волновало. После обеда они, лежа на скалах в своей маленькой бухте, принимали солнечную ванну. Анна лежала на животе, подперев обеими руками голову, и читала французскую книгу, заглядывая в словарь. Иногда она спрашивала у Густава о более точном оттенке слова; она была упряма и нередко настаивала на своем толковании, даже если ошибалась.
Он не имеет права пропустить и сегодняшний день, больше молчать нельзя. Издалека, осторожно приступает он к своей теме. Нет лучшей поры в Германии, чем поздняя весна и раннее лето. Ему бы, в сущности, очень хотелось поехать с нею в Берлин и провести неделю-другую в особняке на Макс-Регерштрассе. Густав лежал на спине, подложив волосатые руки под голову, лениво, задумчиво глядя в небо.
– Жаль, – медленно протянул он, – что это невозможно.
– Почему невозможно? – помолчав, спросила Анна, не отрываясь от книги. Густав приподнялся.
– Разве ты ничего не знаешь? Ты ничего не слышала?
Нет, она ничего не знала. Оказалось, что она не знала ни о пресловутом воззвании, ни о злоключениях Густава, ни о преследованиях, которым он подвергался. Оказалось, что она совершенно ничего не знала и о гнусностях, которые творились в Германии.
Она была возмущена тем, что стряслось с Густавом. Но решительно отказывалась делать общие выводы на основании этого факта. Как всегда неторопливо и рассудительно, она изложила ему свое мнение о событиях в Германии, говоря больше для себя, чем для него. Одно «национальное» правительство уступило место другому, еще более «национальному». Об этом возвещают в высокопарных глупых речах, грандиозными глупыми демонстрациями. А разве митинговые речи и демонстрации когда-нибудь бывали умными? Бойкот и сжигание книг – это, конечно, отвратительно. Газеты противно читать, трескотню, поднятую нацистами, противно слушать. Но разве кто-нибудь принимает все это всерьез? Жизнь, в общем, идет своим чередом. На предприятии, где работает Анна, выбран новый заводской комитет и рабочим снижены ставки. Новый заводской комитет попытался сначала командовать и потребовал увольнения семнадцати евреев и социалистов. Но теперь из числа семнадцати уволенных девять восстановлены. Тайный советник Гарпрехт, ее патрон, иногда добродушно дразнит Анну «ее приятелем-евреем». Внешне он соблюдает всю обрядность нового культа, но наедине с, ней или с другими приближенными высмеивает их.
Оба приподнялись. Он сидел на песке, поджав ноги, она – на камне против него. Французский словарь, который она обычно бережно клала в тень, валялся на солнцепеке, и переплет его коробился. Она говорила медленно, боясь сказать лишнее, но боясь и не договорить. Ее светлые глаза смотрели на него прямо и спокойно. Это была Анна, его Анна. Она приехала из Германии, из герметически закупоренной страны, она была одной из живущих наверху, она не знала, что творится у нее под ногами. Она верила в «спокойствие и порядок» и отстаивала свою веру.
Он слушал внимательно, не перебивая. Все, что она говорила, он слышал много раз, – это можно было прочесть во всех немецких газетах. Так защищали себя те, кто жил в Германии, даже честные, благомыслящие люди, чтобы только не потерять почвы под ногами, не потерять родины. Говорить ли с ней? Есть ли в этом смысл? Не легкомысленно ли, больше того, не бесчестно ли вырвать эту женщину из ее уверенного непоколебимого спокойствия? Перед ним всплывает Иоганнес Коган на ящике. Приседание! Встать! Иоганнес похож на клоуна в цирке, он кричит, как попугай: «Я, жидовский выродок, предал свое отечество». Анна и месяца не может провести в этом южнофранцузском городке, чтобы не навести порядка в доме, где она живет. Так неужели оставить ее в неведении, не рассказать ей о гниении и распаде, которые убивают ее родину? Нет, он не имеет права щадить Анну.
Он передает ей то, что ему рассказал Бильфингер. Он говорит под тихое журчанье моря и легкий шум ветра. Он говорит не так сухо и деловито, как Бильфингер, его слова окрашены чувством. Он не может спокойно излагать факты, он усиливает, преувеличивает. Да, да, пусть она послушает, что происходило в ее Вюртемберге, почти под самым Штутгартом, в то время, когда она расхаживала по его улицам и ничего не видела, кроме «спокойствия и порядка».
Он чувствует, что говорит плохо, слишком возбужденно, неубедительно. Он не рассказывает, он словно защищается. Чего он, в сущности, хочет? Чего хотел Бильфингер – понятно. Он испытывал настоятельную потребность сказать все это ему, еврею, человеку, к которому это имело прямое отношение. Но что заставляет Густава тревожить Анну? Ведь он ничего от нее не хочет. Он вовсе не желает принудить ее к действию. Нет, все-таки чего-то он хочет от нее. Подтверждения. Подтверждения, что он правильно чувствует. Не эгоизм ли это с его стороны? Нет. Они уничтожили меру вещей, и на нас возложено восстановить ее, – и он должен получить подтверждение этого от Анны. С кем же еще ему говорить? С Иоганнесом Коганом? Но Иоганнес Коган в Герренштейне. Приседание! Встать!
Анна слушает. Светлые глаза ее темнеют. Она возмущена, но не услышанным, а тем, что кто-либо может поверить этому. У Густава забрали дом, и потому он поверил, что вся страна превратилась в первобытный лес, а жители ее – в дикарей. Море рокочет сильнее. Анне приходится напрягать голос. Щеки ее покрылись красными пятнами, бледность вокруг глаз усилилась.
Густава не очень трогает ее гнев. Он знал, что Анну нелегко переубедить. Она явилась из страны лжи. В течение долгих месяцев лучшие виртуозы лжи, пользуясь последними техническими достижениями, сеяли по всей стране миллиарды лживых вымыслов. Анна вдыхала этот отравленный ложью воздух день за днем, час за часом. Затуманивать головы таким, как она, скрывать от них истину, – для этого существует специальное министерство лжи. Больше того: вся эта лжереволюция видит во лжи свою важнейшую политическую миссию. Анна напиталась этой ложью. Противоядие не может подействовать сразу. Чтобы излечить ее, требуется время, выдержка.
Густав приносит документы. Он и Анна лежат на животе, подперев голову руками, и он читает ей то, что запротоколировал Бильфингер. Ровно катятся волны, мистраль разбрасывает листки, приходится класть на них камешки. Густав читает, показывает заверенные под присягой документы, фотографии. О собственных бедах он почти не говорит, об Иоганнесе Когане не упоминает. Пусть это постепенно надвинется на нее, как постепенно вошло в него.
Когда он кончил, Анна молча собрала листки, тщательно уложила их в прочную папку. Она раздумывает, она не легковерна. По узкой, осыпающейся тропинке они идут к себе. Анна принимается за хозяйственные дела. Потом она зовет его ужинать. Перед ними песчаный пляж, пинии, море. Близится ночь, быстро холодает. Они говорят о тысяче значительных и незначительных вещей; Анна, может быть, не так весела, но спокойна, как обычно.
Так проходит вечер, так проходит следующее утро. Они проделывают утренний бег на большую дистанцию, плавают, гуляют. Анна читает свою французскую книжку, хозяйничает. День проходит по заранее составленному расписанию.
И только раз воскресает вчерашнее. Анна спрашивает, когда же приедет Иоганнес Коган, и приедет ли он вообще? В свое время Густав писал ей, что Иоганнес, возможно, остановится у нее в Штутгарте дня на три. И вот теперь Густав рассказывает ей о своем друге. Он говорит, что Иоганнес к ней не заедет, и объясняет почему. Это потрясло ее больше, чем бильфингеровские документы.
– Неужели нельзя ему помочь, неужели нельзя для него что-нибудь сделать? – горячо говорит она после минутной растерянности.
– Нет, – отвечает Густав, – ландскнехты не терпят, чтобы вступались за их жертвы. Если вмешивается какой-нибудь юрист или даже министр, заключенный чувствует это потом на своих костях. – На лбу у него вертикальные складки, он слегка скрежещет зубами. Но не позволил себе заговорить о концентрационном лагере. Он отлично видел, что спокойствие Анны нарушено, но он стал умнее, он ждал: пусть она как следует все перемелет под своим выпуклым лбом.
Произошло это вечером. Он читал, лежа в постели, когда она пришла. Она села к нему на кровать и начала говорить. Дом обставлен, и все устроено так, как она рисовала себе. Но теперь это ее не радует по-настоящему. Вещи, о которых рассказывал ей Густав, так чудовищны, что после всего слышанного нелегко прийти в себя. Но все-таки она должна встать на защиту своей Германии. В общем, переворот был необходим. Прежние правители – этого он не может не признать – и шагу не делали без множества оговорок, оговорок на «законнейшем основании». Вместо того чтобы хлопнуть противника по голове, они заводили канитель с сотнями судебных экспертиз, а потом деликатно просили его не так уж нагло изменять родине. Сажали под замок какого-нибудь политического убийцу, а через несколько месяцев, смотришь, он опять на воле; лишали предателя пенсии, а через две недели, цепляясь за букву закона, восстанавливали его в правах. Прежние правители боялись шевельнуться, они жевали жвачку и этим довели республику до распада и гниения. Новые правители хитры и грубы, но они действуют. Это отвечает желаниям народа, это нравится. И фюрер пришелся ко двору именно в силу своей хитрости, не знающей сомнений ограниченности, твердолобой, чугунной веры. Он явился необходимой противоположностью прежних правителей. Это была революция, долгожданная революция. Варварства, конечно, немало, но оно, пожалуй, неизбежное следствие всякой революции, а уж те, кого задели, вечно вопят о разбое, убийстве, конце света. Не сам ли Густав прочел ей вчера обличительные страницы одного забытого египетского писателя, написанные более четырех тысяч лет назад и очень сходные по содержанию с тем, что говорит Густав? Совершались чудовищные злодеяния, верно, но за них ответственны отдельные люди, не народ и не страна. И если Густав укажет ей на сто тысяч злодеяний, то это – сто тысяч единичных случаев, и только.
Густав смотрел на ее светлое, серьезное лицо. Оно не так спокойно, как всегда. Ей нелегко было наскрести свои возражения. Обличительные слова египетского поэта, жившего четыре тысячи триста лет назад. Густав хорошо помнит их. «Искусные правители изгнаны, страной управляют несколько невежд. Наступает царство черни. Вожак ее, вознесенный на гребень волны, пользуется этим, как умеет. Он облачается в тончайшие ткани, умащает плешь свою мирром, захватил большой дом и амбары. Раньше он сам был простым скороходом, теперь другие у него на побегушках. Князья льстят ему. Знатные в прошлом сановники, испив чашу бед, кланяются временщикам». Густав любит хорошие цитаты, но эта взята уж из слишком отдаленных времен и не может служить аргументом против него. Все сказанное Анной – суррогат, недостойный ее. Она правдива до глубины души. Если она от всего сердца верит во что-нибудь, она умеет хорошо выразить свою мысль. Все, что она говорит сейчас, – расплывчато, неустойчиво. Незачем заниматься физиогномистикой, чтобы видеть, что она сама верит своим словам только наполовину.
Густаву нетрудно разбить ее возражения. Он приподнялся, оперся головой на руку. Лампа над кроватью освещала его лицо, и оно резко выделялось в полумраке комнаты.
– Да, это верно, – сказал Густав, – не народ повинен в творящихся бесчинствах. Четырнадцать лет его науськивали на евреев и социалистов, но он не бросался на них как дикий зверь. Прекрасное доказательство хороших качеств народа. В варварстве повинен не он, а правительство, третья империя, ее чиновники, ее ландскнехты. Все злодеяния совершались наемниками правительства, а оно покрывало их. Но варварство заключается не только в этих деяниях, оно присуще самим принципам новых властителей. Они уничтожили меру вещей и узаконили произвол и насилие. Вина нового правительства не столько в том, что совершаются эти злодеяния, сколько в том, что оно препятствует расследованию их, бросает в тюрьмы разоблачителей и этим наперед санкционирует новые преступления.
Густав говорил об открытом исповедании террора, который новые правители бесстыдно проповедуют в десятках тысяч книг, газет и журналов, в своих речах, в своих декретах; он говорил о голом, неприкрытом рвачестве, о дурацком расовом чванстве. Они вытащили этот фетиш из чулана, где хранился старый хлам. Тошно смотреть, как профессора в своих аудиториях курят этому фетишу фимиам, а судьи его именем произносят приговоры. Гнусная комедия. Король сидит в одних подштанниках, а люди валяются у него в ногах и кричат, как прекрасны его одежды. Конечно, и сейчас в Германии делают великолепные машины, четко работают на фабриках и заводах, создают новые музыкальные произведения, много миллионов людей стараются сохранить порядочность. Но вокруг поднялся первобытный лес, где пытают и режут, а они вынуждены судорожно закрывать глаза и уши. Допустим, все это единичные преступления. Допустим, что отдельное издевательство, отдельное убийство – пустяк по сравнению с целым. Но дело в том, что само это целое состоит из таких пустяков, как тело из клеток. А тело в конце концов загнивает, если разрушено много клеток.
И на этот раз возражения Густава лишены были деловитости, он не назвал почти ни одной цифры, ни одной даты. Но он высказал все, чем был полон до краев; он возражал ей не словами, все существо его изливалось перед ней. Она смотрела на него, на его большое взволнованное лицо; в пятне света, отбрасываемого ночной лампой, оно до последней черточки было ярко освещено. Оно было не молодо, но мужественно и отважно. Перед ней был не тот Густав, которого она знала. Его снисходительная флегма исчезла. События захватили его, смешались с ним, закалили ткань, из которой он был сделан, огрубили ее. Анна любила его.
Однако верила ему лишь наполовину. То, что однажды засело под ее выпуклым лбом, прочно оставалось там. Чтобы перестроить ее, надо немало поработать. В лице Анны Густав столкнулся с той отравленной, загипнотизированной Германией, которая до ужаса медленно будет приходить в себя от наркоза. Вот оно, необходимое ему подтверждение. Нельзя не выполнить задачу, которую он перед собой поставил.
Это было то, чего он добивался. Теперь, в сущности, он имел право провести несколько спокойных недель с Анной. Его ждут в дальнейшем немалые трудности. Анна, хотя они и не говорили больше о Германии, уже не та, что прежде. Как ни медленно она сдавалась, вернувшись, она увидит другую Германию.
Они проводили ясные, мирные дни в своем облупленном домике, внутри которого царили образцовая чистота и порядок. Здесь, среди покоя солнечного латинского взморья, трудно было представить себе, что в каких-нибудь двадцати часах езды отсюда находится страна кошмаров – Германия, на города которой обрушились первобытные чудовища. Густав и Анна много бродили по широким, ласкающим глаз просторам; красивым изгибом поднималась дорога к их мысу; кругом были виноградники, пинии, оливковые рощи; ровный рокот морского прибоя провожал их ко сну и встречал их пробуждение; непрерывно дул легкий соленый ветер. По вечерам с тихих холмов спускались козьи стада. Жизнь была привольна и полна античного покоя.
За четыре последних дня Густав не обмолвился ни единым словом о Германии, были часы, когда он совершенно забывал о ней. Но внезапно она вновь страшным образом напомнила о себе.
Они сидели в маленьком, пестром портовом кабачке ближайшего приморского городка, и Густав читал какую-то газету. Вдруг его смуглое от загара лицо побледнело, он выпустил газету из рук, Анна подняла ее. Известный немецкий профессор Иоганнес Коган, прочла Анна, покончил самоубийством в концентрационном лагере Герренштейн. Анна, в свою очередь, побледнела, сначала только вокруг глаз, пятом бледность разлилась по всему лицу.
– Пойдем, – сказала она.
Они поехали домой. Всю дорогу молчали. Густав сошел к морю, сел на камень. Она оставила его одного. Вечером она сказала ему:
– Ты прав, Густав. Я ошибалась. Я закрывала глаза. Ты прав, Германия стала другой. И дело не только в том, что там умер Иоганнес Коган, не только в том, о чем ты мне рассказывал и давал читать, и не в том, что в Германии, доведись им узнать, что я здесь, с тобой, мне бы срезали волосы и водили меня по улицам, ругая бесстыдной тварью. Когда я думаю, что я видела в Германии, когда я отсюда смотрю на все новыми глазами, теперь, вот с этого мгновенья, я, Густав, говорю: мне стыдно. Новая Германия ужасна.
Густав вспоминал изжелта-смуглое, умное, гордое лицо своего друга Иоганнеса. «Самоубийство», «убит при попытке к бегству», «сердечная слабость» – таковы были официальные причины смерти заключенных в концентрационных лагерях. А потом то, что оставалось от узников – переломанные кости и бесформенные груды мяса, – клали в гроб; по возмещении расходов запаянный гроб выдавали родным под расписку, что он не будет вскрыт. Они запрещают печатать объявления о смерти, если в них есть слова: «скоропостижно скончался».
– Почти все мои друзья и знакомые перебывали на фронте, – сказал Густав. – Многие были убиты. Я не считал, сколько людей отняла у меня смерть за последние месяцы, но могу сказать с уверенностью: с тех пор как фашисты пришли к власти, насильственной смертью погибло их больше, чем за время войны.
Потом Анна спросила его, что он намерен делать. Он сказал:
– Я не могу молчать. Это все, что я знаю.
Анна нерешительно спросила:
– А не подвергаешь ли ты себя опасности?
Тревога в ее голосе глубоко обрадовала его. Он пожал плечами.
– Так дальше я жить не могу, – сказал он.
Пришло лето. Анне пора было уезжать. Густав проводил ее до Марселя. Анна всматривалась в лицо друга. Оно казалось серьезнее и спокойнее, чем прежде. Что-то молодое появилось в нем и в то же время мужественное. В смятении, в тревоге за его судьбу, но глубоко радуясь совершившейся в Густаве перемене, переехала она границу.
Он стоял на перроне, глядя вслед поезду, уносящему Анну в страну кошмаров. Дни, проведенные с нею, были хорошие и плодотворные. Он уяснил себе многое, что раньше бессознательно и безотчетно угнетало его.
Он все еще жил в облупленном домике на высоком мысу, в отдалении от всякой суеты. Порядок, созданный Анной, быстро исчезал, но это его не огорчало. Он не сторонится людей, болтает с местными жителями, с рыбаками, виноделами, крестьянами, со случайными туристами. Но он подолгу бывает один. С братьями, с близкими он слабо поддерживает связь. Он получает письма, но отвечает редко, все реже и реже. Он испытывает глубокий покой; его судьба определилась.
Деньги в бумажнике тают. Он мог бы написать Мюльгейму или в Швейцарский банк, в котором у него есть текущий счет. Но он не делает ни того, ни другого. Пока есть деньги в бумажнике, он будет оставаться здесь. Деньги на текущем счету в банке предназначены для другой цели.
Привычки его упрощаются, у него нет никаких потребностей. Он бродит или разъезжает в маленьком, все более и более ветшающем автомобиле по прекрасным широким просторам. Делает привал где-нибудь на солнце и завтракает хлебом, сыром, фруктами, запивая глотком местного терпкого вина. Иногда он заходит в кабачки, вступает в разговоры с крестьянами, торговцами, рыбаками, кондукторами автобусов. Днем кричат громкоговорители, повсюду музыка, по вечерам танцуют, жизнь пестра, шумна. Густав спокойно отдается ее течению. Он бывает порой даже весел и общителен. В эти мгновенья в нем мелькает что-то от прежнего Густава, которого охотно слушали мужчины, дружбой которого гордились женщины. Да и теперь женщины посматривают на него и вздыхают, когда он уходит. Он часто бывает задумчив, редко печален. Ужасы страны кошмаров не забыты им, он не отворачивается от них, переживает их так же, как переживал бы, находясь по ту сторону границы. И хотя мысль о них не оставляет его, он спокоен, даже весел.
В ближайшем большом городе, в Марселе, в витрине книжного магазина он увидел новую немецкую книгу, небольшую брошюру: Фридрих Гутветтер «О воспитании новой человеческой породы. Эскиз. Посвящается подруге». Густав купил книжонку. В ней есть несколько выспренних мыслей о фашизме, но они изложены таким вычурным туманным языком, что самую «идею» и не разглядеть сквозь этот туман.