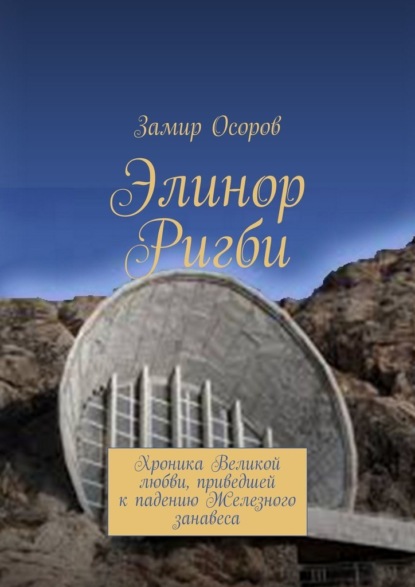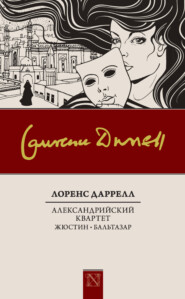По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александрийский квартет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пляс Заглуль – изделия из серебра и голуби в клетках. Сводчатый подвал, черные бочонки вдоль стен и воздух, удушливый от поджариваемой рыбьей мелочи и от запаха retzinnato. Записка, нацарапанная на полях газеты. Здесь я пролил вино ей на платье и, пытаясь исправить содеянное, случайно дотронулся до ее груди. Ни слова не было сказано. Персуорден в это время – как чудно он говорил об Александрии и о горящей библиотеке! В комнате наверху исходил криком какой-то бедолага, менингит…
* * * * *
Сегодня, совершенно внезапно, прошел слепой весенний ливень, очистив воздух города от пыли, вернув ее земле, молотя по стеклянной крыше студии, где сидит Нессим над эскизами к портрету жены. Она позировала, сидя перед камином, с гитарой в руках, шея подчеркнута пятнистым шарфом; она поет, склонив голову. Отзвук ее голоса отдается в голове Нессима подобно магнитофонной записи землетрясения, запущенной наоборот. Невероятная траектория радуги над парками, где пальмы туго выгибаются назад; мифология желтогривых валов, атакующих Фарос. Ночью в город приходят новые звуки, протяжное гудение и резкие выкрики ветра, поначалу они настораживают, пока не начинаешь ощущать, как город превращается в корабль и отзывается скрипом и стонами старых шпангоутов на каждый удар непогоды.
Вот такую погоду и любит Скоби. Лежа в постели, он любовно дотрагивается до подзорной трубы и обращает мечтательный взор на голую стену из осыпающихся необожженных кирпичей, за которой – море.
Скоби подбирается к семидесяти и все еще боится умереть; один из его постоянных кошмаров – он просыпается однажды утром и видит мертвое тело капитан-лейтенанта Скоби. Так что каждое утро начинается для него с тяжкого испытания, когда водоносы вопят под окнами и будят его еще до восхода солнца. Целую минуту, по его собственным словам, он не решается открыть глаза. Старательно зажмурившись (из страха, что открой он их – и узрят они духа небесного или хор распевающих гимн херувимов), он тянется к стоящему у кровати поставцу и хватает трубку. Трубка всегда набита с вечера, и рядом лежит открытая коробка спичек. Первая же затяжка крепкого матросского курева возвращает ему и самообладание, и зрение. Он набирает полную грудь воздуха, благодарный за воскрешение из мертвых. Он улыбается. Он удовлетворенно оглядывается. Натягивая до самых ушей тяжелую овчину, что служит ему на ложе покрывалом, он исполняет свой маленький благодарственный пеан утру голосом, скрипучим, как станиоль: «Taisez-vous, petit babouin; laissez parler votre mеre» [66 - Помолчите, крошка-егоза, дайте вашей матери сказать (фр.).].
Его обвисшие, как у старого трубача, щеки розовеют от усилия. Критически оценив свое состояние, он приходит к выводу: у него неизбежная головная боль. Язык его шершав от вчерашнего бренди. Но, невзирая на все эти маленькие неудобства, перспектива еще одного дня жизни выглядит весомо. «Taisez-vous, petit babouin», – и так далее, с паузой, дабы отправить на место вставную челюсть. Он прикладывает сморщенную ладонь к грудной клетке, и звук работающего сердца доставляет ему тихую радость, ибо он поддерживает вялую циркуляцию в той самой венозной системе, все трудности которой (реальные или воображаемые – я так и не понял) можно с успехом преодолеть с помощью бренди в ежедневных и только что не смертельных дозах. Если вам посчастливится застать его еще в постели, он почти наверняка схватит вашу руку костлявой птичьей лапкой и предложит лично убедиться: «Силен как вол, а? Тикает что надо», – обычная его фраза, и бренди здесь не властен. Сделав над собой некоторое усилие, вы просунете руку за отворот его дешевой пижамы, чтобы ощутить смутное, тусклое, отдаленное биение жизни – сердце зародыша на седьмом месяце. С трогательной гордостью он застегнет пижаму и издаст нечто соответствующее его представлению о реве здорового животного. «Выпрыгиваю из постели, словно лев», – еще одна из его фраз. Вам не понять всей полноты очарования, свойственного этому человеку, пока вы не увидите воочию, как, согнутый ревматизмом едва не пополам, сей реликт ледниковой эры выбирается из-под бумажных приютских простыней. Лишь в самые жаркие месяцы года его кости оттаивают настолько, что он может достичь достойного прямостояния. Летними вечерами он гуляет в парке, и маленький его череп сверкает, подобно солнцу небольшого достоинства, вересковая трубка нацелена в зенит, челюсть скошена в жуткой гримасе, долженствующей означать почти неприличное здоровье.
Никакая городская мифология не может быть полноценной без своего Скоби, и Александрия многое потеряет, когда его иссушенное солнцем тело, завернутое в «Юнион Джек», будет в конце концов опущено в неглубокую могилку, что ждет его на римско-католическом кладбище возле трамвайной линии.
Скудной флотской пенсии едва хватает на то, чтобы платить за единственную густонаселенную тараканами комнату – он снимает ее в трущобах позади улицы Татвиг. Недостаток средств восполняет не менее скудное жалованье от египетского правительства, к жалованью прилагается гордый титул Бимбаши Полицейских Сил. Клеа написала с него прекрасный портрет, в полной полицейской форме, с красной феской на голове и с огромной мухобойкой толщиною в конский хвост, которая изящно лежит поперек его костлявых колен.
Клеа снабжает его табаком, а я – восхищением, собственным обществом и, по возможности, бренди. Мы ходим к нему по очереди – рукоплещем его физической мощи и не даем ему упасть, когда в порыве энтузиазма по поводу последней он слишком сильно ударяет себя в грудь. Происхождение его туманно, его прошлое, подобно прошлому настоящего мифологического персонажа, вписано в историю доброй дюжины частей света. А настоящее настолько богато воображаемым здоровьем, что желать ему в общем-то и нечего – кроме разве что случайных поездок в Каир во время Рамадана, когда его контора закрыта и когда, предположительно, всякого рода преступная деятельность впадает по случаю праздника в спячку.
Молодость безборода, то же и второе детство. Скоби ласково теребит остатки некогда пышной и ухоженной остроконечной бородки, но очень осторожно, едва касаясь, из боязни, что выдернет ее окончательно и останется совершенно беззащитным. Он цепляется за жизнь, как устрица, и каждый год намывает новое колечко, незаметное невооруженным глазом. Его тело словно усыхает, съеживается с каждой новой зимой, и скоро череп его будет не больше черепа младенца. Еще год-другой, и мы сможем затолкать его в банку и замариновать навечно. Морщины становятся все глубже. Без зубов его лицо напоминает морду старого шимпанзе; над худосочной бородкой – вишнево-красные щечки, ласково называемые в обиходе «порт» и «лево руля», излучают в любую погоду тихое теплое сияние.
Его тело многим обязано поставщикам запасных частей. В тысяча девятьсот десятом падение с бизани сместило его челюсть на два румба с запада на юго-запад и продавило фронтальный синус. Когда он говорит, его вставная челюсть ведет себя словно складная лестница, описывая внутри черепа судорожные спирали. Улыбка его непредсказуема и может возникнуть где угодно, как улыбка Чеширского Кота. В девяносто восьмом он строил глазки чужой жене (это он так говорит) и одного из них лишился. Предполагается, что никто, кроме Клеа, об этом не догадывается, но в данном случае замена была достаточно грубой. В состоянии покоя это не слишком бросается в глаза, но стоит ему только чуть-чуть оживиться, и разница между двумя глазами становится очевидной. Существует и небольшая проблема чисто технического свойства – его собственный глаз почти постоянно красен. В самый первый раз, когда он испытывал меня вольным пересказом «Вахтенный, что там в ночи?», стоя в углу комнаты с антикварным ночным горшком в руке, я обратил внимание, что правый его глаз движется чуть медленней, чем левый. Тогда он показался мне увеличенной копией стеклянного глаза орлиного чучела, угрюмо взирающего на мир из ниши в публичной библиотеке. Однако зимой именно вставной глаз совершенно непереносимо пульсирует, портит ему настроение и вводит во грех сквернословия – пока очередная рюмочка бренди не согреет его желудок.
Этот одноклеточный профиль я представляю себе выплывающим из дождя и тумана, ибо Скоби наделен странным свойством приносить с собой некоторое подобие английской погоды и нет для него большего счастья, чем сидеть зимой перед микроскопическим пламенем в камине и говорить. Память раз за разом пытается пустить в ход напрочь разлаженный механизм его несчастной головы, пока наконец не теряется окончательно – где-то в сумеречных глубинах. Я вижу за его спиной длинные серые валы Атлантики – они трудолюбиво и упорно смыкаются над его воспоминаниями, растирают их в водяную пыль, которая слепит ему глаза. Его рассказы о прошлом – серия коротких телеграмм – линия нарушена, погодные условия неблагоприятны для сеанса связи. В Доусоне десятеро пошли вверх по реке и замерзли насмерть. Зима обрушилась как молот и сразу отправила их в нокаут; виски, золото, смерть – это было похоже на новый крестовый поход в северные леса. В те же годы его брат упал с водопада в Уганде; во сне он видел крошечную фигурку, меньше мухи, падающую – и моментально расплющенную желтой лапой воды. Нет, это было позже, когда он уже смотрел через прицел карабина в самую черепушку какого-то бура. Он пытается вспомнить точно – когда это должно было случиться, роняя лысую полированную голову на руки, но снова вмешиваются серые валы бесконечных приливов и отливов, патрулирующие границу между ним и его памятью. Вот почему это слово пришло ко мне – намывает – вместе с образом старого пирата: его череп осязаемо обкатан, и только тончайший слой кожи отделяет его улыбку от улыбки занесенного песком скелета. Обратите внимание на эту черепную коробку, на отчетливые вмятины здесь и здесь; на хворостинки косточек под восковой кожей пальцев, на дряблое старческое сусло на месте икроножных мышц… И в самом деле, как заметила однажды Клеа, старина Скоби похож на какой-нибудь маленький древний мотор на колесах, чудом уцелевший с прошлого века, нечто умилительное и жалкое вроде первой Стивенсоновой «Ракеты».
Он живет в своем перекошенном чулане, как анахорет. «Анахорет!» – вот еще одно из его любимых словечек; обычно, произнося его, он подпирает щеку пальцем, и томно закатывающийся глаз сразу же выдает в нем тщательно скрываемую женственность. Весь маскарад – исключительно ради Клеа. В присутствии «прекрасной дамы» он считает себя обязанным принимать защитную окраску, которая слетает с него, как только за Клеа закроется дверь. Действительность несколько печальнее. «Я ведь лет сто был вожатым у скаутов, – поверяет он мне свою тайну sotto voce [67 - Вполголоса (ит.).], – в отрядах Хэкни. Это уже после того, как меня списали по инвалидности. Но мне нельзя было возвращаться в Англию, старина. Тяга была слишком сильна, вот что я тебе скажу. Каждую неделю я ждал, что увижу заголовок во “Всемирных известиях”: “Еще одна юная жертва грязной похоти вожатого”. В Хэкни-то все было в порядке. Мои мальчики словно родились в лесу – все умели. Истинные юные итонцы – это я их так называл. Вожатый, который был там до меня, получил двадцать лет. Этого достаточно, чтобы навести на Раздумья. Такие вещи заставляют шевелить мозгами. В общем, я как-то не прижился в Хэкни. Имей в виду, я, конечно, несколько поотстал от жизни, но я люблю, чтобы на душе у меня было спокойно – как раз в этом смысле. А в Англии сейчас человек уже не чувствует себя свободным, нет. Обрати внимание, они уже добрались до клириков, до уважаемых служителей церкви, и все такое. Я спать перестал. В конце концов уехал за границу, частным, знаешь, как его, губернером, вот – Тоби Маннеринг, отец у него член парламента, кстати; так вот, ему захотелось попутешествовать. Ему сказали – тогда нужен губернер. А на самом деле он хотел поступить во флот. Вот я и попал сюда. Я сразу понял, что жизнь здесь – что надо, без лишних хлопот. Сразу получил работу – в полиции нравов, у Нимрод-паши. Вот так, дорогой мой. И никаких жалоб, ты понимаешь? Обозревая с востока на запад эту плодородную дельту, что я вижу? Милю за милей ангельски маленьких черных попок».
Египетское правительство с той поистине донкихотской широтой, с которой Левант расточает деньги на любого иностранца, выказавшего хоть каплю внимания и благожелательности, предложило ему средства, вполне достаточные для того, чтоб прожить в Александрии. Говорят, что после его назначения в полицию нравов разврат приобрел такие угрожающие масштабы, что наверху сочли необходимым перевести его с повышением; однако сам он настаивает на том, что его перевод в заштатный отдел контрразведки был вполне заслуженным продвижением по служебной лестнице, – а у меня никогда не хватало смелости подшучивать над ним по этому поводу. Служба у него необременительная. Каждое утро он трудится пару часов в полуразвалившемся офисе в верхней части города, где блохи скачут по резным панелям его старомодного стола. После скромного ланча в «Лютеции» он, если фонды позволяют, покупает там же яблоко и бутылку бренди для вечерней трапезы. Бесконечные послеполуденные часы удушливого пекла проходят в легкой дреме, в перелистывании газет, одолженных у дружественного торговца-грека. (Когда он читает, у него на макушке бьется родничок.) Зрелость – это все.
Меблировка его маленькой комнаты выдает дух в высшей степени эклектический; те немногие предметы, что скрашивают жизнь анахорета, обладают выраженными свойствами характера, словно все вместе они и составляют личность своего владельца. Портрет, написанный Клеа, именно потому и оставляет такое ощущение полноты и завершенности, что вместо фона она любовно выписала весь набор его стариковских сокровищ. Маленькое уродливое распятие на стене за кроватью, например; прошло уже несколько лет с тех пор, как Скоби обратился к Святой Римской Церкви за утешением в старости и в тех изъянах характера, которые успели за это время стать его второй натурой. Поблизости висит небольшая литография – Мона Лиза, чья загадочная улыбка всегда напоминала Скоби о его собственной матери. (Что до меня, то эта знаменитая улыбка всегда казалась мне улыбкой женщины, только что за обедом отравившей собственного мужа.) Как бы то ни было, но и этот предмет каким-то образом встроился в процесс существования Скоби, войдя с ним в особые и весьма интимные отношения. Такое впечатление, что его Мона Лиза не имеет себе не то что равных, но даже подобных: этакий дезертир от Леонардо.
Далее, конечно же, следует старый поставец, который служит ему одновременно комодом, книжным шкафом и секретером. Клеа удостоила сей предмет мебели собственноручного ремонта, чего он, вне всяких сомнений, заслуживает, расписав его с микроскопической дотошностью. У него четыре яруса, и каждый окаймлен неширокой, но изящной полочкой. Скоби он стоил девять пенсов с фартингом на Юстон-роуд в 1911 году и с тех пор дважды объехал вместе с ним вокруг света. Скоби поможет вам насладиться лицезрением этого чуда безо всякого следа иронии или самодовольства. «Чудесная вещица, а?» – произнесет он ненавязчиво, складывая ветошку и вытирая пыль. Верхний ярус, объяснит он вам любовно, был предназначен для тостов, намазанных маслом; средний – для песочного печенья; нижние – для «двух сортов пирожного». В настоящее время, однако, поставец выполняет иные функции. На верхней полке лежат подзорная труба, компас и Библия; средний ярус предназначен для почты, каковая состоит из одинокого конверта с пенсией; на нижнем ярусе с непрошибаемой серьезностью расположился ночной горшок, именуемый не иначе как «фамильная ценность», а еще с ним связана какая-то таинственная история, которую он мне как-нибудь непременно расскажет.
Комната освещается единственной дохлой электрической лампочкой и выводком масляных коптилок, обитающих в нише; там же гнездится и глиняный кувшин, всегда наполненный прохладной питьевой водой. Одинокое незавешенное окошко слепо глядит на унылую облупленную глинобитную стену. Он лежит на кровати, и смутный чадный свет коптилок отражается в стекле компаса – он лежит на кровати за полночь, бренди пульсирует в его голове, и больше всего он напоминает мне доисторический свадебный торт, который только и ждет, чтобы кто-нибудь наклонился и задул все свечи разом.
Последняя его реплика перед сном, когда ты уже довел его без приключений до постели и заботливо подоткнул одеяло, – помимо вульгарного «Поцелуй меня, не бойся», сопровождающего кокетливо подставленную щечку, – более серьезна. «Скажи мне честно, – говорит он. – Я выгляжу на свои годы?»
Если честно, Скоби выглядит на чьи угодно годы; древнее, чем рождение трагедии, моложе, чем афинская смерть. Он начал жить в икринке, прилепившейся к ковчегу после того, как встретились на нем случайно и случились устрица с медведем; он вылупился раньше срока, когда киль ковчега душераздирающе заскрежетал о гребень Арарата. Скоби выпрыгнул прямо из чрева в инвалидной коляске на резиновом ходу, одетый в охотничью шляпу и красный фланелевый набрюшник. На цепких обезьяньих ножонках – самая блестящая в мире пара ботинок с резиновыми задниками. В деснице – ветхая фамильная Библия, на форзаце которой начертаны слова «Джошуа Сэмюэль Скоби 1870. Чти отца твоего и мать твою». К этим сокровищам прибавьте глаза как мертвые луны, недвусмысленный изгиб пиратского спинного хребта и поразительную осведомленность во всем, что касается галер. Нет, вовсе не кровь текла в жилах Скоби, но зеленая морская вода, из самых глубин океанских. Его походка – плавный, медлительно-мучительный притоп святого, разгуливающего по Галилее. Его речь – соленый морской жаргон, выщелоченный в водах пяти океанов, – антикварная лавка салонных побасенок, ощетинившихся секстантами, астролябиями, румбами и изобарами. Когда он поет, что случается довольно часто, поет он голосом Старого Морехода. Он, подобно святому заступнику, разбросал по всему миру маленькие кусочки собственной плоти – Занзибар, Коломбо, Тоголенд, Ву Фу, – как молочные зубы, как осенние листья, роняет он их от века, старые оленьи рога, запонки для манжет, зубы, волосы… И вот отхлынувшие с отливом воды оставили его на высоком и сухом берегу над быстрыми водоворотами времени – Джошуа, несостоятельный должник погоды, островитянин, анахорет…
* * * * *
Клеа, нежная, милая, загадочная Клеа – лучший друг Скоби и уделяет старому пирату изрядную долю свободного времени; она покидает свою сотканную из паутинок студию, чтобы заваривать для него чай и внимать нескончаемым монологам «за жисть», давно уже канувшую в Лету, утратив жизненные соки, чтобы остаться и бродить невнятным эхом в лабиринтах памяти.
Ну, а сама Клеа; стоит ли винить одно мое воображение в том, что написать ее портрет кажется делом почти безнадежным? Я часто думаю о ней – и при этом замечаю, что вся моя писанина только мешает мне видеть ее такой, какая она есть. Может быть, вот в чем трудность: между ее привычками и настоящим ее характером вроде бы не существует прямой связи. Если бы я, не дай бог, принялся описывать внешние формы ее жизни – столь обезоруживающе простые, изящные и самодостаточные, – возникла бы реальная опасность выставить ее либо монашенкой, променявшей весь спектр человеческих страстей на тягостный поиск собственного внутреннего «я», либо разочарованной девственницей – если понимать последнее слово как врожденный талант либо как профессию, – отринувшей мир по причине общей психической неуравновешенности или в результате некой непреодолимой детской душевной травмы.
Все связанное с ней окрашено в теплые золотисто-медовые тона; светлая, решительной рукой подрезанная челка, длинные волосы на затылке, заколотые в простой узел под нежным пушком шеи. Чистые линии лица, лица младшей музы с улыбчивыми серо-зелеными глазами. Спокойные, точные в движениях руки, ловкие и красивые, – доходит до тебя однажды, когда ты застаешь ее за делом, держит ли она кисть или вправляет сломанную лапку воробушка, зажав ее между игрушечными лубками из половинок спичек.
Надо бы измыслить что-нибудь вроде: еще теплой влили ее в тело юной грации; имеется в виду: в тело, от рождения лишенное инстинктов и страстей.
Она красива; у нее достаточно денег, чтобы обеспечить себе полную независимость; она талантлива – недурное приданое, подающее завистливым и отчаявшимся повод считать, что ей просто незаслуженно улыбнулось счастье. Но вот вопрос, недоумевают и те, кто завидует ей, и те, кого она просто интересует: почему она отказывает себе в замужестве?
Она живет достаточно скромно, хотя и не бедно, в мансарде, в удобной студии, где почти нет мебели, кроме железной кровати да нескольких потрепанных шезлонгов, которые летом она без посторонней помощи перевозит в свою маленькую купальню в Сиди Бишре. Ее единственная роскошь – выложенная блестящей плиткой ванная, в углу которой она соорудила крохотную кухонную плиту, дабы обеспечить себя плацдармом для кулинарных изысканий, буде ей придет в голову что-либо подобное; еще там есть книжный шкаф, чьи до предела забитые полки недвусмысленно говорят о том, что ему ни в чем не бывает отказа.
Она живет без любовников и без семейных связей, без врагов и без домашних животных, целомудренно сосредоточившись на живописи, – к живописи она относится всерьез, но не слишком. В работе ей тоже сопутствует удача: ее дерзкие и вместе с тем элегантные полотна лучатся мягким юмором. Они преисполнены чувства игры – как любимые дети.
Да; перечитал написанное и споткнулся о фразу достаточно нелепую – будто она «отказывает себе в замужестве». Представляю, как бы она взбеленилась, услышав такое: я помню, она сказала мне как-то раз: «Если хочешь, чтобы мы были друзьями, ты не должен думать или говорить, что я чем-то себя в жизни обделила. Одиночество ничуть не делает меня беднее, да я и не смогла бы жить иначе. Я хочу, чтобы ты знал: у меня все в порядке – и не считал меня скопищем скрытых комплексов. Что же касается любви – cher ami, – я уже говорила тебе, что любовь интересовала меня весьма недолгое время – а мужская любовь и того меньше; у меня было… у меня была всего одна связь, которая меня по-настоящему задела, и то была связь с женщиной. И я все еще живу счастьем этой чудесным образом состоявшейся связи: любая физическая замена показалась бы мне сейчас ужасно пустой и вульгарной. Только не придумывай себе, Христа ради, будто я страдаю какой-нибудь модной разновидностью любовного сплина. Отнюдь. Весьма забавно, но я чувствую, что наша любовь только выиграла оттого, что мы расстались, физическое воплощение словно мешало ей расти в полную силу, раскрыться по-настоящему. Похожа я на страдалицу, а?» Она рассмеялась.
Мы шли, я прекрасно помню, вдоль по вылизанной дождем Корниш, осенью, под медленно темнеющим полумесяцем облачного неба; она говорила, а потом порывисто взяла меня под руку и улыбнулась мне так нежно, что случись нам навстречу прохожий, он бы, вне всяких сомнений, принял нас за влюбленную парочку.
«А еще, – продолжала она, – есть такая вещь: может, ты бы и сам скоро до этого додумался. Есть в любви что-то – не скажу убогое, потому что убогость эта от нас же самих; но мы чего-то главного в ней не поняли. Ну, смотри, сейчас ты любишь Жюстин, и это вовсе не новая для тебя любовь к новому человеку, это все та же твоя любовь к Мелиссе пытается пробиться сквозь Жюстин. Любовь – жутко стабильная штука, и каждому из нас достается по кусочку, не больше и не меньше, своего рода рацион. Она способна принимать бесконечно разнообразные формы и связать тебя с бессчетным числом людей. Но рацион есть рацион: она затаскается, сносится, потеряет товарный вид, так и не дождавшись истинного своего предмета. Потому что пункт ее назначения расположен где-то в самых труднодоступных дебрях души, и там она должна осознать себя как любовь к самому себе – та самая почва, на которой мы строим наше так называемое душевное равновесие, здоровье души. Я вовсе не об эгоизме, не о нарциссизме говорю».
Именно такие разговоры – разговоры, забредавшие порой далеко за полночь, и сделали нас с Клеа друзьями, научили меня доверять ее силе, выплавленной из рефлексии и самоанализа. Дружба, завязавшаяся тогда, позволяла нам делить на двоих наши тайные заботы и помыслы, пробовать их друг на друге, как на оселке, – так свободно и искренне, что, будь мы связаны узами чуть более прочными, воздушный замок рассыпался бы; ведь узы эти, как ни парадоксально, как ни противится тому настойчивый голос чисто человеческих иллюзий, разделяют куда сильнее, чем соединяют. «Ты прав, – помню, сказала она как-то раз, когда я поделился с ней этим странным наблюдением. – В каком-то смысле я ближе тебе, чем Мелисса, ближе, чем Жюстин. Видишь ли, Мелиссина любовь чересчур доверчива: это ослепляет. А Жюстин с ее трусливой мономанией просто не позволит тебе не быть похожим на некую демоническую личность, ей самой подобную. Ну-ну, не играй в оскорбленное достоинство, пожалуйста. В том, что я говорю, нет ни капли издевки».
Да, помимо собственной живописи Клеа, я просто обязан упомянуть и о том, что она работает на Бальтазара. Она у него – клинический художник. В силу некоторых обстоятельств друга моего не удовлетворяет обычный способ регистрации медицинских аномалий посредством моментальной фотосъемки. Он придерживается им самим, очевидно, выдуманной теории, согласно которой пигментация кожи на разных стадиях его излюбленных недугов сугубо значима для врача. Так, например, у Клеа есть целая серия, посвященная разрушительному воздействию сифилиса, на всех его стадиях – большие цветные рисунки, необычайно ясно и с любовью выполненные. В каком-то смысле это настоящие произведения искусства; чисто утилитарный предмет освободил живописца ото всяких порывов к самовыражению; она занялась простой регистрацией; несчастные человеческие члены, истерзанные пыткой и закосневшие во мраке, – Бальтазар отслеживает их изо дня в день в длинной унылой очереди в приемной палате (так человек выбирает из бочки сгнившие яблоки) – обладают всем необходимым для жесткой портретной графики: животы, как будто изрезанные автогеном, с гроздями наплавленных бусин металла, лица со сморщенной кожей, шелушащейся, как штукатурка, карциномы, рвущие резиновые пленки, что сдерживают их… Помню, как в первый раз я увидел ее за работой; я забежал к Бальтазару в клинику за какой-то бредовой справкой, срочно необходимой мне, чтобы отвязаться от администрации школы, где я тогда работал. Проходя мимо стеклянных дверей хирургического отделения, я случайно увидел в унылом больничном саду под засохшим персиковым деревом – Клеа, в то время я еще не был с ней знаком. На ней был белый больничный халат, краски свои она аккуратнейшим образом разложила под рукой на мраморном пеньке от колонны. Перед ней на плетеном стуле в странной позе сидела девушка из феллахов, большегрудая, с лицом сфинкса; юбку она задрала выше пояса, дабы явить миру некий избранный предмет изысканий моего ученого друга. Был чудесный весенний день, и даже на таком расстоянии ветер доносил шорох торопливых шагов моря. Ловкие невинные пальцы Клеа сновали взад-вперед по белой поверхности бумаги, уверенно, проворно, с мудрой поспешностью. Лицо ее выражало сосредоточенность и увлеченность – радость специалиста, кладущего мазок за мазком в цветовой гамме некой редкой разновидности тюльпана.
Когда Мелисса умирала, она просила именно Клеа сидеть с ней; именно Клеа ночи напролет развлекала ее рассказами и ухаживала за ней. Что касается Скоби – у меня бы просто недостало смелости сказать, что существует какая-то скрытая связь между его и ее извращенностью, глубокая, как подводный кабель, связывающий два континента, – это было бы несправедливо по отношению к обоим. Ясное дело, старина Скоби ни о чем подобном и не догадывается; она же, со своей стороны, с присущим ей тонким чувством такта, никогда не даст ему почувствовать, насколько нелепы все эти истории о его любовных подвигах. Они прекрасно подходят друг другу и совершенно счастливы теми отношениями, которые между ними установились как-то сами собой: отец и дочь. Один-единственный раз я слышал, как Скоби подшучивает над ней по поводу того, что она никак не выйдет замуж, – и милое лицо Клеа стало вдруг круглым и плоским, как у школьницы, и откуда-то из глубин напускной серьезности, мигом загнавшей в тень проблеск чертовщинки в серых ее глазах, она изрекла в ответ, что просто ждет, когда же ей наконец повстречается мужчина, который был бы ее достоин; на что Скоби отреагировал глубоким медленным кивком и согласился, что это весьма разумная линия поведения.
Именно в ее студии я как-то раз выудил на свет Божий из хаоса пыльных холстов, грудой сваленных в углу, голову Жюстин – полупрофиль, выполненный мелким импрессионистическим мазком и явно незаконченный. Клеа на секунду задержала дыхание и уставилась на него сострадательным взглядом матери, которая знает, что ребенок у нее – урод, но никогда не признает этого перед посторонними. «Это такая древность», – сказала она; и после долгих раздумий подарила его мне на день рождения. Теперь он стоит на старой сводчатой каминной полке, напоминая мне о захватывающей дух, о лезвийно острой красоте этой темной и любимой женской головки. Губы только что выпустили сигарету, и сейчас она скажет что-то, уже обретшее в ней форму, но едва успевшее подняться к ее глазам изнутри. Губы приоткрылись, готовые облечь мысль словом.
* * * * *
Мания самооправдания в равной мере присуща и тем, чья совесть нечиста, и тем, кто ищет философского обоснования своим поступкам: и в том, и в другом случае это приводит к самым странным формам мысли. Идея не спонтанна, ее выносят на поверхность подводные токи воли. У Жюстин подобная мания вызвала к жизни непрерывный поток идей, раздумий о поступках прошлых и настоящих; текучая эта субстанция давила на нее изнутри, словно мощное течение на стены дамбы. Слишком явной была маниакальная изощренность ее самокопания – как же можно было доверять результатам раскопок, тем более что с каждым новым заходом ее мысль текла по новому руслу, неспособная оставаться в сколь-нибудь привычных берегах. Теории о себе самой создавались и разрушались, она роняла их, бессчетные, лепесток за лепестком. «Не кажется ли тебе, что любовь состоит из одних парадоксов?» – спросила она однажды у Арноти. Едва ли не тот же самый вопрос, помню, задала она и мне, и густой ее темный голос наделил его оттенком ласки – и злого умысла. «Представь себе на минуту, что я вдруг скажу тебе: я позволила себе с тобой сблизиться, только чтобы спасти саму себя от опасности и бесчестья – от опасности влюбиться в тебя по уши? Я спасала Нессима каждым подаренным тебе поцелуем». А теперь попробуйте отыскать здесь мотив для той, хотя бы, невероятной сцены на пляже. Ни минуты без сомненья, ни минуты без сомненья. В другой раз она выбрала иной угол зрения, и вышло, пожалуй, не менее правдоподобно: «Мораль, это – а что такое, собственно, мораль? Не были же мы с тобой просто-напросто обжорами, как ты думаешь? А уж этот наш роман сполна оплатил все, что нам наобещал, – по крайней мере мою долю. Вот мы встретились, и случилось самое худшее с тем самым лучшим, что у нас есть, – с твоей женщиной, с моим мужчиной. Ну, пожалуйста, не смейся надо мной!»
Я же оставался лишь одурманенным и безмолвным созерцателем невероятных горизонтов, проблескивающих сквозь ее слова; и напуганным – так непривычно и непросто казалось обсуждать испытанное нами в подобной похоронной терминологии. По временам я, как и Арноти в подобных же случаях, доходил окончательно и кричал: «Бога ради, остановись ты наконец, выберись из этой проклятой мании быть несчастной – или мы и в самом деле плохо кончим! Ты высосешь всю кровь из наших судеб прежде, чем мы успеем попробовать их прожить». Конечно же, я отдавал себе отчет в полной бессмысленности подобных призывов. Есть в этом мире люди, рожденные для самоуничтожения, и любые разумные доводы здесь бессильны. Что до меня, то Жюстин всегда напоминала мне сомнамбулу, которую застигли ступающей по скользким перилам высокой башни; любая попытка пробудить ее криком может привести к несчастью. Оставалось лишь молча идти за ней следом в надежде постепенно увести ее от черных провалов, смутно маячивших по сторонам.
Однако вот что странно: именно эти недостатки характера – ошибки души – и обладали для меня наибольшей притягательной силой в этой невероятной женщине. Мне кажется, что они каким-то образом соответствовали моим собственным слабым местам, но только мне повезло, и я обрел способность латать дыры куда надежнее, чем она. Я знал: постель для нас была лишь малой частью той буйной оргии сливающихся душ, которая, что ни день, пускала свежие побеги и все сильнее оплетала нас зеленью. Как мы говорили! За вечером вечер в неряшливых маленьких кафе на берегу моря (тщетно пытаясь скрыть от Нессима и прочих общих знакомых нашу преступную привязанность). Мы говорили, и мало-помалу сближались наши тела, пока не соединялись руки, пока мы не приходили в себя – только что не друг у друга в объятиях: и причиной тому была не просто чувственность, привычная болезнь всех влюбленных, – так нам было легче, как будто телесная близость могла хоть немного смягчить боль от погружения в недра души.
Конечно же, это самая что ни есть несчастная форма любви из всех, на какие только способно человеческое существо, – отягощенная чем-то столь же изматывающим душу, как пресловутая грусть после соития: примешанная к каждой ласке, мутноватая взвесь в чистой воде поцелуя. «Легко писать о поцелуях, – говорит Арноти, – но там, где страсть должна была бы дать нам на выбор сотни ключей и отмычек, там она лишь притупляла нашу мысль. Она не отворяла окон свету. У нее было чем поживиться и помимо того». И в самом деле, только в постели с ней я начал по-настоящему понимать, что он имел в виду, когда писал о Проклятии – «то изнурительное чувство, будто лежишь рядом с прекрасной мраморной статуей, неспособной ответить на ласку обнимающей ее человеческой плоти. Есть что-то утомительное и извращенное в любви, способной любить столь искусно и в то же время – так мелко».
Вот спальня в бронзовом сумеречном свете, в зеленой тибетской урне тлеет вайда, пропитывая комнату запахом роз. Возле кровати мучительный запах ее пудры, тяжело повисший под балдахином. Туалетный столик, закупоренные баночки кремов и притираний. Над кроватью – Птолемеева Вселенная! Настоящий пергамент и стильная тяжелая рамка: сделано ей на заказ. Эта гравюра навечно останется висеть над кроватью, над иконами в кожаных окладах, над философами в боевом строю. Кант в ночном колпаке ощупью поднимается по лестнице. Юпитер Громовержец. Есть некая выморочность в сей шеренге великих – в ряды которых был допущен и Персуорден. Видны по крайней мере четыре из его романов, хотя кто знает, может быть, они ненароком попали сюда сегодня утром (мы обедаем все вместе), не знаю. Жюстин в кругу философов – как больной среди лекарств: пустые склянки, ампулы и шприцы. «Поцелуйте ее, – это снова Арноти, – и можете не сомневаться, глаз она не закроет, напротив, они раскроются шире, медленно наполняясь сомнением и сумасшествием. Бессонница рассудка, бесстрастно изучающего каждый плод плоти, – паника, когда касается кожи холодный металл. Ночью мозг ее тикает, как дешевый будильник».
На задней стенке висит пустоголовый божок с электрической лампочкой внутри, и для этого топорного ментора есть у Жюстин свое особое действо. Представьте факел, втиснутый скелету в горло, чтоб осветить желтоватый свод черепа и возжечь слепое пламя в задумчивых впадинах глазниц. Бьются в висках пойманные в ловушку тени… Когда отключают электричество, в это странное бра вставляется огарок свечи: тогда Жюстин встает, обнаженная, на цыпочки, чтобы достать горящей спичкой до глазницы Бога. И вот проявляется контрастное фото – бороздки на нижней челюсти, высокие залысины на лбу, тонкая тростинка переносицы. Она не может спать, если сны ее не досматривает сей таинственный гость издалека. Прямо под ним лежат игрушки, их мало, и они дешевые – целлулоидная кукла, морячок, – я никогда о них ее не спрашивал, не хватало смелости. Именно для этого идола сочиняются ее самые блестящие диалоги. Очень может статься, звучит голос Жюстин, что, когда ты говоришь во сне, тебе сочувственно внимает такая вот мудрая маска, – в которой она постепенно привыкла видеть то, что называет своим Благородным Я. И добавляет, опасливо улыбаясь: «Оно ведь и на самом деле есть, сам знаешь».
Я смотрю на нее, говорю с ней и вижу перед собой страницы Арноти. «Лицо, иссушенное изнутри пламенем страхов. В полной темноте – я давно уже сплю – она просыпается и перекатывает в голове какую-нибудь брошенную мною походя фразу о нас с ней. Я просыпаюсь и застаю ее страшно занятой, сосредоточенной; она сидит у зеркала голая, курит сигарету и выстукивает босой ступней о дорогой ковер». Странно, но, когда я читаю его, я всегда вижу Жюстин только в этой спальне – она ведь не могла бывать здесь, пока не поселилась у Нессима. Только здесь я могу представить себе – ее – в жутких постельных сценах, описанных у него. «Нет боли, сравнимой с мукой любить женщину, чье тело отвечает каждому твоему движению, но чье истинное “я” для тебя недоступно – она просто не знает, где его искать». Как часто, лежа с нею рядом, я размышлял над этими словами, которые для обычного читателя могли остаться незамеченными в общем ритме приливов и отливов подобных же идей в Moeurs.
Она не ускользает от поцелуев в сон – в дверь вертограда заключенного, – как Мелисса. В теплом бронзовом свете ее бледная кожа становится еще бледнее – меркнет свет, и красные съедобные цветы расцветают на ее щеках и не дают свету окончательно уйти. Она откинет платье и скатает по ноге чулок, чтобы показать темный шрам над коленкой, между двумя бороздками от подвязки. И как доверить примитивной материи слова то, что я почувствовал, увидев этот шрам, – словно персонаж, выпавший из книги, – я ведь знаю, откуда он. В зеркале – черноволосая головка, – теперь она моложе и красивее оригинала, она пережила оригинал – остаточное отражение молодой Жюстин; словно обызвествленный отпечаток папоротника в меле: уже утраченная, как ей кажется, юность.
Нет, невозможно поверить, она просто не могла полноценно существовать ни в какой другой комнате; и идолу не висеть в другом месте, в иной обстановке. Да разве отрекусь я от виденного мной: она поднимается по высокой лестнице, пересекает галерею – безделушки и папоротники в кадках и – открывает маленькую дверь в самую запретную из комнат. Фатима, черная горничная-эфиопка, следует за ней. Раз за разом Жюстин опускается на кровать и вытягивает перед собою руки с унизанными перстнями пальцами, и, как будто в мягком полусне, негритянка снимает за кольцом кольцо с ее длинных пальцев и опускает в маленькую, обитающую на туалетном столике каскетку. В тот вечер, когда мы, Персуорден и я, обедали с ней, она пригласила нас вернуться к ней домой. Мы обошли огромные холодные приемные покои, и тут Жюстин внезапно развернулась и повела нас наверх, в поисках нужной обстановки, способной заставить моего приятеля – она его боялась и восхищалась им – расслабиться.
Персуорден был решительно невыносим весь вечер – что ж, на него время от времени наезжало. Он целеустремленно надирался, и ничто, кроме крепких напитков, не способно было привлечь его внимание. Маленький ритуал с Фатимой, казалось, избавил Жюстин от всякой стесненности; она обрела свободу быть естественной, ходить по дому с «характерным дерзким выражением лица, как будто в легкой истерике, способная выругать платье, зацепившееся за дверцу буфета», или остановиться перед огромным, в форме меча, зеркалом, чтобы бросить себе в лицо пару слов. Она рассказала нам о маске, добавив печально: «Я знаю, это отдает дешевкой и театром: когда я ложусь спать, я поворачиваюсь к стене и говорю с маской. Я прощаю себе свои грехи, как прощаю согрешивших против меня. Иногда я психую и стучу кулаком в стену; когда вспоминаю некоторые глупости – они ничего не значат для посторонних, да и для бога – если бог есть. Я говорю с кем-то, кто, как мне кажется, живет в зеленом и тихом месте, как в 23-м Псалме [68 - В православной традиции – 22-й Псалом («Господь пасет меня и ни в чем не даст мне нуждаться / на месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня…»).]». Она подошла, положила мне голову на плечо и обняла меня: «Вот потому-то я и прошу тебя так часто: будь со мной чуть-чуть нежнее. Я строила башню, и камень дал трещину. Мне хочется, чтобы меня тихо гладили и говорили ласковые слова, ты же делаешь это для Мелиссы; я знаю, ты любишь ее, не меня. Разве можно меня любить?»
Персуорден, как мне показалось, был застигнут врасплох естественностью и очарованием этих слов – он отошел в дальний угол комнаты и уставился на книжные полки. Увидев собственные книги, он сперва побледнел, потом покраснел, хотя я так и не понял – от стыда или от злости. Он обернулся к нам, хотел что-то сказать, но передумал. Он повернулся еще раз, с видом виноватым и раздосадованным, чтобы снова очутиться лицом к лицу с непристойной книжной полкой. Жюстин сказала: «Если вы не сочтете меня бестактной, мне бы очень хотелось попросить вас надписать для меня одну из них», – но он не ответил. Он стоял абсолютно неподвижно, уставившись на полку, со стаканом в руке. Потом развернулся на пятках, и вдруг оказалось, что он совершенно пьян; он произнес каким-то звенящим голосом: «Современный роман! Куча дерьма, и навалили ее негодяи в тех самых местах, где грешили!» Он тихо завалился на бок, аккуратно поставив в падении стакан на пол, и немедленно погрузился в глубокий сон.
Засим последовавший диалог состоялся уже над бездыханным телом. Мне казалось – он спит, на самом же деле он притворялся, ибо некоторое время спустя кое-что из сказанного тогда Жюстин обернулось злой сатирической новеллой, немало почему-то позабавившей саму Жюстин, хотя меня она неприятно задела. Он списал с натуры ее черные глаза, полные непролитых слез, – она говорит (сидя у зеркала, расчесывая волосы, а волосы похрустывают под гребнем и шепчут исступленно – ее голосом): «Когда я встретила Нессима в первый раз и поняла, что влюбляюсь в него, я решила спасти нас обоих. Я нарочно завела себе любовника – одного шведа, этакого скучного скота – в надежде причинить ему, Нессиму, конечно, боль и заставить его погасить в себе всякое ко мне чувство. Шведская жена шведа бросила, и я ему тогда сказала (я на все была готова, лишь бы он не распускал сопли): “Расскажи, как она себя ведет, а я тебе ее сыграю. Когда темно, мы все просто мясо на ощупь, какого бы цвета ни были волосы, как бы ни пахла кожа. Ну давай, рассказывай, я тебе обещаю улыбку невесты – и упаду в твои объятия горою шелка”. И все это время я повторяла про себя снова и снова: “Нессим, Нессим”».
Я как раз вспомнил, весьма кстати, одно замечание Персуордена, оно, пожалуй, могло бы подвести черту под тем, как он видел наших общих друзей. «Александрия! – произнес он (это было во время одной из наших долгих прогулок при луне). – Евреи с их трактирной мистикой! Что, и вы хотите все это выразить словами? Это место, этих людей?» Может статься, в тот самый момент он и замышлял свою злую новеллу, так и эдак примеряясь к нам всем. «Есть сходство между Жюстин и ее городом – у них обеих сильный запах при полном отсутствии какого бы то ни было настоящего характера».
Я припоминаю, как мы бродили вместе той последней (навсегда) весной, пьяные мягким оцепенением, разлитым в воздухе города, тихими пассами воды и лунного света – они полировали город, будто большую шкатулку. Эфирный сомнамбулизм одиноких деревьев на темных площадях и длинные пыльные улицы, протянутые из полуночи в полночь, голубые, как кислород, только еще более голубые. Проплывающие мимо лица становятся все отрешеннее, как драгоценные камни, – булочник замешивает в чане фундамент завтрашней жизни, любовник спешит вернуться домой, гвоздем вколоченный в серебряный шлем смятения, шестифутовые тумбы киноафиш воруют мертвенное великолепие месяца, – а месяц – он брошен на нервы, словно тугой гнутый смычок.
Мы сворачиваем за угол, и мир становится сетью налитых серебром артерий, неровно обрезанной по краям тьмой. В здешнем дальнем закоулке Ком-эль-Дика нет в этот час ни души, и лишь назойливый бродячий полицейский слоняется по улицам, как виноватая мысль в мозговых извилинах города. Наши шаги вызванивают тротуар с мертвой мерностью метронома, двое мужчин, каждый в собственном времени и в собственном городе, отрешенных от мира, шагающих так, как ступали бы первопроходцы по мрачным каналам Луны. Персуорден говорит о книге, которую он всегда хотел написать, а еще – о той преграде, что возникает перед горожанином, стоит ему только встретить произведение искусства.
* * * * *
Сегодня, совершенно внезапно, прошел слепой весенний ливень, очистив воздух города от пыли, вернув ее земле, молотя по стеклянной крыше студии, где сидит Нессим над эскизами к портрету жены. Она позировала, сидя перед камином, с гитарой в руках, шея подчеркнута пятнистым шарфом; она поет, склонив голову. Отзвук ее голоса отдается в голове Нессима подобно магнитофонной записи землетрясения, запущенной наоборот. Невероятная траектория радуги над парками, где пальмы туго выгибаются назад; мифология желтогривых валов, атакующих Фарос. Ночью в город приходят новые звуки, протяжное гудение и резкие выкрики ветра, поначалу они настораживают, пока не начинаешь ощущать, как город превращается в корабль и отзывается скрипом и стонами старых шпангоутов на каждый удар непогоды.
Вот такую погоду и любит Скоби. Лежа в постели, он любовно дотрагивается до подзорной трубы и обращает мечтательный взор на голую стену из осыпающихся необожженных кирпичей, за которой – море.
Скоби подбирается к семидесяти и все еще боится умереть; один из его постоянных кошмаров – он просыпается однажды утром и видит мертвое тело капитан-лейтенанта Скоби. Так что каждое утро начинается для него с тяжкого испытания, когда водоносы вопят под окнами и будят его еще до восхода солнца. Целую минуту, по его собственным словам, он не решается открыть глаза. Старательно зажмурившись (из страха, что открой он их – и узрят они духа небесного или хор распевающих гимн херувимов), он тянется к стоящему у кровати поставцу и хватает трубку. Трубка всегда набита с вечера, и рядом лежит открытая коробка спичек. Первая же затяжка крепкого матросского курева возвращает ему и самообладание, и зрение. Он набирает полную грудь воздуха, благодарный за воскрешение из мертвых. Он улыбается. Он удовлетворенно оглядывается. Натягивая до самых ушей тяжелую овчину, что служит ему на ложе покрывалом, он исполняет свой маленький благодарственный пеан утру голосом, скрипучим, как станиоль: «Taisez-vous, petit babouin; laissez parler votre mеre» [66 - Помолчите, крошка-егоза, дайте вашей матери сказать (фр.).].
Его обвисшие, как у старого трубача, щеки розовеют от усилия. Критически оценив свое состояние, он приходит к выводу: у него неизбежная головная боль. Язык его шершав от вчерашнего бренди. Но, невзирая на все эти маленькие неудобства, перспектива еще одного дня жизни выглядит весомо. «Taisez-vous, petit babouin», – и так далее, с паузой, дабы отправить на место вставную челюсть. Он прикладывает сморщенную ладонь к грудной клетке, и звук работающего сердца доставляет ему тихую радость, ибо он поддерживает вялую циркуляцию в той самой венозной системе, все трудности которой (реальные или воображаемые – я так и не понял) можно с успехом преодолеть с помощью бренди в ежедневных и только что не смертельных дозах. Если вам посчастливится застать его еще в постели, он почти наверняка схватит вашу руку костлявой птичьей лапкой и предложит лично убедиться: «Силен как вол, а? Тикает что надо», – обычная его фраза, и бренди здесь не властен. Сделав над собой некоторое усилие, вы просунете руку за отворот его дешевой пижамы, чтобы ощутить смутное, тусклое, отдаленное биение жизни – сердце зародыша на седьмом месяце. С трогательной гордостью он застегнет пижаму и издаст нечто соответствующее его представлению о реве здорового животного. «Выпрыгиваю из постели, словно лев», – еще одна из его фраз. Вам не понять всей полноты очарования, свойственного этому человеку, пока вы не увидите воочию, как, согнутый ревматизмом едва не пополам, сей реликт ледниковой эры выбирается из-под бумажных приютских простыней. Лишь в самые жаркие месяцы года его кости оттаивают настолько, что он может достичь достойного прямостояния. Летними вечерами он гуляет в парке, и маленький его череп сверкает, подобно солнцу небольшого достоинства, вересковая трубка нацелена в зенит, челюсть скошена в жуткой гримасе, долженствующей означать почти неприличное здоровье.
Никакая городская мифология не может быть полноценной без своего Скоби, и Александрия многое потеряет, когда его иссушенное солнцем тело, завернутое в «Юнион Джек», будет в конце концов опущено в неглубокую могилку, что ждет его на римско-католическом кладбище возле трамвайной линии.
Скудной флотской пенсии едва хватает на то, чтобы платить за единственную густонаселенную тараканами комнату – он снимает ее в трущобах позади улицы Татвиг. Недостаток средств восполняет не менее скудное жалованье от египетского правительства, к жалованью прилагается гордый титул Бимбаши Полицейских Сил. Клеа написала с него прекрасный портрет, в полной полицейской форме, с красной феской на голове и с огромной мухобойкой толщиною в конский хвост, которая изящно лежит поперек его костлявых колен.
Клеа снабжает его табаком, а я – восхищением, собственным обществом и, по возможности, бренди. Мы ходим к нему по очереди – рукоплещем его физической мощи и не даем ему упасть, когда в порыве энтузиазма по поводу последней он слишком сильно ударяет себя в грудь. Происхождение его туманно, его прошлое, подобно прошлому настоящего мифологического персонажа, вписано в историю доброй дюжины частей света. А настоящее настолько богато воображаемым здоровьем, что желать ему в общем-то и нечего – кроме разве что случайных поездок в Каир во время Рамадана, когда его контора закрыта и когда, предположительно, всякого рода преступная деятельность впадает по случаю праздника в спячку.
Молодость безборода, то же и второе детство. Скоби ласково теребит остатки некогда пышной и ухоженной остроконечной бородки, но очень осторожно, едва касаясь, из боязни, что выдернет ее окончательно и останется совершенно беззащитным. Он цепляется за жизнь, как устрица, и каждый год намывает новое колечко, незаметное невооруженным глазом. Его тело словно усыхает, съеживается с каждой новой зимой, и скоро череп его будет не больше черепа младенца. Еще год-другой, и мы сможем затолкать его в банку и замариновать навечно. Морщины становятся все глубже. Без зубов его лицо напоминает морду старого шимпанзе; над худосочной бородкой – вишнево-красные щечки, ласково называемые в обиходе «порт» и «лево руля», излучают в любую погоду тихое теплое сияние.
Его тело многим обязано поставщикам запасных частей. В тысяча девятьсот десятом падение с бизани сместило его челюсть на два румба с запада на юго-запад и продавило фронтальный синус. Когда он говорит, его вставная челюсть ведет себя словно складная лестница, описывая внутри черепа судорожные спирали. Улыбка его непредсказуема и может возникнуть где угодно, как улыбка Чеширского Кота. В девяносто восьмом он строил глазки чужой жене (это он так говорит) и одного из них лишился. Предполагается, что никто, кроме Клеа, об этом не догадывается, но в данном случае замена была достаточно грубой. В состоянии покоя это не слишком бросается в глаза, но стоит ему только чуть-чуть оживиться, и разница между двумя глазами становится очевидной. Существует и небольшая проблема чисто технического свойства – его собственный глаз почти постоянно красен. В самый первый раз, когда он испытывал меня вольным пересказом «Вахтенный, что там в ночи?», стоя в углу комнаты с антикварным ночным горшком в руке, я обратил внимание, что правый его глаз движется чуть медленней, чем левый. Тогда он показался мне увеличенной копией стеклянного глаза орлиного чучела, угрюмо взирающего на мир из ниши в публичной библиотеке. Однако зимой именно вставной глаз совершенно непереносимо пульсирует, портит ему настроение и вводит во грех сквернословия – пока очередная рюмочка бренди не согреет его желудок.
Этот одноклеточный профиль я представляю себе выплывающим из дождя и тумана, ибо Скоби наделен странным свойством приносить с собой некоторое подобие английской погоды и нет для него большего счастья, чем сидеть зимой перед микроскопическим пламенем в камине и говорить. Память раз за разом пытается пустить в ход напрочь разлаженный механизм его несчастной головы, пока наконец не теряется окончательно – где-то в сумеречных глубинах. Я вижу за его спиной длинные серые валы Атлантики – они трудолюбиво и упорно смыкаются над его воспоминаниями, растирают их в водяную пыль, которая слепит ему глаза. Его рассказы о прошлом – серия коротких телеграмм – линия нарушена, погодные условия неблагоприятны для сеанса связи. В Доусоне десятеро пошли вверх по реке и замерзли насмерть. Зима обрушилась как молот и сразу отправила их в нокаут; виски, золото, смерть – это было похоже на новый крестовый поход в северные леса. В те же годы его брат упал с водопада в Уганде; во сне он видел крошечную фигурку, меньше мухи, падающую – и моментально расплющенную желтой лапой воды. Нет, это было позже, когда он уже смотрел через прицел карабина в самую черепушку какого-то бура. Он пытается вспомнить точно – когда это должно было случиться, роняя лысую полированную голову на руки, но снова вмешиваются серые валы бесконечных приливов и отливов, патрулирующие границу между ним и его памятью. Вот почему это слово пришло ко мне – намывает – вместе с образом старого пирата: его череп осязаемо обкатан, и только тончайший слой кожи отделяет его улыбку от улыбки занесенного песком скелета. Обратите внимание на эту черепную коробку, на отчетливые вмятины здесь и здесь; на хворостинки косточек под восковой кожей пальцев, на дряблое старческое сусло на месте икроножных мышц… И в самом деле, как заметила однажды Клеа, старина Скоби похож на какой-нибудь маленький древний мотор на колесах, чудом уцелевший с прошлого века, нечто умилительное и жалкое вроде первой Стивенсоновой «Ракеты».
Он живет в своем перекошенном чулане, как анахорет. «Анахорет!» – вот еще одно из его любимых словечек; обычно, произнося его, он подпирает щеку пальцем, и томно закатывающийся глаз сразу же выдает в нем тщательно скрываемую женственность. Весь маскарад – исключительно ради Клеа. В присутствии «прекрасной дамы» он считает себя обязанным принимать защитную окраску, которая слетает с него, как только за Клеа закроется дверь. Действительность несколько печальнее. «Я ведь лет сто был вожатым у скаутов, – поверяет он мне свою тайну sotto voce [67 - Вполголоса (ит.).], – в отрядах Хэкни. Это уже после того, как меня списали по инвалидности. Но мне нельзя было возвращаться в Англию, старина. Тяга была слишком сильна, вот что я тебе скажу. Каждую неделю я ждал, что увижу заголовок во “Всемирных известиях”: “Еще одна юная жертва грязной похоти вожатого”. В Хэкни-то все было в порядке. Мои мальчики словно родились в лесу – все умели. Истинные юные итонцы – это я их так называл. Вожатый, который был там до меня, получил двадцать лет. Этого достаточно, чтобы навести на Раздумья. Такие вещи заставляют шевелить мозгами. В общем, я как-то не прижился в Хэкни. Имей в виду, я, конечно, несколько поотстал от жизни, но я люблю, чтобы на душе у меня было спокойно – как раз в этом смысле. А в Англии сейчас человек уже не чувствует себя свободным, нет. Обрати внимание, они уже добрались до клириков, до уважаемых служителей церкви, и все такое. Я спать перестал. В конце концов уехал за границу, частным, знаешь, как его, губернером, вот – Тоби Маннеринг, отец у него член парламента, кстати; так вот, ему захотелось попутешествовать. Ему сказали – тогда нужен губернер. А на самом деле он хотел поступить во флот. Вот я и попал сюда. Я сразу понял, что жизнь здесь – что надо, без лишних хлопот. Сразу получил работу – в полиции нравов, у Нимрод-паши. Вот так, дорогой мой. И никаких жалоб, ты понимаешь? Обозревая с востока на запад эту плодородную дельту, что я вижу? Милю за милей ангельски маленьких черных попок».
Египетское правительство с той поистине донкихотской широтой, с которой Левант расточает деньги на любого иностранца, выказавшего хоть каплю внимания и благожелательности, предложило ему средства, вполне достаточные для того, чтоб прожить в Александрии. Говорят, что после его назначения в полицию нравов разврат приобрел такие угрожающие масштабы, что наверху сочли необходимым перевести его с повышением; однако сам он настаивает на том, что его перевод в заштатный отдел контрразведки был вполне заслуженным продвижением по служебной лестнице, – а у меня никогда не хватало смелости подшучивать над ним по этому поводу. Служба у него необременительная. Каждое утро он трудится пару часов в полуразвалившемся офисе в верхней части города, где блохи скачут по резным панелям его старомодного стола. После скромного ланча в «Лютеции» он, если фонды позволяют, покупает там же яблоко и бутылку бренди для вечерней трапезы. Бесконечные послеполуденные часы удушливого пекла проходят в легкой дреме, в перелистывании газет, одолженных у дружественного торговца-грека. (Когда он читает, у него на макушке бьется родничок.) Зрелость – это все.
Меблировка его маленькой комнаты выдает дух в высшей степени эклектический; те немногие предметы, что скрашивают жизнь анахорета, обладают выраженными свойствами характера, словно все вместе они и составляют личность своего владельца. Портрет, написанный Клеа, именно потому и оставляет такое ощущение полноты и завершенности, что вместо фона она любовно выписала весь набор его стариковских сокровищ. Маленькое уродливое распятие на стене за кроватью, например; прошло уже несколько лет с тех пор, как Скоби обратился к Святой Римской Церкви за утешением в старости и в тех изъянах характера, которые успели за это время стать его второй натурой. Поблизости висит небольшая литография – Мона Лиза, чья загадочная улыбка всегда напоминала Скоби о его собственной матери. (Что до меня, то эта знаменитая улыбка всегда казалась мне улыбкой женщины, только что за обедом отравившей собственного мужа.) Как бы то ни было, но и этот предмет каким-то образом встроился в процесс существования Скоби, войдя с ним в особые и весьма интимные отношения. Такое впечатление, что его Мона Лиза не имеет себе не то что равных, но даже подобных: этакий дезертир от Леонардо.
Далее, конечно же, следует старый поставец, который служит ему одновременно комодом, книжным шкафом и секретером. Клеа удостоила сей предмет мебели собственноручного ремонта, чего он, вне всяких сомнений, заслуживает, расписав его с микроскопической дотошностью. У него четыре яруса, и каждый окаймлен неширокой, но изящной полочкой. Скоби он стоил девять пенсов с фартингом на Юстон-роуд в 1911 году и с тех пор дважды объехал вместе с ним вокруг света. Скоби поможет вам насладиться лицезрением этого чуда безо всякого следа иронии или самодовольства. «Чудесная вещица, а?» – произнесет он ненавязчиво, складывая ветошку и вытирая пыль. Верхний ярус, объяснит он вам любовно, был предназначен для тостов, намазанных маслом; средний – для песочного печенья; нижние – для «двух сортов пирожного». В настоящее время, однако, поставец выполняет иные функции. На верхней полке лежат подзорная труба, компас и Библия; средний ярус предназначен для почты, каковая состоит из одинокого конверта с пенсией; на нижнем ярусе с непрошибаемой серьезностью расположился ночной горшок, именуемый не иначе как «фамильная ценность», а еще с ним связана какая-то таинственная история, которую он мне как-нибудь непременно расскажет.
Комната освещается единственной дохлой электрической лампочкой и выводком масляных коптилок, обитающих в нише; там же гнездится и глиняный кувшин, всегда наполненный прохладной питьевой водой. Одинокое незавешенное окошко слепо глядит на унылую облупленную глинобитную стену. Он лежит на кровати, и смутный чадный свет коптилок отражается в стекле компаса – он лежит на кровати за полночь, бренди пульсирует в его голове, и больше всего он напоминает мне доисторический свадебный торт, который только и ждет, чтобы кто-нибудь наклонился и задул все свечи разом.
Последняя его реплика перед сном, когда ты уже довел его без приключений до постели и заботливо подоткнул одеяло, – помимо вульгарного «Поцелуй меня, не бойся», сопровождающего кокетливо подставленную щечку, – более серьезна. «Скажи мне честно, – говорит он. – Я выгляжу на свои годы?»
Если честно, Скоби выглядит на чьи угодно годы; древнее, чем рождение трагедии, моложе, чем афинская смерть. Он начал жить в икринке, прилепившейся к ковчегу после того, как встретились на нем случайно и случились устрица с медведем; он вылупился раньше срока, когда киль ковчега душераздирающе заскрежетал о гребень Арарата. Скоби выпрыгнул прямо из чрева в инвалидной коляске на резиновом ходу, одетый в охотничью шляпу и красный фланелевый набрюшник. На цепких обезьяньих ножонках – самая блестящая в мире пара ботинок с резиновыми задниками. В деснице – ветхая фамильная Библия, на форзаце которой начертаны слова «Джошуа Сэмюэль Скоби 1870. Чти отца твоего и мать твою». К этим сокровищам прибавьте глаза как мертвые луны, недвусмысленный изгиб пиратского спинного хребта и поразительную осведомленность во всем, что касается галер. Нет, вовсе не кровь текла в жилах Скоби, но зеленая морская вода, из самых глубин океанских. Его походка – плавный, медлительно-мучительный притоп святого, разгуливающего по Галилее. Его речь – соленый морской жаргон, выщелоченный в водах пяти океанов, – антикварная лавка салонных побасенок, ощетинившихся секстантами, астролябиями, румбами и изобарами. Когда он поет, что случается довольно часто, поет он голосом Старого Морехода. Он, подобно святому заступнику, разбросал по всему миру маленькие кусочки собственной плоти – Занзибар, Коломбо, Тоголенд, Ву Фу, – как молочные зубы, как осенние листья, роняет он их от века, старые оленьи рога, запонки для манжет, зубы, волосы… И вот отхлынувшие с отливом воды оставили его на высоком и сухом берегу над быстрыми водоворотами времени – Джошуа, несостоятельный должник погоды, островитянин, анахорет…
* * * * *
Клеа, нежная, милая, загадочная Клеа – лучший друг Скоби и уделяет старому пирату изрядную долю свободного времени; она покидает свою сотканную из паутинок студию, чтобы заваривать для него чай и внимать нескончаемым монологам «за жисть», давно уже канувшую в Лету, утратив жизненные соки, чтобы остаться и бродить невнятным эхом в лабиринтах памяти.
Ну, а сама Клеа; стоит ли винить одно мое воображение в том, что написать ее портрет кажется делом почти безнадежным? Я часто думаю о ней – и при этом замечаю, что вся моя писанина только мешает мне видеть ее такой, какая она есть. Может быть, вот в чем трудность: между ее привычками и настоящим ее характером вроде бы не существует прямой связи. Если бы я, не дай бог, принялся описывать внешние формы ее жизни – столь обезоруживающе простые, изящные и самодостаточные, – возникла бы реальная опасность выставить ее либо монашенкой, променявшей весь спектр человеческих страстей на тягостный поиск собственного внутреннего «я», либо разочарованной девственницей – если понимать последнее слово как врожденный талант либо как профессию, – отринувшей мир по причине общей психической неуравновешенности или в результате некой непреодолимой детской душевной травмы.
Все связанное с ней окрашено в теплые золотисто-медовые тона; светлая, решительной рукой подрезанная челка, длинные волосы на затылке, заколотые в простой узел под нежным пушком шеи. Чистые линии лица, лица младшей музы с улыбчивыми серо-зелеными глазами. Спокойные, точные в движениях руки, ловкие и красивые, – доходит до тебя однажды, когда ты застаешь ее за делом, держит ли она кисть или вправляет сломанную лапку воробушка, зажав ее между игрушечными лубками из половинок спичек.
Надо бы измыслить что-нибудь вроде: еще теплой влили ее в тело юной грации; имеется в виду: в тело, от рождения лишенное инстинктов и страстей.
Она красива; у нее достаточно денег, чтобы обеспечить себе полную независимость; она талантлива – недурное приданое, подающее завистливым и отчаявшимся повод считать, что ей просто незаслуженно улыбнулось счастье. Но вот вопрос, недоумевают и те, кто завидует ей, и те, кого она просто интересует: почему она отказывает себе в замужестве?
Она живет достаточно скромно, хотя и не бедно, в мансарде, в удобной студии, где почти нет мебели, кроме железной кровати да нескольких потрепанных шезлонгов, которые летом она без посторонней помощи перевозит в свою маленькую купальню в Сиди Бишре. Ее единственная роскошь – выложенная блестящей плиткой ванная, в углу которой она соорудила крохотную кухонную плиту, дабы обеспечить себя плацдармом для кулинарных изысканий, буде ей придет в голову что-либо подобное; еще там есть книжный шкаф, чьи до предела забитые полки недвусмысленно говорят о том, что ему ни в чем не бывает отказа.
Она живет без любовников и без семейных связей, без врагов и без домашних животных, целомудренно сосредоточившись на живописи, – к живописи она относится всерьез, но не слишком. В работе ей тоже сопутствует удача: ее дерзкие и вместе с тем элегантные полотна лучатся мягким юмором. Они преисполнены чувства игры – как любимые дети.
Да; перечитал написанное и споткнулся о фразу достаточно нелепую – будто она «отказывает себе в замужестве». Представляю, как бы она взбеленилась, услышав такое: я помню, она сказала мне как-то раз: «Если хочешь, чтобы мы были друзьями, ты не должен думать или говорить, что я чем-то себя в жизни обделила. Одиночество ничуть не делает меня беднее, да я и не смогла бы жить иначе. Я хочу, чтобы ты знал: у меня все в порядке – и не считал меня скопищем скрытых комплексов. Что же касается любви – cher ami, – я уже говорила тебе, что любовь интересовала меня весьма недолгое время – а мужская любовь и того меньше; у меня было… у меня была всего одна связь, которая меня по-настоящему задела, и то была связь с женщиной. И я все еще живу счастьем этой чудесным образом состоявшейся связи: любая физическая замена показалась бы мне сейчас ужасно пустой и вульгарной. Только не придумывай себе, Христа ради, будто я страдаю какой-нибудь модной разновидностью любовного сплина. Отнюдь. Весьма забавно, но я чувствую, что наша любовь только выиграла оттого, что мы расстались, физическое воплощение словно мешало ей расти в полную силу, раскрыться по-настоящему. Похожа я на страдалицу, а?» Она рассмеялась.
Мы шли, я прекрасно помню, вдоль по вылизанной дождем Корниш, осенью, под медленно темнеющим полумесяцем облачного неба; она говорила, а потом порывисто взяла меня под руку и улыбнулась мне так нежно, что случись нам навстречу прохожий, он бы, вне всяких сомнений, принял нас за влюбленную парочку.
«А еще, – продолжала она, – есть такая вещь: может, ты бы и сам скоро до этого додумался. Есть в любви что-то – не скажу убогое, потому что убогость эта от нас же самих; но мы чего-то главного в ней не поняли. Ну, смотри, сейчас ты любишь Жюстин, и это вовсе не новая для тебя любовь к новому человеку, это все та же твоя любовь к Мелиссе пытается пробиться сквозь Жюстин. Любовь – жутко стабильная штука, и каждому из нас достается по кусочку, не больше и не меньше, своего рода рацион. Она способна принимать бесконечно разнообразные формы и связать тебя с бессчетным числом людей. Но рацион есть рацион: она затаскается, сносится, потеряет товарный вид, так и не дождавшись истинного своего предмета. Потому что пункт ее назначения расположен где-то в самых труднодоступных дебрях души, и там она должна осознать себя как любовь к самому себе – та самая почва, на которой мы строим наше так называемое душевное равновесие, здоровье души. Я вовсе не об эгоизме, не о нарциссизме говорю».
Именно такие разговоры – разговоры, забредавшие порой далеко за полночь, и сделали нас с Клеа друзьями, научили меня доверять ее силе, выплавленной из рефлексии и самоанализа. Дружба, завязавшаяся тогда, позволяла нам делить на двоих наши тайные заботы и помыслы, пробовать их друг на друге, как на оселке, – так свободно и искренне, что, будь мы связаны узами чуть более прочными, воздушный замок рассыпался бы; ведь узы эти, как ни парадоксально, как ни противится тому настойчивый голос чисто человеческих иллюзий, разделяют куда сильнее, чем соединяют. «Ты прав, – помню, сказала она как-то раз, когда я поделился с ней этим странным наблюдением. – В каком-то смысле я ближе тебе, чем Мелисса, ближе, чем Жюстин. Видишь ли, Мелиссина любовь чересчур доверчива: это ослепляет. А Жюстин с ее трусливой мономанией просто не позволит тебе не быть похожим на некую демоническую личность, ей самой подобную. Ну-ну, не играй в оскорбленное достоинство, пожалуйста. В том, что я говорю, нет ни капли издевки».
Да, помимо собственной живописи Клеа, я просто обязан упомянуть и о том, что она работает на Бальтазара. Она у него – клинический художник. В силу некоторых обстоятельств друга моего не удовлетворяет обычный способ регистрации медицинских аномалий посредством моментальной фотосъемки. Он придерживается им самим, очевидно, выдуманной теории, согласно которой пигментация кожи на разных стадиях его излюбленных недугов сугубо значима для врача. Так, например, у Клеа есть целая серия, посвященная разрушительному воздействию сифилиса, на всех его стадиях – большие цветные рисунки, необычайно ясно и с любовью выполненные. В каком-то смысле это настоящие произведения искусства; чисто утилитарный предмет освободил живописца ото всяких порывов к самовыражению; она занялась простой регистрацией; несчастные человеческие члены, истерзанные пыткой и закосневшие во мраке, – Бальтазар отслеживает их изо дня в день в длинной унылой очереди в приемной палате (так человек выбирает из бочки сгнившие яблоки) – обладают всем необходимым для жесткой портретной графики: животы, как будто изрезанные автогеном, с гроздями наплавленных бусин металла, лица со сморщенной кожей, шелушащейся, как штукатурка, карциномы, рвущие резиновые пленки, что сдерживают их… Помню, как в первый раз я увидел ее за работой; я забежал к Бальтазару в клинику за какой-то бредовой справкой, срочно необходимой мне, чтобы отвязаться от администрации школы, где я тогда работал. Проходя мимо стеклянных дверей хирургического отделения, я случайно увидел в унылом больничном саду под засохшим персиковым деревом – Клеа, в то время я еще не был с ней знаком. На ней был белый больничный халат, краски свои она аккуратнейшим образом разложила под рукой на мраморном пеньке от колонны. Перед ней на плетеном стуле в странной позе сидела девушка из феллахов, большегрудая, с лицом сфинкса; юбку она задрала выше пояса, дабы явить миру некий избранный предмет изысканий моего ученого друга. Был чудесный весенний день, и даже на таком расстоянии ветер доносил шорох торопливых шагов моря. Ловкие невинные пальцы Клеа сновали взад-вперед по белой поверхности бумаги, уверенно, проворно, с мудрой поспешностью. Лицо ее выражало сосредоточенность и увлеченность – радость специалиста, кладущего мазок за мазком в цветовой гамме некой редкой разновидности тюльпана.
Когда Мелисса умирала, она просила именно Клеа сидеть с ней; именно Клеа ночи напролет развлекала ее рассказами и ухаживала за ней. Что касается Скоби – у меня бы просто недостало смелости сказать, что существует какая-то скрытая связь между его и ее извращенностью, глубокая, как подводный кабель, связывающий два континента, – это было бы несправедливо по отношению к обоим. Ясное дело, старина Скоби ни о чем подобном и не догадывается; она же, со своей стороны, с присущим ей тонким чувством такта, никогда не даст ему почувствовать, насколько нелепы все эти истории о его любовных подвигах. Они прекрасно подходят друг другу и совершенно счастливы теми отношениями, которые между ними установились как-то сами собой: отец и дочь. Один-единственный раз я слышал, как Скоби подшучивает над ней по поводу того, что она никак не выйдет замуж, – и милое лицо Клеа стало вдруг круглым и плоским, как у школьницы, и откуда-то из глубин напускной серьезности, мигом загнавшей в тень проблеск чертовщинки в серых ее глазах, она изрекла в ответ, что просто ждет, когда же ей наконец повстречается мужчина, который был бы ее достоин; на что Скоби отреагировал глубоким медленным кивком и согласился, что это весьма разумная линия поведения.
Именно в ее студии я как-то раз выудил на свет Божий из хаоса пыльных холстов, грудой сваленных в углу, голову Жюстин – полупрофиль, выполненный мелким импрессионистическим мазком и явно незаконченный. Клеа на секунду задержала дыхание и уставилась на него сострадательным взглядом матери, которая знает, что ребенок у нее – урод, но никогда не признает этого перед посторонними. «Это такая древность», – сказала она; и после долгих раздумий подарила его мне на день рождения. Теперь он стоит на старой сводчатой каминной полке, напоминая мне о захватывающей дух, о лезвийно острой красоте этой темной и любимой женской головки. Губы только что выпустили сигарету, и сейчас она скажет что-то, уже обретшее в ней форму, но едва успевшее подняться к ее глазам изнутри. Губы приоткрылись, готовые облечь мысль словом.
* * * * *
Мания самооправдания в равной мере присуща и тем, чья совесть нечиста, и тем, кто ищет философского обоснования своим поступкам: и в том, и в другом случае это приводит к самым странным формам мысли. Идея не спонтанна, ее выносят на поверхность подводные токи воли. У Жюстин подобная мания вызвала к жизни непрерывный поток идей, раздумий о поступках прошлых и настоящих; текучая эта субстанция давила на нее изнутри, словно мощное течение на стены дамбы. Слишком явной была маниакальная изощренность ее самокопания – как же можно было доверять результатам раскопок, тем более что с каждым новым заходом ее мысль текла по новому руслу, неспособная оставаться в сколь-нибудь привычных берегах. Теории о себе самой создавались и разрушались, она роняла их, бессчетные, лепесток за лепестком. «Не кажется ли тебе, что любовь состоит из одних парадоксов?» – спросила она однажды у Арноти. Едва ли не тот же самый вопрос, помню, задала она и мне, и густой ее темный голос наделил его оттенком ласки – и злого умысла. «Представь себе на минуту, что я вдруг скажу тебе: я позволила себе с тобой сблизиться, только чтобы спасти саму себя от опасности и бесчестья – от опасности влюбиться в тебя по уши? Я спасала Нессима каждым подаренным тебе поцелуем». А теперь попробуйте отыскать здесь мотив для той, хотя бы, невероятной сцены на пляже. Ни минуты без сомненья, ни минуты без сомненья. В другой раз она выбрала иной угол зрения, и вышло, пожалуй, не менее правдоподобно: «Мораль, это – а что такое, собственно, мораль? Не были же мы с тобой просто-напросто обжорами, как ты думаешь? А уж этот наш роман сполна оплатил все, что нам наобещал, – по крайней мере мою долю. Вот мы встретились, и случилось самое худшее с тем самым лучшим, что у нас есть, – с твоей женщиной, с моим мужчиной. Ну, пожалуйста, не смейся надо мной!»
Я же оставался лишь одурманенным и безмолвным созерцателем невероятных горизонтов, проблескивающих сквозь ее слова; и напуганным – так непривычно и непросто казалось обсуждать испытанное нами в подобной похоронной терминологии. По временам я, как и Арноти в подобных же случаях, доходил окончательно и кричал: «Бога ради, остановись ты наконец, выберись из этой проклятой мании быть несчастной – или мы и в самом деле плохо кончим! Ты высосешь всю кровь из наших судеб прежде, чем мы успеем попробовать их прожить». Конечно же, я отдавал себе отчет в полной бессмысленности подобных призывов. Есть в этом мире люди, рожденные для самоуничтожения, и любые разумные доводы здесь бессильны. Что до меня, то Жюстин всегда напоминала мне сомнамбулу, которую застигли ступающей по скользким перилам высокой башни; любая попытка пробудить ее криком может привести к несчастью. Оставалось лишь молча идти за ней следом в надежде постепенно увести ее от черных провалов, смутно маячивших по сторонам.
Однако вот что странно: именно эти недостатки характера – ошибки души – и обладали для меня наибольшей притягательной силой в этой невероятной женщине. Мне кажется, что они каким-то образом соответствовали моим собственным слабым местам, но только мне повезло, и я обрел способность латать дыры куда надежнее, чем она. Я знал: постель для нас была лишь малой частью той буйной оргии сливающихся душ, которая, что ни день, пускала свежие побеги и все сильнее оплетала нас зеленью. Как мы говорили! За вечером вечер в неряшливых маленьких кафе на берегу моря (тщетно пытаясь скрыть от Нессима и прочих общих знакомых нашу преступную привязанность). Мы говорили, и мало-помалу сближались наши тела, пока не соединялись руки, пока мы не приходили в себя – только что не друг у друга в объятиях: и причиной тому была не просто чувственность, привычная болезнь всех влюбленных, – так нам было легче, как будто телесная близость могла хоть немного смягчить боль от погружения в недра души.
Конечно же, это самая что ни есть несчастная форма любви из всех, на какие только способно человеческое существо, – отягощенная чем-то столь же изматывающим душу, как пресловутая грусть после соития: примешанная к каждой ласке, мутноватая взвесь в чистой воде поцелуя. «Легко писать о поцелуях, – говорит Арноти, – но там, где страсть должна была бы дать нам на выбор сотни ключей и отмычек, там она лишь притупляла нашу мысль. Она не отворяла окон свету. У нее было чем поживиться и помимо того». И в самом деле, только в постели с ней я начал по-настоящему понимать, что он имел в виду, когда писал о Проклятии – «то изнурительное чувство, будто лежишь рядом с прекрасной мраморной статуей, неспособной ответить на ласку обнимающей ее человеческой плоти. Есть что-то утомительное и извращенное в любви, способной любить столь искусно и в то же время – так мелко».
Вот спальня в бронзовом сумеречном свете, в зеленой тибетской урне тлеет вайда, пропитывая комнату запахом роз. Возле кровати мучительный запах ее пудры, тяжело повисший под балдахином. Туалетный столик, закупоренные баночки кремов и притираний. Над кроватью – Птолемеева Вселенная! Настоящий пергамент и стильная тяжелая рамка: сделано ей на заказ. Эта гравюра навечно останется висеть над кроватью, над иконами в кожаных окладах, над философами в боевом строю. Кант в ночном колпаке ощупью поднимается по лестнице. Юпитер Громовержец. Есть некая выморочность в сей шеренге великих – в ряды которых был допущен и Персуорден. Видны по крайней мере четыре из его романов, хотя кто знает, может быть, они ненароком попали сюда сегодня утром (мы обедаем все вместе), не знаю. Жюстин в кругу философов – как больной среди лекарств: пустые склянки, ампулы и шприцы. «Поцелуйте ее, – это снова Арноти, – и можете не сомневаться, глаз она не закроет, напротив, они раскроются шире, медленно наполняясь сомнением и сумасшествием. Бессонница рассудка, бесстрастно изучающего каждый плод плоти, – паника, когда касается кожи холодный металл. Ночью мозг ее тикает, как дешевый будильник».
На задней стенке висит пустоголовый божок с электрической лампочкой внутри, и для этого топорного ментора есть у Жюстин свое особое действо. Представьте факел, втиснутый скелету в горло, чтоб осветить желтоватый свод черепа и возжечь слепое пламя в задумчивых впадинах глазниц. Бьются в висках пойманные в ловушку тени… Когда отключают электричество, в это странное бра вставляется огарок свечи: тогда Жюстин встает, обнаженная, на цыпочки, чтобы достать горящей спичкой до глазницы Бога. И вот проявляется контрастное фото – бороздки на нижней челюсти, высокие залысины на лбу, тонкая тростинка переносицы. Она не может спать, если сны ее не досматривает сей таинственный гость издалека. Прямо под ним лежат игрушки, их мало, и они дешевые – целлулоидная кукла, морячок, – я никогда о них ее не спрашивал, не хватало смелости. Именно для этого идола сочиняются ее самые блестящие диалоги. Очень может статься, звучит голос Жюстин, что, когда ты говоришь во сне, тебе сочувственно внимает такая вот мудрая маска, – в которой она постепенно привыкла видеть то, что называет своим Благородным Я. И добавляет, опасливо улыбаясь: «Оно ведь и на самом деле есть, сам знаешь».
Я смотрю на нее, говорю с ней и вижу перед собой страницы Арноти. «Лицо, иссушенное изнутри пламенем страхов. В полной темноте – я давно уже сплю – она просыпается и перекатывает в голове какую-нибудь брошенную мною походя фразу о нас с ней. Я просыпаюсь и застаю ее страшно занятой, сосредоточенной; она сидит у зеркала голая, курит сигарету и выстукивает босой ступней о дорогой ковер». Странно, но, когда я читаю его, я всегда вижу Жюстин только в этой спальне – она ведь не могла бывать здесь, пока не поселилась у Нессима. Только здесь я могу представить себе – ее – в жутких постельных сценах, описанных у него. «Нет боли, сравнимой с мукой любить женщину, чье тело отвечает каждому твоему движению, но чье истинное “я” для тебя недоступно – она просто не знает, где его искать». Как часто, лежа с нею рядом, я размышлял над этими словами, которые для обычного читателя могли остаться незамеченными в общем ритме приливов и отливов подобных же идей в Moeurs.
Она не ускользает от поцелуев в сон – в дверь вертограда заключенного, – как Мелисса. В теплом бронзовом свете ее бледная кожа становится еще бледнее – меркнет свет, и красные съедобные цветы расцветают на ее щеках и не дают свету окончательно уйти. Она откинет платье и скатает по ноге чулок, чтобы показать темный шрам над коленкой, между двумя бороздками от подвязки. И как доверить примитивной материи слова то, что я почувствовал, увидев этот шрам, – словно персонаж, выпавший из книги, – я ведь знаю, откуда он. В зеркале – черноволосая головка, – теперь она моложе и красивее оригинала, она пережила оригинал – остаточное отражение молодой Жюстин; словно обызвествленный отпечаток папоротника в меле: уже утраченная, как ей кажется, юность.
Нет, невозможно поверить, она просто не могла полноценно существовать ни в какой другой комнате; и идолу не висеть в другом месте, в иной обстановке. Да разве отрекусь я от виденного мной: она поднимается по высокой лестнице, пересекает галерею – безделушки и папоротники в кадках и – открывает маленькую дверь в самую запретную из комнат. Фатима, черная горничная-эфиопка, следует за ней. Раз за разом Жюстин опускается на кровать и вытягивает перед собою руки с унизанными перстнями пальцами, и, как будто в мягком полусне, негритянка снимает за кольцом кольцо с ее длинных пальцев и опускает в маленькую, обитающую на туалетном столике каскетку. В тот вечер, когда мы, Персуорден и я, обедали с ней, она пригласила нас вернуться к ней домой. Мы обошли огромные холодные приемные покои, и тут Жюстин внезапно развернулась и повела нас наверх, в поисках нужной обстановки, способной заставить моего приятеля – она его боялась и восхищалась им – расслабиться.
Персуорден был решительно невыносим весь вечер – что ж, на него время от времени наезжало. Он целеустремленно надирался, и ничто, кроме крепких напитков, не способно было привлечь его внимание. Маленький ритуал с Фатимой, казалось, избавил Жюстин от всякой стесненности; она обрела свободу быть естественной, ходить по дому с «характерным дерзким выражением лица, как будто в легкой истерике, способная выругать платье, зацепившееся за дверцу буфета», или остановиться перед огромным, в форме меча, зеркалом, чтобы бросить себе в лицо пару слов. Она рассказала нам о маске, добавив печально: «Я знаю, это отдает дешевкой и театром: когда я ложусь спать, я поворачиваюсь к стене и говорю с маской. Я прощаю себе свои грехи, как прощаю согрешивших против меня. Иногда я психую и стучу кулаком в стену; когда вспоминаю некоторые глупости – они ничего не значат для посторонних, да и для бога – если бог есть. Я говорю с кем-то, кто, как мне кажется, живет в зеленом и тихом месте, как в 23-м Псалме [68 - В православной традиции – 22-й Псалом («Господь пасет меня и ни в чем не даст мне нуждаться / на месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня…»).]». Она подошла, положила мне голову на плечо и обняла меня: «Вот потому-то я и прошу тебя так часто: будь со мной чуть-чуть нежнее. Я строила башню, и камень дал трещину. Мне хочется, чтобы меня тихо гладили и говорили ласковые слова, ты же делаешь это для Мелиссы; я знаю, ты любишь ее, не меня. Разве можно меня любить?»
Персуорден, как мне показалось, был застигнут врасплох естественностью и очарованием этих слов – он отошел в дальний угол комнаты и уставился на книжные полки. Увидев собственные книги, он сперва побледнел, потом покраснел, хотя я так и не понял – от стыда или от злости. Он обернулся к нам, хотел что-то сказать, но передумал. Он повернулся еще раз, с видом виноватым и раздосадованным, чтобы снова очутиться лицом к лицу с непристойной книжной полкой. Жюстин сказала: «Если вы не сочтете меня бестактной, мне бы очень хотелось попросить вас надписать для меня одну из них», – но он не ответил. Он стоял абсолютно неподвижно, уставившись на полку, со стаканом в руке. Потом развернулся на пятках, и вдруг оказалось, что он совершенно пьян; он произнес каким-то звенящим голосом: «Современный роман! Куча дерьма, и навалили ее негодяи в тех самых местах, где грешили!» Он тихо завалился на бок, аккуратно поставив в падении стакан на пол, и немедленно погрузился в глубокий сон.
Засим последовавший диалог состоялся уже над бездыханным телом. Мне казалось – он спит, на самом же деле он притворялся, ибо некоторое время спустя кое-что из сказанного тогда Жюстин обернулось злой сатирической новеллой, немало почему-то позабавившей саму Жюстин, хотя меня она неприятно задела. Он списал с натуры ее черные глаза, полные непролитых слез, – она говорит (сидя у зеркала, расчесывая волосы, а волосы похрустывают под гребнем и шепчут исступленно – ее голосом): «Когда я встретила Нессима в первый раз и поняла, что влюбляюсь в него, я решила спасти нас обоих. Я нарочно завела себе любовника – одного шведа, этакого скучного скота – в надежде причинить ему, Нессиму, конечно, боль и заставить его погасить в себе всякое ко мне чувство. Шведская жена шведа бросила, и я ему тогда сказала (я на все была готова, лишь бы он не распускал сопли): “Расскажи, как она себя ведет, а я тебе ее сыграю. Когда темно, мы все просто мясо на ощупь, какого бы цвета ни были волосы, как бы ни пахла кожа. Ну давай, рассказывай, я тебе обещаю улыбку невесты – и упаду в твои объятия горою шелка”. И все это время я повторяла про себя снова и снова: “Нессим, Нессим”».
Я как раз вспомнил, весьма кстати, одно замечание Персуордена, оно, пожалуй, могло бы подвести черту под тем, как он видел наших общих друзей. «Александрия! – произнес он (это было во время одной из наших долгих прогулок при луне). – Евреи с их трактирной мистикой! Что, и вы хотите все это выразить словами? Это место, этих людей?» Может статься, в тот самый момент он и замышлял свою злую новеллу, так и эдак примеряясь к нам всем. «Есть сходство между Жюстин и ее городом – у них обеих сильный запах при полном отсутствии какого бы то ни было настоящего характера».
Я припоминаю, как мы бродили вместе той последней (навсегда) весной, пьяные мягким оцепенением, разлитым в воздухе города, тихими пассами воды и лунного света – они полировали город, будто большую шкатулку. Эфирный сомнамбулизм одиноких деревьев на темных площадях и длинные пыльные улицы, протянутые из полуночи в полночь, голубые, как кислород, только еще более голубые. Проплывающие мимо лица становятся все отрешеннее, как драгоценные камни, – булочник замешивает в чане фундамент завтрашней жизни, любовник спешит вернуться домой, гвоздем вколоченный в серебряный шлем смятения, шестифутовые тумбы киноафиш воруют мертвенное великолепие месяца, – а месяц – он брошен на нервы, словно тугой гнутый смычок.
Мы сворачиваем за угол, и мир становится сетью налитых серебром артерий, неровно обрезанной по краям тьмой. В здешнем дальнем закоулке Ком-эль-Дика нет в этот час ни души, и лишь назойливый бродячий полицейский слоняется по улицам, как виноватая мысль в мозговых извилинах города. Наши шаги вызванивают тротуар с мертвой мерностью метронома, двое мужчин, каждый в собственном времени и в собственном городе, отрешенных от мира, шагающих так, как ступали бы первопроходцы по мрачным каналам Луны. Персуорден говорит о книге, которую он всегда хотел написать, а еще – о той преграде, что возникает перед горожанином, стоит ему только встретить произведение искусства.