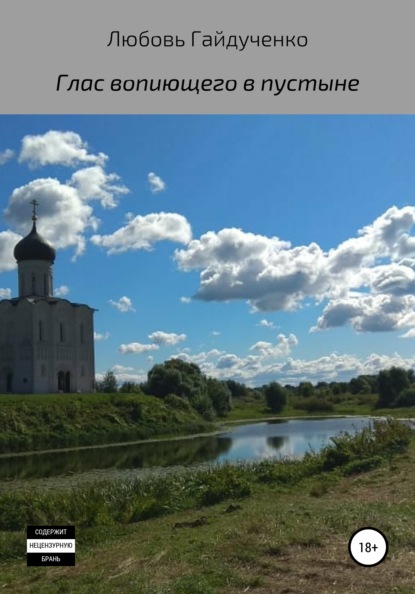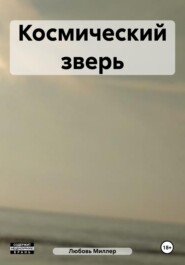По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Глас вопиющего в пустыне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глас вопиющего в пустыне
Любовь Гайдученко
Короткие повести, рассказы, фантастика, публицистические и философские эссе.
Содержит нецензурную брань.
Любовь Гайдученко
Глас вопиющего в пустыне
Сукина мать
Глава 1
В нашем роду существовали какие-то странности по поводу рождения и смертей. Я застала свою прабабушку, так вот она и родилась и умерла в год Змеи. Ее дочь, то есть, моя бабушка, родилась в год Дракона и умерла в мой год – в год Тигра. В свою очередь ее дочь, то есть моя мать, родилась в год Змеи и умерла в год Лошади (к тому же, в год Огненной Лошади). Я родилась в год Тигра (причем, в год Белого Тигра), а моя дочь – в год Лошади. У меня зародилось сильное подозрение, что я умру в год Дракона, а моя дочь – в год Змеи… Из этого рода только мы с ней дожили до Миллениума, проводили второе и встретили третье тысячелетие, и опять же, эти знаменательные годы пришлись на тех животных, которые были так характерны для нашей семьи – рубеж тысячелетий, 2000 год, был годом Дракона, а первый год нового тысячелетия пришелся на год Змеи. Я знала совершенно точно, что год Змеи – это самый страшный год из всего этого цикла, например, 1917 и 1941 – что такое эти годы для русских людей, пояснять не надо. А я умудрилась в самый первый день нового тысячелетия (по китайскому, разумеется, календарю – 24 января) сломать ногу.
После этого моя жизнь покатилась под откос в бешенном темпе. В следующем году я, как последняя идиотка, продаю свою шикарную (пусть и небольшую) квартирку в Петербурге, а моя дочь (для кого все это и было сделано – чтобы переселиться в Москву, где она обреталась) страшным образом предает меня. Об этом речь впереди. Затем следует целый год (или даже больше?) невыразимых мучений – вплоть до голода и холода, дальше умирает единственное существо, которое меня любило – мраморный дог Дэнди, чья смерть поставила, можно сказать, крест на смысле моего пребывания на этой Земле – может быть, большинство меня не поймет, но я никогда так не страдала от потери людей, как от этой потери. Но такова уж я! Именно потому, что я совершенно не похожа на остальное человечество, я и решила написать эту книгу. Но я не буду спорить и с тем утверждением, что я просто-напросто кадр для психиатра, страдающий ярко выраженной манией величия.
Материал, который подтвердит или опровергнет это, перед вами, и судить обо мне может абсолютно всякий, которому случайно попадется эта книжица (если у меня хватит терпения довести все это до конца). Ну вот, преамбула закончена, можно начинать с самого начала. Маленький, но очень симпатичный городок в Сибири – место рождения, а время рождения тоже не совсем заурядное: еще жив тиран, эпоха называется сталинизмом, поэтому городок этот полон людей, которые в нормальное время жили бы себе в столицах – это так называемая интеллектуальная элита страны: высланные врачи, артисты, писатели и прочая интеллигенция, и даже совсем уж какие-то «большие люди» (например, директором местного драмтеатра был Бен-Гурион, впоследствии ставший премьер-министром Израиля). Разумеется, я была совсем малышкой и не смогла воспользоваться духовным богатством, которым наверняка обладали все эти люди. Их Духовность незримо, но явственно окутывала городок, создавала ауру, которую я чувствовала еще в младенчестве. Помню, что меня удивляли эти лица, встречающиеся в большом количестве, на которых был явный отпечаток незаурядности и интеллекта, конечно, все это я воспринимала абсолютно бессознательно, как и положено ребенку в раннем детстве. Правда (опять же, это слишком невероятно, и мне наверняка не поверят, но, коль уж я взялась описать свою жизнь, то собираюсь писать одну только чистую правду, а иначе – какой в этом смысл, я ведь не Ганс Христиан Андерсен?), первые проблески моего сознания начались, видимо, фантастически рано. Я помню, как я очень громко расшатываю свою качающуюся кроватку, мне нравится это делать, но в это время приходят от соседей с просьбой угомонить меня – за стеной умирает (от саркомы) молодой парень, ему плохо от всякого шума. И я СЛЫШУ эти слова! Это значит, что мне – сколько? Пять, шесть или больше месяцев? Невероятно.
Дальше – больше. Моя бабушка со стороны отца умерла, когда мне не исполнилось еще и года. Я помню, как она пришла и принесла мне расшитые рукавички, помню ее лицо. Моя мать совершила мезальянс – она вышла замуж за простого мужика, поэтому мою бабушку с этой стороны звали Марфа, и лицо ее было – э, как бы это сказать, несколько красномордым… Потом я помню, как меня несет на руках моя тетушка (младшая сестра матери), а рядом идет прабабушка – она перестала ходить, когда мне еще не было года, у нее отнялись ноги от тяжелой болезни (она чудом выжила). А тут она ИДЕТ. Мы заходим в комнату, освещаемую тусклым желтым светом, и там в гробу лежит моя бабушка Марфа, а все вокруг воют или что-то в этом роде, короче, издают странные для меня вопли.
Еще я помню, как мне не нравилась рожа Сталина – наверное, я чувствовала, как от него идут дьявольские токи, а он ведь тогда был во всех газетах, на всех журналах – и я его черкала, черкала жирным черным карандашом, пытаясь зачеркнуть, убрать из жизни единственным доступным мне способом. И таким образом однажды я чуть не подвела под монастырь свою бабушку – к ней пришел сослуживец (про то, кем была моя бабушка, потом). Она рассказывала, что увидела его полные ужаса глаза и залепетала, что «это ребенок сделал»… В то время, естественно, и за меньшее сажали. Но сослуживец оказался порядочным человеком и не донес.
Это мне не было еще и трех лет (Сталин умер в марте 53-го, я родилась в августе 50-го), а в четыре года я уже умела читать и знала наизусть всего «Евгения Онегина». Меня привели на елку на бабушкину работу. Все дети декламировали что-то там типа «наша Таня громко плачет», и им за это давали подарки. Меня тоже поставили на табуретку, и я начала: «Мой дядя самых честных правил…» Слушали долго, наконец, поняли, что я не собираюсь останавливаться. Тогда меня попытались стащить с табуретки – я не давалась и брыкалась, а сама все читала Пушкина. Мне, честное слово, было странно, что можно НЕ ХОТЕТЬ СЛУШАТЬ ПУШКИНА!!! Мне это казалось просто свинством, ведь это же не какой-то там детский лепет! Но в итоге меня стащили, я закатила страшную истерику, меня увели домой – вот когда я в первый раз поняла, что человечество не нуждается в НАСТОЯЩЕМ, ему нужны всякие там фигли-мигли и суррогаты!
От рождения я была наделена абсолютной грамотностью (так же, как музыканты рождаются с абсолютным слухом) и абсолютным восприятием любого печатного слова. Читала я запоем все, что под руку попадалось, никто меня не контролировал. И уже к годам 8— 9 перечитала всю русскую (а потом и зарубежную) классику. В школе мне было скучновато – все, что там преподавалось, я схватывала на лету, с первого объяснения, а учителя примитивно разжевывали, объясняли по тысяче раз для всех прочих детей, резко от меня отличавшихся. Сначала я была круглой отличницей, а потом, став старше, стала идти поперек течения – спорить с учителями, доказывать им что-то… Поэтому кончилось в итоге все не очень-то хорошо – взрослые того времени не любили, чтобы дети отстаивали свою точку зрения и свою независимость. (Да и сейчас, наверное, не любят?). Но все равно – в младших классах я была «звездой»: меня возили на всякие городские и областные заседания, где я своим звонким пионерским голоском выводила всяческие «приветствия», я была непременным конферансье нашей художественной самодеятельности, я побеждала на всяческих олимпиадах и смотрах, я оттрубила в музыкальной школе 7 лет, пиликая (чудовищно!) на скрипочке, я написала пьесу для зоологического вечера, которую потом ставили в других школах (мне нравилось, в основном, что для ее написания меня отпускают с уроков). Еще я ходила в радиокомитет, где была детским диктором, вместе с двумя другими детьми – девочкой и мальчиком, и настоящей актрисой из местного драмтеатра мы читали радиогазету, и помню, как всегда начинала ее я: «Здравствуйте, ребята! Слушайте радиогазету „Пионерия шагает“». Впрочем, в радиокомитете мне очень нравилось – это был процесс НАСТОЯЩЕЙ работы.
И вот, наконец, детство кончилось. Бабушка была уверена, что ее суперталантливая внучка будет учиться, конечно же, «в университете». Не дворником же быть такому сокровищу! (Но получилось так, что и дворником пришлось побывать.) «Университетов» было довольно много, но ни один не был закончен – не вписалась я в систему, когда в гуманитарных науках царил марксизм-ленинизм. Население одной шестой части суши безудержно врало и лицемерило, а я делать этого не хотела! Я же говорю – я не похожу на всех остальных. Вот почему мне удалось чуть ли не полвека провести во внутренней эмиграции. Это было тяжело, я все время попадала во всяческие истории, но жила я исключительно для себя, а не «для общества», хоть и сказал какой-то самый главный в то время корифей, то ли Ленин, то ли Маркс, что «жить в обществе и быть от него свободным невозможно». А я вот всей своей жизнью опровергла коммунистического мудреца – я по сей день свободна от нашего безграмотного общества.
Мне исполнилось 19 лет, я уже успела влипнуть в несколько историй. Одна из них – за то, что я бросила университет и не удержалась ни на одной из работенок (массовик-затейник в кинотеатре, учетчица на механическом заводе и так далее в таком же роде), по советским законам я считалась тунеядкой – а это было в то время очень, очень серьезно (вспомним Иосифа Бродского), меня пригласили в горком ВЛКСМ (наверное, нынешнее поколение даже не знает, что это за зверь такой), где начали «прорабатывать» – типа того, что я «позорю звание комсомолки». И я, недолго думая, бросила этим «руководящим и направляющим товарищам» на стол свой комсомольский билет.
О… это я сделала очень даже напрасно – отныне мощная государственная машина поехала прямо на меня, так как я стала ее врагом. Ну а дальше следовали вторая, третья, четвертая истории…, что было, согласитесь, очень закономерно и плавно вытекало из первой. Советская власть таких, как я, давила в психушках. Теперь мы знаем, что тот, кто не хотел жить по ее законам, назывался диссидентом и был ею уничтожаем, но время моей молодости называлось «брежневским застоем», поэтому меня не расстреляли без суда и следствия, как миллионы при Сталине. И за то спасибо. Но вот ведь странно, что и в психушке меня почему-то не удалось сгноить! Судьба меня, что ли, как Онегина, хранила?
Вспоминать это, конечно, очень страшно, но надо. Тем более, что это было давным-давно, уже чуть ли не 40 лет назад (Как же незаметно пробежало время – вот я и уже пожилая тетка, а все еще ощущаю себя девчонкой!!! Смотрю в зеркало и думаю: «Неужели эта жирная старая уродина – я???»). Бабушка уехала в Казань – там у нее родилась еще одна внучка (у моей тети), и надо было помогать. Я осталась дома одна. Как я уже писала – я побросала все эти глупые «работы» (ни уму, ни сердцу) и «обдумывала житье», что же мне делать дальше. И вдруг пошел какой-то странный слушок. Город был не такой уж большой, слухи распространялись мгновенно – якобы меня собираются отправить в психушку, не помню, кто это сказал, кажется, недоброжелательно настроенная соседка. Я еще спросила – за что же, неужели я бегаю голая по улице?
Эти разговоры, естественно, меня встревожили. У меня тогда была подруга старше меня лет на 15, она работала в редакции местной газеты (впоследствии и она меня предала, об этом речь впереди). Она меня успокаивала – ты, мол, не слушай все эти глупые бабьи сплетни, никто тебя никуда не посадит, сажают психов, опасных для общества, а ты совершенно нормальный человек. Ну я как-то и слегка успокоилась, ведь и правда – что я такого особенного сделала, чтобы все было так серьезно?!
В один прекрасный день к нашему дому подъехала санитарная машина, и в дверь начались дикие пронзительные звонки. Я, естественно, испугалась и не открывала. Тогда дверь, ничтоже сумняшеся, вышибли… Меня подхватили под белые ручки два дюжих дяденьки в белых же халатиках… Я еще успела пролепетать: «Что вы, собственно, мне инкриминируете?», продемонстрировав свой интеллект и знание иностранной лексики, и совершенно напрасно, так как дяденьки меня даже не поняли, увы.. Дальше было совсем страшно. Дядька по фамилии Кулешов (у меня отвратительная память на имена и фамилии, люди со мной знакомятся, называют себя – я тут же забываю, и потом бывает очень неудобно, но эту фамилию я запомнила, как видите, на всю жизнь) – по всей видимости, врач, психиатр местной больницы – сообщил мне, что я считаюсь в нашем городе антисоветчицей, и вообще непонятно, на что я способна, власти думают, что на всякую бяку, и поэтому ему поручено загнать меня, как он выразился, «куда Макар телят не гонял» и «сгноить», поскольку Советская власть не потерпит таких злостных элементов, как я.
Собственно, я никоим образом открыто не выступала против нашей родной Советской власти (что я, совсем дура, что ли, я и в молодости понимала, что это чревато большими неприятностями), но вот мой образ жизни все-таки был довольно нестандартен для того времени. (Может быть, он и для нашего чересчур свободного времени не так уж стандартен, просто мне следовало родиться в какой-нибудь свободной стране, а не в нашей матушке России, где люди сплошь заражены предрассудками и комплексами, и все, что мыслит не по их убогому шаблону, относится ими к разряду крамолы, опасной для их обывательского спокойствия).
Я по молодости, видимо, не совсем понимала опасности своего положения, тем более, что я знала о себе, что ничего такого плохого я не совершила и что совесть моя чиста. Это последнее – чистота моей совести – всегда играло роковую роль в моей жизни. Все плохое со мной совершалось исключительно потому, что я была, по большей части, совершенно уверена в своей правоте и вела себя соответственно, то есть, независимо. Если бы у меня когда-либо было рыло в пушку, то я бы унижалась, пресмыкалась, подлизывалась, просила о снисхождении, и со мной бы поступали, я уверена, более мягко. Но нет – когда я видела подлецов, я никогда не ложилась под них (поймите меня правильно, я имею в виду – морально). Я всегда оставалась «на вершинах гор» и не снисходила до униженных просьб о пощаде. Более того, я всегда высказывалась и называла вещи своими именами, то есть, объявляла сволочи, что она (он) – сволочь. Гордо, красиво, конечно, но очень, очень глупо – ведь кончится это тем, что очередная оскорбленная мной сволочь просто сделает из меня жирненький такой трупик, тем более, что в наше время с этим проблем нет никаких.
Так вот, возвращаясь к нашим баранам – то есть, к доктору Кулешову. В ответ на его запугивания я заявила, что он просто палач в белом халате, после этого, естественно, Кулешов пришел в дикую ярость и стал орать, что вот сию секунду он сотрет меня с лица земли, и никто не узнает, где могилка моя. Он кликнул медсестру, и мне в задницу всадили приличную дозу, кажется, сульфазина (это меня потом знакомые медики просветили) – это такой препарат, который превращает буйных сумасшедших в тихих и ласковых овечек. На меня же он произвел такое действие: я не могла пошевелить ни одним членом, а мое тело превратилось в один сплошной комок дикой непрерывной боли. Это длилось часов 12. К тому же, меня поместили в отдельную палату, а ночью ко мне впустили настоящую больную – наверное, для устрашения; как я теперь понимаю, у женщины был послеродовой психоз. Она подошла ко мне – может быть, Кулешов надеялся, что она меня придушит? У меня душа ушла в пятки, но нет – к разочарованию моего мучителя она только брызнула мне из груди молоком прямо в глаза и после этого забилась в угол, вскоре ее увели.
На следующий день, когда я пришла в себя, наш гуманный медик стал требовать, чтобы я извинилась. А когда я удивленно спросила – за что же я должна извиняться, ведь то, как я его охарактеризовала, исключительно соответствует действительности, он совершенно вышел из себя и сообщил мне, что я очень пожалею о своем поведении (тоже мне Зоя Космодемьянская, тьфу!) и что меня отправят в такое место, где очень быстро из меня сделают идиотку, у которой изо рта течет слюна.
В это самое «место» меня сопровождали два мужика, и, хотя им даже выдали наручники (они мне их только продемонстрировали), меня совершенно не караулили, заявив мне, что они прекрасно понимают, что никакая я не сумасшедшая, а просто глупая девка, влипшая в какую-то темную историю, всю дорогу пили и оставляли меня одну, так что я вполне могла сбежать по дороге, но я (ведь «моя совесть была чиста»! ), решила испить чашу до конца. Молодая была, сил было много, тянуло на подвиги. Еще я успела (какая-то мелочь завалялась в карманах моей одежды) дать телеграмму бабушке в Казань. Как потом выяснилось – получив эту телеграмму, мои родственники чуть ли не завалились в глубокий обморок, а бабушка, можно сказать, в чем была, в ту же секунду побежала на самолет спасать свою несчастную внучку, которую везли в глухую тайгу, где содержались самые безнадежные психи (эта больница была знаменита на всю Сибирь).
Как сейчас помню – ощущения от того, что я увидела, были весьма острые. В основном, было страшно глядеть на всех этих несчастных людей, ведь я с таким никогда не сталкивалась. Я не буду всего этого описывать, отсылаю тех, кому это может быть интересно, к фильму «Полет над гнездом кукушки».
Но карательная система неожиданно оказалась довольно мягкой. Наверное, тут сыграли роль несколько факторов. Во-первых, моей судьбой прониклась женщина – жена главного врача и сама врач, я ей почему-то понравилась – может быть, своей начитанностью, не знаю, чем еще, но я вызвала ее неподдельный интерес. А может быть, она просто оказалась хорошим порядочным человеком, не захотевшим ломать жизнь совсем зеленой девчонки. Во-вторых, ради меня прилетела комиссия аж из трех человек из Москвы. Они побеседовали со мной, и главный из них, симпатичный и довольно молодой (на каких-нибудь восемь-десять лет старше меня) сказал, что понимает, почему я сюда попала, как он выразился – вела я себя довольно опрометчиво, а в нашей жизни нужно быть осмотрительнее, не дразнить гусей… И что на первый раз мне это сходит с рук, так как они меня выпускают, но чтобы я задумалась и в будущем никогда… чтобы сделала капитальные выводы из всего случившегося… и так далее в том же роде. Я обещала. В-третьих, буквально через два дня появилась моя бабушка, успевшая побывать в самых высоких инстанциях. Она привезла мне огромную сумку всякой вкусной еды, среди которой были и апельсины (это сейчас они на каждом углу, а тогда, в конце 60-х, были страшным дефицитом). Но я не смогла этого есть.
Моя благодетельница-врач после первой же нашей беседы поместила меня в маленькую отдельную палату в конце коридора (а самую первую ночь я провела в огромной палате №6, битком набитой жуткими физиономиями хронических больных). То ли запах апельсинов среди этого смрада привлек этих несчастных, которые годами были лишены всего на свете, то ли почувствовали они что-то необычное звериным своим чутьем (а они и были уже почти животными – и болезнь, и вся эта страшная беспросветная обстановка давно лишили их человеческого облика), но они стали заглядывать ко мне в комнатку, и кусок застрял у меня в горле: я раздала им все содержимое этой бабушкиной сумки, которую она с трудом приволокла, чтобы как-то утешить любимую внучку, попавшую в такую беду, – раздала все до последней крошки.
После этого смертельно напуганная бабушка сгребла меня в охапку (она боялась, что инициаторы всех этих дел из моего родного городка могут еще раз предпринять что-нибудь в этом роде, и тогда уже мне не сдобровать) и увезла сначала в Казань, а оттуда я уехала в Петербург, который в то время назывался Ленинградом. Но это совсем уже другая история.
Глава 2
Город Санкт-Петербург – особенный город. Для каждого он свой, и в моей жизни он сыграл гораздо большую роль, чем даже сибирский городок, в котором я родилась. Теперь, когда я объездила полмира и видела множество знаменитых своей красотой и уникальностью городов – ну, например, Париж, Венецию, Прагу, я могу со всей ответственностью сказать, что Санкт-Петербург затмевает все на свете. Может быть, есть города еще красивее, чем он. Но то, что ощущаешь, когда ходишь по его улицам, не ощущаешь больше нигде. Может быть, это ощущения только русского человека, и ни один иностранец ничего подобного не испытывает – я не знаю. Но я знаю сколько угодно людей, которые любят этот город, как сумасшедшие, жить без него не могут, и в каком бы городе ни протекала их жизнь, они еще и еще возвращаются в Петербург: он, как огромная планета, всегда держит их в поле своего притяжения.
Мне же там больше делать нечего, для меня это город мертвых. Все, кого я любила там в молодости, умерли, и я, молодая, тоже мертва. Не уверена, что стоит воскрешать эти годы – вполне возможно, что я буду писать это со слезами на глазах, а сентиментальность – качество, которое никогда не было мне до сих пор присуще, раньше я презирала это. Видимо, с годами человек становится более мягким – или более уязвимым, что понятно – нельзя остаться невозмутимым и спокойным, если жизнь тебя как следует потрепала, а синяки и раны в душе хоть и невидимы, но гораздо болезненней, чем на теле.
Когда я училась в музыкальной школе, к нам часто приезжали музыканты из больших городов, причем многие из них были с мировым именем, тогда считалось не зазорным такому артисту приехать в маленький городок и выступить перед детьми или студентами музыкального училища. И уже после того, как я закончила школу, я часто приходила на такие концерты, которые происходили в маленьком учебном зале музыкальной школы. И однажды я пришла на концерт пианиста – преподавателя Ленинградской консерватории, и это стало отправной точкой всей моей дальнейшей жизни, всего того, что случилось со мной потом.
Случайно получилось так, что мы познакомились, и почему-то нам захотелось пообщаться подольше, и пианист пригласил меня в гостиницу, где мы проговорили всю ночь. Ничего банального и пошлого не было – потому что я была молоденькая чистая девушка, а он не был донжуаном, соблазняющим неопытных девушек, это один из самых порядочнейших людей, встреченных на моем пути. (Он жив до сих пор и сейчас уже много лет живет за океаном и, к сожалению, не испытывает тоски ни по Петербургу, ни по мне – я вообще не знаю, что он за человек, чем он живет и что он чувствует, потому что не видела его уже лет 30, а мои полудетские воспоминания о нем и о том, что было между нами, в общем, ничего не стоят, это как легкая рябь на воде от ветерка – кажется, я украла этот образ у Стефана Цвейга из его «Письма незнакомки»).
Когда я приехала в Ленинград после описанных в первой главе событий, естественно, что я в первую очередь разыскала пианиста – ведь я больше никого в Питере не знала. А он привел меня в дом к своему педагогу – профессору консерватории, ведь мне негде было жить. Надежда Иосифовна была восьмидесятилетней и очень больной, в домработницы тогда шли случайные бабы, пьяницы и даже мошенницы, потому что «нормальные» советские люди всегда имели «нормальную» работу – на заводах и фабриках, безработицей в СССР, в отличие от нынешних времен, не пахло, право на труд было священным правом, записанным в советской Конституции. Так что пианист правильно рассудил, что мы будем полезны друг другу.
Я очень жалею, что не встретила Надежду сейчас, когда я такая старая и такая мудрая (это такое идиоматическое выражение, не принимайте его всерьез. «Такая мудрая» совершает ТАКИЕ глупости, которые и не снились той в небытие ушедшей девчонке). Представляю, как развлекалась она (внутри, конечно), слушая все те бредни, которые я выдавала в 20 лет! Наше общение длилось недолго – года три. Теперь-то я поняла, что она была центральным человеком моей жизни. Ни с кем и никогда мне не было так интересно, как с ней, да сейчас и быть не может таких людей: огромный талант, соединенный с поистине энциклопедическими знаниями, с потрясающей эрудицией. Ей можно было сказать все – она все понимала. Конечно, та дурочка, которой я была, не смогла в полной мере оценить эту гигантскую по силе духовности личность. Наверное, в прошлом, а тем более, в позапрошлом веке таких людей было много, но в нашем двадцать первом веке они вымерли, как динозавры. Да и что им делать в нашем убогом обществе, где вершиной искусства считается какая-нибудь «Фабрика звезд»???
Я была глупой девицей, и нет мне прощения – я убила Надежду собственными руками. Не буквально, конечно, но какая разница? Мне надо было беречь ее, сдувать с нее пылинки, а я вела себя, как обыкновенная заурядная эгоистическая молодуха. Я же не могла понять в то время, какое сокровище я имею, как мне повезло, как редко такое случается в этой жизни!!! Но что толку теперь убиваться – ничего нельзя вернуть назад, а если бы можно было, то я вернула бы только ее (и, конечно, моего любимого сыночка – Дэндика), а больше в этой длинной жизни не было у меня ничего ценного, ни о чем я не сожалею и ничего мне не нужно – все остальное прах и пыль.
Хочу описать самый момент ее смерти, потому что тогда ярко проявились мои экстрасенсорные способности, которыми я обладала всегда, просто не придавала им никакого значения, можно сказать, специально ими не пользовалась – а зачем? Я ведь уже писала, что я всю свою жизнь провела во «внутренней эмиграции», а экстрасенсы, насколько я знаю, должны тесно общаться с людьми. Я же по большей части не испытывала удовольствия от такого общения. С природой – да! С животными – да! До того момента, как моя дочь своим мерзейшим предательством отравила мне самое замечательное, чем наградила нас природа, – материнство, я очень любила маленьких детей. Но никогда не было, чтобы общение со взрослыми особями протекало без того, чтобы в итоге я не была обкакана ими с ног до головы…
Так вот, о смерти Надежды – я сидела и писала письмо, это было поздней ночью, и вдруг в 4 часа утра у меня начались какие-то странные ощущения, отмахнуться от них было невозможно, я даже растерялась. Во-первых, у меня – у молодой и здоровой, началась в груди дикая боль, там все сжало, я не могла дышать. Во-вторых, как будто какая-то сила схватила меня за шиворот и тащила в комнату, где спала Надежда (там еще спала женщина-домработница). Я вжалась в кресло и сопротивлялась – я не понимала, что со мной происходит. Через минуты 3—4 все прошло, будто и не было. Я посидела еще немного, совершенно ошеломленная всем этим. Я ничего не поняла, а это было так просто – в этот момент Надежда умерла, у нее был инфаркт, случившийся во сне, и я все это восприняла почти как собственную смерть, только все-таки это было не со мной – я это осознавала, что я чувствую все это немного как бы со стороны.
Но все это было несколько позже, а сначала, попав в Ленинград, я познакомилась с дворником филармонии по фамилии Шапиро (короткий анекдот – «еврей-дворник»), наш с ним внезапный «роман» тянулся несколько лет, как вялотекущая шизофрения (таки отразилась на мне история с психушкой!..). Благодаря этому знакомству я стала «вхожа» в оба зала филармонии – и Большой, и Малый. Они стали для меня буквально родным домом, я туда шастала чуть не каждый вечер, переслушала всех и наших, и заезжих музыкантов (а в то время ездили в Питер многие-многие знаменитости, например, умерший впоследствии от СПИДа любимый ученик Караяна – Эмил Чакыров. Если бы он остался в живых, он потряс бы мир, который потерял в его лице гения, я уверена в этом!). А репетиции Мравинского я слышала частенько прямо у себя (то есть у Шапиро) в дворницкой каморке, которая располагалась над Большим Залом.
Короче, если начать все вспоминать и описывать, то моя книга будет только о музыкальной жизни Ленинграда той поры, но я буду тогда не я, а Ираклий Андронников, знаменитый рассказчик, чьи «Воспоминания о Большом Зале» иногда показывают по каналу «Культура» и сейчас.
После смерти Надежды я уехала в свой родной город и три или четыре месяца рыдала не переставая – да что толку??? Правда, это отразилось на моей аппетитной фигурке – я стала суперстройной и изящной, потеряв со слезами больше двадцати кг, и до рождения дочери оставалась в этой поре, что мне очень шло. Приехав снова в Питер (ну куда ж бы я делась еще, кроме этого города, главного в моей судьбе?!), я решила поступать в университет, ведь бабушка (которая в тот момент еще была жива) так об этом мечтала всю мою жизнь! Почему-то я выбрала факультет романо-германской филологии, может быть, потому, что любила французский язык и даже баловалась переводами стихов. Вот был такой салонный поэтик Франсуа Коппе – я уж теперь и не помню, о чем он там чирикал, но в молодости он мне нравился. Правда, больше всех мне нравился все-таки Бодлер, но его переводили еще до моего рождения наши большие поэты типа Цветаевой, и что-то в молодости моя рука не замахнулась посоперничать с великими, я всегда (и по сю пору) с пиететом относилась к творцам настоящего искусства.
Но экзамены в университет начинались в августе. Я уже прошла собеседование – профессорша-преподаватель выбранного мной факультета, долго и обстоятельно побеседовав со мной, заявила, что я обязательно поступлю, да и конкурс был небольшой, кажется, всего три человека на место. И черт меня дернул пройти мимо Академии – правильно и полностью она называлась Институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина – вступительные экзамены здесь начинались послезавтра! Я, узнав, что конкурс 25 человек на место, решила, что я ничего не теряю, университет все равно у меня в кармане, а в Академию я при таком конкурсе явно не поступлю, но ведь интересно же потолкаться в этих знаменитых стенах, приобрести какой-то жизненный опыт, а впрочем (и это одна из самых плохих черт моего характера) я долго не раздумывала и не рассуждала, а просто бросилась с головой в омут.
Пишу я неплохо, довольно складно, это у меня с детства – все сочинения всегда получали высший балл, и вообще я была любимицей гуманитарных педагогов, которые, когда на уроки приходили всяческие комиссии, вызывали только меня. Кто-нибудь, типа моей соседки по деревне Лили (она бывшая москвичка с Арбата, но уже лет 17 живет в деревне, а про деревню речь впереди), скажет, что я ударилась в невероятное хвастовство (Лиля не верит ни единому моему слову, когда я при ней рассказываю что=либо из своей бурной жизни), но клянусь, что не приврала ни на йоту – уж что есть у меня, то, как говорится, не отнимешь. Так вот первый экзамен был что-то типа эссе по какому-либо художественному произведению – картине или скульптуре. На столе лежала куча неподписанных фотографий этих произведений, ты подходил и выбирал. Мне, как сейчас помню, достались «Бурлаки на Волге» Репина. Не составило труда насочинять что-то там про «отражение тяжелой жизни русского народа», при моей абсолютной грамотности, конечно, был поставлен за это высший балл.
Второй экзамен тоже был по специальности – я забыла сообщить, что поступала я на факультет теории и истории искусства, то бишь собиралась быть искусствоведом (то есть, не собиралась, так как была уверена, что не поступлю…). Экзамен у меня принимала старушка Чубова – мировая знаменитость, заведовавшая каким-то там отделом в Эрмитаже, академик! – я этого тогда не знала, но видела, как абитуриенты выскакивали от нее красные, потные и с двойками. Старушка поимела меня по полной программе: полчаса она пыталась меня подловить на незнании шедевров русского искусства, кидала мне фотки одну за другой, наконец, закрыв одну из фотографий, оставила только кончик туфельки и ехидно спросила: «А это кто?». Господи, я и это знала, правда, чисто случайно – у меня валялась книжка, на обложке которой красовались эти девушки-смольнянки, и их ножки в туфельках машинально застряли в моей памяти. Когда я ей ответила, старуха была поражена и что-то черкнула в моей абитуриентской книжке. «Ну, все. Двойка, " – подумала я, но раскрыв ее уже за дверью, увидела, что это, наоборот, пятерка.
А дальше все покатилось как по маслу. К сочинению нас осталось человек 50, и только двое из нас – я да блатная Катя Лукина – получили пятерки. Еще два экзамена (литературу устно и историю) я, естественно, тоже сдала на пятерки, как ни силились принимающие экзамен педагоги меня срезать, но им это не удалось – было бы странно, если бы я, много лет проведя с книжками, то есть, буквально, ела, спала и жила с классиками и не только, чего-то бы не знала по несчастной школьной программе… Вот так я поступила в Академию, и университет, мечта моей бабушки, накрылся медным тазиком, ибо я сочла нецелесообразным забирать документы и снова сдавать экзамены. Потом, уже на первом курсе, одна женщина-педагог сказала мне в разговоре: «Ну вы же блатная…», и, когда я пыталась возразить, что это абсолютно не так, она заявила: «А тут не блатных не бывает». Видимо, такова была система приема в советские престижные вузы (не знаю, изменилось ли что-либо сейчас – что-то сильно в этом сомневаюсь…).
Глава 3
Как я уже писала, в Петербурге (тогда Ленинграде) я попала в дом профессора Голубовской. У нее была племянница, Бэлочка, муж которой, Юра, очень любил Надежду Иосифовну и навещал ее. Он был старше меня лет на двадцать, блокадный ребенок, и вообще какой-то очень потрепанный жизнью. В 40 лет он выглядел на шестьдесят – седой, лысый, маленький хрупкий еврей. Но его глаза… это были глаза Иисуса Христа, они горели на его лице, я никогда не видела таких пронзительных глаз – с него можно было писать икону.
Теперь я, пожилая, сама сильно потрепанная жизнью тетка, не могу понять, почему я так намертво влюбилась в этого человека. Он был никакой – никто и звать никак. Есть такие люди – они говорят, говорят, много говорят – и все ни о чем (этим грешили, по крайней мере, два политических деятеля: Горбачев и ныне начисто забытый Бурбулис). И Юра был из их числа. Но мне все это было не важно. Я была молодой – и первый попавшийся нетипичный мужик произвел на меня неизгладимое впечатление. Меня перестала интересовать вся остальная жизнь – свет сошелся клином на Юре. Я бросила институт. Я забыла все на свете. Я сошла с ума – я любила (или мне так казалось – что одно и то же). Правда, все это тянулось довольно долго, даже не один год. Сначала (года три) продолжались нескончаемые разговоры – ни о чем. Теперь я уже не помню – кажется, он жаловался на то, что его никто не понимает, женщины (его две жены) якобы тоже никогда не понимали и не любили его, на первой его женил отец, на второй он женился по ошибке… Я, при всей моей склонности к «романтизму», первый раз в жизни захотела реально принадлежать любимому мужчине. (Вообще, в молодости я была ужасная дура и считала всяческие физические проявления в человеке чем-то унижающим и грязным. Мне казалось, что человек должен стремиться только к духовному и высокому, а все остальное не имеет права на существование – вот такая чушь царила тогда в моей башке, я же была очень много читающим ребенком, причем всяких там Золя и Мопассанов я начисто отвергала.) Но время шло, а Юра был до того нетипичен, что не собирался «поиметь» молодую девку, которая, как говорят у нас в народе, сама вешалась ему на шею. Когда я поняла, что он не будет моим, я отстала от него. Я до сих пор не пускаюсь в безнадежные предприятия, которые лишены всякого смысла. Побарахтавшись немного, я отступаюсь – и, наверное, не существует на свете нормальных людей, которые пытаются проломить головой каменную стенку.
Итак, я сказала себе: «Отстань от него, как-нибудь сможешь забыть и пережить». Но вдруг он позвонил и огорошил меня сообщением, что собирается «начать со мной новую жизнь». Ну как я могла бы отказаться?!! Жить нам было негде. Почему мы не сняли какую-нибудь комнатенку – непонятно. Очевидно, Юра в практической жизни был еще хуже меня, витавшей в романтических грезах. Какое-то время мы ютились в двухкомнатной квартире его отца, старика Ионаса, которому, видимо, очень скоро все это сильно надоело (наверное, мы нарушали покой и привычный уклад его жизни), и он постарался разрушить нашу «идиллию». И вообще, вполне понятно: одно дело – мышление двадцати с чем-то летней влюбленной девушки, которая думает только о своей любви и любимом человеке, а другое – практические соображения умудренного жизнью старого еврея, который знает, что кроме любви еще нужно есть-пить и где-то и на что-то жить.
Любовь Гайдученко
Короткие повести, рассказы, фантастика, публицистические и философские эссе.
Содержит нецензурную брань.
Любовь Гайдученко
Глас вопиющего в пустыне
Сукина мать
Глава 1
В нашем роду существовали какие-то странности по поводу рождения и смертей. Я застала свою прабабушку, так вот она и родилась и умерла в год Змеи. Ее дочь, то есть, моя бабушка, родилась в год Дракона и умерла в мой год – в год Тигра. В свою очередь ее дочь, то есть моя мать, родилась в год Змеи и умерла в год Лошади (к тому же, в год Огненной Лошади). Я родилась в год Тигра (причем, в год Белого Тигра), а моя дочь – в год Лошади. У меня зародилось сильное подозрение, что я умру в год Дракона, а моя дочь – в год Змеи… Из этого рода только мы с ней дожили до Миллениума, проводили второе и встретили третье тысячелетие, и опять же, эти знаменательные годы пришлись на тех животных, которые были так характерны для нашей семьи – рубеж тысячелетий, 2000 год, был годом Дракона, а первый год нового тысячелетия пришелся на год Змеи. Я знала совершенно точно, что год Змеи – это самый страшный год из всего этого цикла, например, 1917 и 1941 – что такое эти годы для русских людей, пояснять не надо. А я умудрилась в самый первый день нового тысячелетия (по китайскому, разумеется, календарю – 24 января) сломать ногу.
После этого моя жизнь покатилась под откос в бешенном темпе. В следующем году я, как последняя идиотка, продаю свою шикарную (пусть и небольшую) квартирку в Петербурге, а моя дочь (для кого все это и было сделано – чтобы переселиться в Москву, где она обреталась) страшным образом предает меня. Об этом речь впереди. Затем следует целый год (или даже больше?) невыразимых мучений – вплоть до голода и холода, дальше умирает единственное существо, которое меня любило – мраморный дог Дэнди, чья смерть поставила, можно сказать, крест на смысле моего пребывания на этой Земле – может быть, большинство меня не поймет, но я никогда так не страдала от потери людей, как от этой потери. Но такова уж я! Именно потому, что я совершенно не похожа на остальное человечество, я и решила написать эту книгу. Но я не буду спорить и с тем утверждением, что я просто-напросто кадр для психиатра, страдающий ярко выраженной манией величия.
Материал, который подтвердит или опровергнет это, перед вами, и судить обо мне может абсолютно всякий, которому случайно попадется эта книжица (если у меня хватит терпения довести все это до конца). Ну вот, преамбула закончена, можно начинать с самого начала. Маленький, но очень симпатичный городок в Сибири – место рождения, а время рождения тоже не совсем заурядное: еще жив тиран, эпоха называется сталинизмом, поэтому городок этот полон людей, которые в нормальное время жили бы себе в столицах – это так называемая интеллектуальная элита страны: высланные врачи, артисты, писатели и прочая интеллигенция, и даже совсем уж какие-то «большие люди» (например, директором местного драмтеатра был Бен-Гурион, впоследствии ставший премьер-министром Израиля). Разумеется, я была совсем малышкой и не смогла воспользоваться духовным богатством, которым наверняка обладали все эти люди. Их Духовность незримо, но явственно окутывала городок, создавала ауру, которую я чувствовала еще в младенчестве. Помню, что меня удивляли эти лица, встречающиеся в большом количестве, на которых был явный отпечаток незаурядности и интеллекта, конечно, все это я воспринимала абсолютно бессознательно, как и положено ребенку в раннем детстве. Правда (опять же, это слишком невероятно, и мне наверняка не поверят, но, коль уж я взялась описать свою жизнь, то собираюсь писать одну только чистую правду, а иначе – какой в этом смысл, я ведь не Ганс Христиан Андерсен?), первые проблески моего сознания начались, видимо, фантастически рано. Я помню, как я очень громко расшатываю свою качающуюся кроватку, мне нравится это делать, но в это время приходят от соседей с просьбой угомонить меня – за стеной умирает (от саркомы) молодой парень, ему плохо от всякого шума. И я СЛЫШУ эти слова! Это значит, что мне – сколько? Пять, шесть или больше месяцев? Невероятно.
Дальше – больше. Моя бабушка со стороны отца умерла, когда мне не исполнилось еще и года. Я помню, как она пришла и принесла мне расшитые рукавички, помню ее лицо. Моя мать совершила мезальянс – она вышла замуж за простого мужика, поэтому мою бабушку с этой стороны звали Марфа, и лицо ее было – э, как бы это сказать, несколько красномордым… Потом я помню, как меня несет на руках моя тетушка (младшая сестра матери), а рядом идет прабабушка – она перестала ходить, когда мне еще не было года, у нее отнялись ноги от тяжелой болезни (она чудом выжила). А тут она ИДЕТ. Мы заходим в комнату, освещаемую тусклым желтым светом, и там в гробу лежит моя бабушка Марфа, а все вокруг воют или что-то в этом роде, короче, издают странные для меня вопли.
Еще я помню, как мне не нравилась рожа Сталина – наверное, я чувствовала, как от него идут дьявольские токи, а он ведь тогда был во всех газетах, на всех журналах – и я его черкала, черкала жирным черным карандашом, пытаясь зачеркнуть, убрать из жизни единственным доступным мне способом. И таким образом однажды я чуть не подвела под монастырь свою бабушку – к ней пришел сослуживец (про то, кем была моя бабушка, потом). Она рассказывала, что увидела его полные ужаса глаза и залепетала, что «это ребенок сделал»… В то время, естественно, и за меньшее сажали. Но сослуживец оказался порядочным человеком и не донес.
Это мне не было еще и трех лет (Сталин умер в марте 53-го, я родилась в августе 50-го), а в четыре года я уже умела читать и знала наизусть всего «Евгения Онегина». Меня привели на елку на бабушкину работу. Все дети декламировали что-то там типа «наша Таня громко плачет», и им за это давали подарки. Меня тоже поставили на табуретку, и я начала: «Мой дядя самых честных правил…» Слушали долго, наконец, поняли, что я не собираюсь останавливаться. Тогда меня попытались стащить с табуретки – я не давалась и брыкалась, а сама все читала Пушкина. Мне, честное слово, было странно, что можно НЕ ХОТЕТЬ СЛУШАТЬ ПУШКИНА!!! Мне это казалось просто свинством, ведь это же не какой-то там детский лепет! Но в итоге меня стащили, я закатила страшную истерику, меня увели домой – вот когда я в первый раз поняла, что человечество не нуждается в НАСТОЯЩЕМ, ему нужны всякие там фигли-мигли и суррогаты!
От рождения я была наделена абсолютной грамотностью (так же, как музыканты рождаются с абсолютным слухом) и абсолютным восприятием любого печатного слова. Читала я запоем все, что под руку попадалось, никто меня не контролировал. И уже к годам 8— 9 перечитала всю русскую (а потом и зарубежную) классику. В школе мне было скучновато – все, что там преподавалось, я схватывала на лету, с первого объяснения, а учителя примитивно разжевывали, объясняли по тысяче раз для всех прочих детей, резко от меня отличавшихся. Сначала я была круглой отличницей, а потом, став старше, стала идти поперек течения – спорить с учителями, доказывать им что-то… Поэтому кончилось в итоге все не очень-то хорошо – взрослые того времени не любили, чтобы дети отстаивали свою точку зрения и свою независимость. (Да и сейчас, наверное, не любят?). Но все равно – в младших классах я была «звездой»: меня возили на всякие городские и областные заседания, где я своим звонким пионерским голоском выводила всяческие «приветствия», я была непременным конферансье нашей художественной самодеятельности, я побеждала на всяческих олимпиадах и смотрах, я оттрубила в музыкальной школе 7 лет, пиликая (чудовищно!) на скрипочке, я написала пьесу для зоологического вечера, которую потом ставили в других школах (мне нравилось, в основном, что для ее написания меня отпускают с уроков). Еще я ходила в радиокомитет, где была детским диктором, вместе с двумя другими детьми – девочкой и мальчиком, и настоящей актрисой из местного драмтеатра мы читали радиогазету, и помню, как всегда начинала ее я: «Здравствуйте, ребята! Слушайте радиогазету „Пионерия шагает“». Впрочем, в радиокомитете мне очень нравилось – это был процесс НАСТОЯЩЕЙ работы.
И вот, наконец, детство кончилось. Бабушка была уверена, что ее суперталантливая внучка будет учиться, конечно же, «в университете». Не дворником же быть такому сокровищу! (Но получилось так, что и дворником пришлось побывать.) «Университетов» было довольно много, но ни один не был закончен – не вписалась я в систему, когда в гуманитарных науках царил марксизм-ленинизм. Население одной шестой части суши безудержно врало и лицемерило, а я делать этого не хотела! Я же говорю – я не похожу на всех остальных. Вот почему мне удалось чуть ли не полвека провести во внутренней эмиграции. Это было тяжело, я все время попадала во всяческие истории, но жила я исключительно для себя, а не «для общества», хоть и сказал какой-то самый главный в то время корифей, то ли Ленин, то ли Маркс, что «жить в обществе и быть от него свободным невозможно». А я вот всей своей жизнью опровергла коммунистического мудреца – я по сей день свободна от нашего безграмотного общества.
Мне исполнилось 19 лет, я уже успела влипнуть в несколько историй. Одна из них – за то, что я бросила университет и не удержалась ни на одной из работенок (массовик-затейник в кинотеатре, учетчица на механическом заводе и так далее в таком же роде), по советским законам я считалась тунеядкой – а это было в то время очень, очень серьезно (вспомним Иосифа Бродского), меня пригласили в горком ВЛКСМ (наверное, нынешнее поколение даже не знает, что это за зверь такой), где начали «прорабатывать» – типа того, что я «позорю звание комсомолки». И я, недолго думая, бросила этим «руководящим и направляющим товарищам» на стол свой комсомольский билет.
О… это я сделала очень даже напрасно – отныне мощная государственная машина поехала прямо на меня, так как я стала ее врагом. Ну а дальше следовали вторая, третья, четвертая истории…, что было, согласитесь, очень закономерно и плавно вытекало из первой. Советская власть таких, как я, давила в психушках. Теперь мы знаем, что тот, кто не хотел жить по ее законам, назывался диссидентом и был ею уничтожаем, но время моей молодости называлось «брежневским застоем», поэтому меня не расстреляли без суда и следствия, как миллионы при Сталине. И за то спасибо. Но вот ведь странно, что и в психушке меня почему-то не удалось сгноить! Судьба меня, что ли, как Онегина, хранила?
Вспоминать это, конечно, очень страшно, но надо. Тем более, что это было давным-давно, уже чуть ли не 40 лет назад (Как же незаметно пробежало время – вот я и уже пожилая тетка, а все еще ощущаю себя девчонкой!!! Смотрю в зеркало и думаю: «Неужели эта жирная старая уродина – я???»). Бабушка уехала в Казань – там у нее родилась еще одна внучка (у моей тети), и надо было помогать. Я осталась дома одна. Как я уже писала – я побросала все эти глупые «работы» (ни уму, ни сердцу) и «обдумывала житье», что же мне делать дальше. И вдруг пошел какой-то странный слушок. Город был не такой уж большой, слухи распространялись мгновенно – якобы меня собираются отправить в психушку, не помню, кто это сказал, кажется, недоброжелательно настроенная соседка. Я еще спросила – за что же, неужели я бегаю голая по улице?
Эти разговоры, естественно, меня встревожили. У меня тогда была подруга старше меня лет на 15, она работала в редакции местной газеты (впоследствии и она меня предала, об этом речь впереди). Она меня успокаивала – ты, мол, не слушай все эти глупые бабьи сплетни, никто тебя никуда не посадит, сажают психов, опасных для общества, а ты совершенно нормальный человек. Ну я как-то и слегка успокоилась, ведь и правда – что я такого особенного сделала, чтобы все было так серьезно?!
В один прекрасный день к нашему дому подъехала санитарная машина, и в дверь начались дикие пронзительные звонки. Я, естественно, испугалась и не открывала. Тогда дверь, ничтоже сумняшеся, вышибли… Меня подхватили под белые ручки два дюжих дяденьки в белых же халатиках… Я еще успела пролепетать: «Что вы, собственно, мне инкриминируете?», продемонстрировав свой интеллект и знание иностранной лексики, и совершенно напрасно, так как дяденьки меня даже не поняли, увы.. Дальше было совсем страшно. Дядька по фамилии Кулешов (у меня отвратительная память на имена и фамилии, люди со мной знакомятся, называют себя – я тут же забываю, и потом бывает очень неудобно, но эту фамилию я запомнила, как видите, на всю жизнь) – по всей видимости, врач, психиатр местной больницы – сообщил мне, что я считаюсь в нашем городе антисоветчицей, и вообще непонятно, на что я способна, власти думают, что на всякую бяку, и поэтому ему поручено загнать меня, как он выразился, «куда Макар телят не гонял» и «сгноить», поскольку Советская власть не потерпит таких злостных элементов, как я.
Собственно, я никоим образом открыто не выступала против нашей родной Советской власти (что я, совсем дура, что ли, я и в молодости понимала, что это чревато большими неприятностями), но вот мой образ жизни все-таки был довольно нестандартен для того времени. (Может быть, он и для нашего чересчур свободного времени не так уж стандартен, просто мне следовало родиться в какой-нибудь свободной стране, а не в нашей матушке России, где люди сплошь заражены предрассудками и комплексами, и все, что мыслит не по их убогому шаблону, относится ими к разряду крамолы, опасной для их обывательского спокойствия).
Я по молодости, видимо, не совсем понимала опасности своего положения, тем более, что я знала о себе, что ничего такого плохого я не совершила и что совесть моя чиста. Это последнее – чистота моей совести – всегда играло роковую роль в моей жизни. Все плохое со мной совершалось исключительно потому, что я была, по большей части, совершенно уверена в своей правоте и вела себя соответственно, то есть, независимо. Если бы у меня когда-либо было рыло в пушку, то я бы унижалась, пресмыкалась, подлизывалась, просила о снисхождении, и со мной бы поступали, я уверена, более мягко. Но нет – когда я видела подлецов, я никогда не ложилась под них (поймите меня правильно, я имею в виду – морально). Я всегда оставалась «на вершинах гор» и не снисходила до униженных просьб о пощаде. Более того, я всегда высказывалась и называла вещи своими именами, то есть, объявляла сволочи, что она (он) – сволочь. Гордо, красиво, конечно, но очень, очень глупо – ведь кончится это тем, что очередная оскорбленная мной сволочь просто сделает из меня жирненький такой трупик, тем более, что в наше время с этим проблем нет никаких.
Так вот, возвращаясь к нашим баранам – то есть, к доктору Кулешову. В ответ на его запугивания я заявила, что он просто палач в белом халате, после этого, естественно, Кулешов пришел в дикую ярость и стал орать, что вот сию секунду он сотрет меня с лица земли, и никто не узнает, где могилка моя. Он кликнул медсестру, и мне в задницу всадили приличную дозу, кажется, сульфазина (это меня потом знакомые медики просветили) – это такой препарат, который превращает буйных сумасшедших в тихих и ласковых овечек. На меня же он произвел такое действие: я не могла пошевелить ни одним членом, а мое тело превратилось в один сплошной комок дикой непрерывной боли. Это длилось часов 12. К тому же, меня поместили в отдельную палату, а ночью ко мне впустили настоящую больную – наверное, для устрашения; как я теперь понимаю, у женщины был послеродовой психоз. Она подошла ко мне – может быть, Кулешов надеялся, что она меня придушит? У меня душа ушла в пятки, но нет – к разочарованию моего мучителя она только брызнула мне из груди молоком прямо в глаза и после этого забилась в угол, вскоре ее увели.
На следующий день, когда я пришла в себя, наш гуманный медик стал требовать, чтобы я извинилась. А когда я удивленно спросила – за что же я должна извиняться, ведь то, как я его охарактеризовала, исключительно соответствует действительности, он совершенно вышел из себя и сообщил мне, что я очень пожалею о своем поведении (тоже мне Зоя Космодемьянская, тьфу!) и что меня отправят в такое место, где очень быстро из меня сделают идиотку, у которой изо рта течет слюна.
В это самое «место» меня сопровождали два мужика, и, хотя им даже выдали наручники (они мне их только продемонстрировали), меня совершенно не караулили, заявив мне, что они прекрасно понимают, что никакая я не сумасшедшая, а просто глупая девка, влипшая в какую-то темную историю, всю дорогу пили и оставляли меня одну, так что я вполне могла сбежать по дороге, но я (ведь «моя совесть была чиста»! ), решила испить чашу до конца. Молодая была, сил было много, тянуло на подвиги. Еще я успела (какая-то мелочь завалялась в карманах моей одежды) дать телеграмму бабушке в Казань. Как потом выяснилось – получив эту телеграмму, мои родственники чуть ли не завалились в глубокий обморок, а бабушка, можно сказать, в чем была, в ту же секунду побежала на самолет спасать свою несчастную внучку, которую везли в глухую тайгу, где содержались самые безнадежные психи (эта больница была знаменита на всю Сибирь).
Как сейчас помню – ощущения от того, что я увидела, были весьма острые. В основном, было страшно глядеть на всех этих несчастных людей, ведь я с таким никогда не сталкивалась. Я не буду всего этого описывать, отсылаю тех, кому это может быть интересно, к фильму «Полет над гнездом кукушки».
Но карательная система неожиданно оказалась довольно мягкой. Наверное, тут сыграли роль несколько факторов. Во-первых, моей судьбой прониклась женщина – жена главного врача и сама врач, я ей почему-то понравилась – может быть, своей начитанностью, не знаю, чем еще, но я вызвала ее неподдельный интерес. А может быть, она просто оказалась хорошим порядочным человеком, не захотевшим ломать жизнь совсем зеленой девчонки. Во-вторых, ради меня прилетела комиссия аж из трех человек из Москвы. Они побеседовали со мной, и главный из них, симпатичный и довольно молодой (на каких-нибудь восемь-десять лет старше меня) сказал, что понимает, почему я сюда попала, как он выразился – вела я себя довольно опрометчиво, а в нашей жизни нужно быть осмотрительнее, не дразнить гусей… И что на первый раз мне это сходит с рук, так как они меня выпускают, но чтобы я задумалась и в будущем никогда… чтобы сделала капитальные выводы из всего случившегося… и так далее в том же роде. Я обещала. В-третьих, буквально через два дня появилась моя бабушка, успевшая побывать в самых высоких инстанциях. Она привезла мне огромную сумку всякой вкусной еды, среди которой были и апельсины (это сейчас они на каждом углу, а тогда, в конце 60-х, были страшным дефицитом). Но я не смогла этого есть.
Моя благодетельница-врач после первой же нашей беседы поместила меня в маленькую отдельную палату в конце коридора (а самую первую ночь я провела в огромной палате №6, битком набитой жуткими физиономиями хронических больных). То ли запах апельсинов среди этого смрада привлек этих несчастных, которые годами были лишены всего на свете, то ли почувствовали они что-то необычное звериным своим чутьем (а они и были уже почти животными – и болезнь, и вся эта страшная беспросветная обстановка давно лишили их человеческого облика), но они стали заглядывать ко мне в комнатку, и кусок застрял у меня в горле: я раздала им все содержимое этой бабушкиной сумки, которую она с трудом приволокла, чтобы как-то утешить любимую внучку, попавшую в такую беду, – раздала все до последней крошки.
После этого смертельно напуганная бабушка сгребла меня в охапку (она боялась, что инициаторы всех этих дел из моего родного городка могут еще раз предпринять что-нибудь в этом роде, и тогда уже мне не сдобровать) и увезла сначала в Казань, а оттуда я уехала в Петербург, который в то время назывался Ленинградом. Но это совсем уже другая история.
Глава 2
Город Санкт-Петербург – особенный город. Для каждого он свой, и в моей жизни он сыграл гораздо большую роль, чем даже сибирский городок, в котором я родилась. Теперь, когда я объездила полмира и видела множество знаменитых своей красотой и уникальностью городов – ну, например, Париж, Венецию, Прагу, я могу со всей ответственностью сказать, что Санкт-Петербург затмевает все на свете. Может быть, есть города еще красивее, чем он. Но то, что ощущаешь, когда ходишь по его улицам, не ощущаешь больше нигде. Может быть, это ощущения только русского человека, и ни один иностранец ничего подобного не испытывает – я не знаю. Но я знаю сколько угодно людей, которые любят этот город, как сумасшедшие, жить без него не могут, и в каком бы городе ни протекала их жизнь, они еще и еще возвращаются в Петербург: он, как огромная планета, всегда держит их в поле своего притяжения.
Мне же там больше делать нечего, для меня это город мертвых. Все, кого я любила там в молодости, умерли, и я, молодая, тоже мертва. Не уверена, что стоит воскрешать эти годы – вполне возможно, что я буду писать это со слезами на глазах, а сентиментальность – качество, которое никогда не было мне до сих пор присуще, раньше я презирала это. Видимо, с годами человек становится более мягким – или более уязвимым, что понятно – нельзя остаться невозмутимым и спокойным, если жизнь тебя как следует потрепала, а синяки и раны в душе хоть и невидимы, но гораздо болезненней, чем на теле.
Когда я училась в музыкальной школе, к нам часто приезжали музыканты из больших городов, причем многие из них были с мировым именем, тогда считалось не зазорным такому артисту приехать в маленький городок и выступить перед детьми или студентами музыкального училища. И уже после того, как я закончила школу, я часто приходила на такие концерты, которые происходили в маленьком учебном зале музыкальной школы. И однажды я пришла на концерт пианиста – преподавателя Ленинградской консерватории, и это стало отправной точкой всей моей дальнейшей жизни, всего того, что случилось со мной потом.
Случайно получилось так, что мы познакомились, и почему-то нам захотелось пообщаться подольше, и пианист пригласил меня в гостиницу, где мы проговорили всю ночь. Ничего банального и пошлого не было – потому что я была молоденькая чистая девушка, а он не был донжуаном, соблазняющим неопытных девушек, это один из самых порядочнейших людей, встреченных на моем пути. (Он жив до сих пор и сейчас уже много лет живет за океаном и, к сожалению, не испытывает тоски ни по Петербургу, ни по мне – я вообще не знаю, что он за человек, чем он живет и что он чувствует, потому что не видела его уже лет 30, а мои полудетские воспоминания о нем и о том, что было между нами, в общем, ничего не стоят, это как легкая рябь на воде от ветерка – кажется, я украла этот образ у Стефана Цвейга из его «Письма незнакомки»).
Когда я приехала в Ленинград после описанных в первой главе событий, естественно, что я в первую очередь разыскала пианиста – ведь я больше никого в Питере не знала. А он привел меня в дом к своему педагогу – профессору консерватории, ведь мне негде было жить. Надежда Иосифовна была восьмидесятилетней и очень больной, в домработницы тогда шли случайные бабы, пьяницы и даже мошенницы, потому что «нормальные» советские люди всегда имели «нормальную» работу – на заводах и фабриках, безработицей в СССР, в отличие от нынешних времен, не пахло, право на труд было священным правом, записанным в советской Конституции. Так что пианист правильно рассудил, что мы будем полезны друг другу.
Я очень жалею, что не встретила Надежду сейчас, когда я такая старая и такая мудрая (это такое идиоматическое выражение, не принимайте его всерьез. «Такая мудрая» совершает ТАКИЕ глупости, которые и не снились той в небытие ушедшей девчонке). Представляю, как развлекалась она (внутри, конечно), слушая все те бредни, которые я выдавала в 20 лет! Наше общение длилось недолго – года три. Теперь-то я поняла, что она была центральным человеком моей жизни. Ни с кем и никогда мне не было так интересно, как с ней, да сейчас и быть не может таких людей: огромный талант, соединенный с поистине энциклопедическими знаниями, с потрясающей эрудицией. Ей можно было сказать все – она все понимала. Конечно, та дурочка, которой я была, не смогла в полной мере оценить эту гигантскую по силе духовности личность. Наверное, в прошлом, а тем более, в позапрошлом веке таких людей было много, но в нашем двадцать первом веке они вымерли, как динозавры. Да и что им делать в нашем убогом обществе, где вершиной искусства считается какая-нибудь «Фабрика звезд»???
Я была глупой девицей, и нет мне прощения – я убила Надежду собственными руками. Не буквально, конечно, но какая разница? Мне надо было беречь ее, сдувать с нее пылинки, а я вела себя, как обыкновенная заурядная эгоистическая молодуха. Я же не могла понять в то время, какое сокровище я имею, как мне повезло, как редко такое случается в этой жизни!!! Но что толку теперь убиваться – ничего нельзя вернуть назад, а если бы можно было, то я вернула бы только ее (и, конечно, моего любимого сыночка – Дэндика), а больше в этой длинной жизни не было у меня ничего ценного, ни о чем я не сожалею и ничего мне не нужно – все остальное прах и пыль.
Хочу описать самый момент ее смерти, потому что тогда ярко проявились мои экстрасенсорные способности, которыми я обладала всегда, просто не придавала им никакого значения, можно сказать, специально ими не пользовалась – а зачем? Я ведь уже писала, что я всю свою жизнь провела во «внутренней эмиграции», а экстрасенсы, насколько я знаю, должны тесно общаться с людьми. Я же по большей части не испытывала удовольствия от такого общения. С природой – да! С животными – да! До того момента, как моя дочь своим мерзейшим предательством отравила мне самое замечательное, чем наградила нас природа, – материнство, я очень любила маленьких детей. Но никогда не было, чтобы общение со взрослыми особями протекало без того, чтобы в итоге я не была обкакана ими с ног до головы…
Так вот, о смерти Надежды – я сидела и писала письмо, это было поздней ночью, и вдруг в 4 часа утра у меня начались какие-то странные ощущения, отмахнуться от них было невозможно, я даже растерялась. Во-первых, у меня – у молодой и здоровой, началась в груди дикая боль, там все сжало, я не могла дышать. Во-вторых, как будто какая-то сила схватила меня за шиворот и тащила в комнату, где спала Надежда (там еще спала женщина-домработница). Я вжалась в кресло и сопротивлялась – я не понимала, что со мной происходит. Через минуты 3—4 все прошло, будто и не было. Я посидела еще немного, совершенно ошеломленная всем этим. Я ничего не поняла, а это было так просто – в этот момент Надежда умерла, у нее был инфаркт, случившийся во сне, и я все это восприняла почти как собственную смерть, только все-таки это было не со мной – я это осознавала, что я чувствую все это немного как бы со стороны.
Но все это было несколько позже, а сначала, попав в Ленинград, я познакомилась с дворником филармонии по фамилии Шапиро (короткий анекдот – «еврей-дворник»), наш с ним внезапный «роман» тянулся несколько лет, как вялотекущая шизофрения (таки отразилась на мне история с психушкой!..). Благодаря этому знакомству я стала «вхожа» в оба зала филармонии – и Большой, и Малый. Они стали для меня буквально родным домом, я туда шастала чуть не каждый вечер, переслушала всех и наших, и заезжих музыкантов (а в то время ездили в Питер многие-многие знаменитости, например, умерший впоследствии от СПИДа любимый ученик Караяна – Эмил Чакыров. Если бы он остался в живых, он потряс бы мир, который потерял в его лице гения, я уверена в этом!). А репетиции Мравинского я слышала частенько прямо у себя (то есть у Шапиро) в дворницкой каморке, которая располагалась над Большим Залом.
Короче, если начать все вспоминать и описывать, то моя книга будет только о музыкальной жизни Ленинграда той поры, но я буду тогда не я, а Ираклий Андронников, знаменитый рассказчик, чьи «Воспоминания о Большом Зале» иногда показывают по каналу «Культура» и сейчас.
После смерти Надежды я уехала в свой родной город и три или четыре месяца рыдала не переставая – да что толку??? Правда, это отразилось на моей аппетитной фигурке – я стала суперстройной и изящной, потеряв со слезами больше двадцати кг, и до рождения дочери оставалась в этой поре, что мне очень шло. Приехав снова в Питер (ну куда ж бы я делась еще, кроме этого города, главного в моей судьбе?!), я решила поступать в университет, ведь бабушка (которая в тот момент еще была жива) так об этом мечтала всю мою жизнь! Почему-то я выбрала факультет романо-германской филологии, может быть, потому, что любила французский язык и даже баловалась переводами стихов. Вот был такой салонный поэтик Франсуа Коппе – я уж теперь и не помню, о чем он там чирикал, но в молодости он мне нравился. Правда, больше всех мне нравился все-таки Бодлер, но его переводили еще до моего рождения наши большие поэты типа Цветаевой, и что-то в молодости моя рука не замахнулась посоперничать с великими, я всегда (и по сю пору) с пиететом относилась к творцам настоящего искусства.
Но экзамены в университет начинались в августе. Я уже прошла собеседование – профессорша-преподаватель выбранного мной факультета, долго и обстоятельно побеседовав со мной, заявила, что я обязательно поступлю, да и конкурс был небольшой, кажется, всего три человека на место. И черт меня дернул пройти мимо Академии – правильно и полностью она называлась Институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина – вступительные экзамены здесь начинались послезавтра! Я, узнав, что конкурс 25 человек на место, решила, что я ничего не теряю, университет все равно у меня в кармане, а в Академию я при таком конкурсе явно не поступлю, но ведь интересно же потолкаться в этих знаменитых стенах, приобрести какой-то жизненный опыт, а впрочем (и это одна из самых плохих черт моего характера) я долго не раздумывала и не рассуждала, а просто бросилась с головой в омут.
Пишу я неплохо, довольно складно, это у меня с детства – все сочинения всегда получали высший балл, и вообще я была любимицей гуманитарных педагогов, которые, когда на уроки приходили всяческие комиссии, вызывали только меня. Кто-нибудь, типа моей соседки по деревне Лили (она бывшая москвичка с Арбата, но уже лет 17 живет в деревне, а про деревню речь впереди), скажет, что я ударилась в невероятное хвастовство (Лиля не верит ни единому моему слову, когда я при ней рассказываю что=либо из своей бурной жизни), но клянусь, что не приврала ни на йоту – уж что есть у меня, то, как говорится, не отнимешь. Так вот первый экзамен был что-то типа эссе по какому-либо художественному произведению – картине или скульптуре. На столе лежала куча неподписанных фотографий этих произведений, ты подходил и выбирал. Мне, как сейчас помню, достались «Бурлаки на Волге» Репина. Не составило труда насочинять что-то там про «отражение тяжелой жизни русского народа», при моей абсолютной грамотности, конечно, был поставлен за это высший балл.
Второй экзамен тоже был по специальности – я забыла сообщить, что поступала я на факультет теории и истории искусства, то бишь собиралась быть искусствоведом (то есть, не собиралась, так как была уверена, что не поступлю…). Экзамен у меня принимала старушка Чубова – мировая знаменитость, заведовавшая каким-то там отделом в Эрмитаже, академик! – я этого тогда не знала, но видела, как абитуриенты выскакивали от нее красные, потные и с двойками. Старушка поимела меня по полной программе: полчаса она пыталась меня подловить на незнании шедевров русского искусства, кидала мне фотки одну за другой, наконец, закрыв одну из фотографий, оставила только кончик туфельки и ехидно спросила: «А это кто?». Господи, я и это знала, правда, чисто случайно – у меня валялась книжка, на обложке которой красовались эти девушки-смольнянки, и их ножки в туфельках машинально застряли в моей памяти. Когда я ей ответила, старуха была поражена и что-то черкнула в моей абитуриентской книжке. «Ну, все. Двойка, " – подумала я, но раскрыв ее уже за дверью, увидела, что это, наоборот, пятерка.
А дальше все покатилось как по маслу. К сочинению нас осталось человек 50, и только двое из нас – я да блатная Катя Лукина – получили пятерки. Еще два экзамена (литературу устно и историю) я, естественно, тоже сдала на пятерки, как ни силились принимающие экзамен педагоги меня срезать, но им это не удалось – было бы странно, если бы я, много лет проведя с книжками, то есть, буквально, ела, спала и жила с классиками и не только, чего-то бы не знала по несчастной школьной программе… Вот так я поступила в Академию, и университет, мечта моей бабушки, накрылся медным тазиком, ибо я сочла нецелесообразным забирать документы и снова сдавать экзамены. Потом, уже на первом курсе, одна женщина-педагог сказала мне в разговоре: «Ну вы же блатная…», и, когда я пыталась возразить, что это абсолютно не так, она заявила: «А тут не блатных не бывает». Видимо, такова была система приема в советские престижные вузы (не знаю, изменилось ли что-либо сейчас – что-то сильно в этом сомневаюсь…).
Глава 3
Как я уже писала, в Петербурге (тогда Ленинграде) я попала в дом профессора Голубовской. У нее была племянница, Бэлочка, муж которой, Юра, очень любил Надежду Иосифовну и навещал ее. Он был старше меня лет на двадцать, блокадный ребенок, и вообще какой-то очень потрепанный жизнью. В 40 лет он выглядел на шестьдесят – седой, лысый, маленький хрупкий еврей. Но его глаза… это были глаза Иисуса Христа, они горели на его лице, я никогда не видела таких пронзительных глаз – с него можно было писать икону.
Теперь я, пожилая, сама сильно потрепанная жизнью тетка, не могу понять, почему я так намертво влюбилась в этого человека. Он был никакой – никто и звать никак. Есть такие люди – они говорят, говорят, много говорят – и все ни о чем (этим грешили, по крайней мере, два политических деятеля: Горбачев и ныне начисто забытый Бурбулис). И Юра был из их числа. Но мне все это было не важно. Я была молодой – и первый попавшийся нетипичный мужик произвел на меня неизгладимое впечатление. Меня перестала интересовать вся остальная жизнь – свет сошелся клином на Юре. Я бросила институт. Я забыла все на свете. Я сошла с ума – я любила (или мне так казалось – что одно и то же). Правда, все это тянулось довольно долго, даже не один год. Сначала (года три) продолжались нескончаемые разговоры – ни о чем. Теперь я уже не помню – кажется, он жаловался на то, что его никто не понимает, женщины (его две жены) якобы тоже никогда не понимали и не любили его, на первой его женил отец, на второй он женился по ошибке… Я, при всей моей склонности к «романтизму», первый раз в жизни захотела реально принадлежать любимому мужчине. (Вообще, в молодости я была ужасная дура и считала всяческие физические проявления в человеке чем-то унижающим и грязным. Мне казалось, что человек должен стремиться только к духовному и высокому, а все остальное не имеет права на существование – вот такая чушь царила тогда в моей башке, я же была очень много читающим ребенком, причем всяких там Золя и Мопассанов я начисто отвергала.) Но время шло, а Юра был до того нетипичен, что не собирался «поиметь» молодую девку, которая, как говорят у нас в народе, сама вешалась ему на шею. Когда я поняла, что он не будет моим, я отстала от него. Я до сих пор не пускаюсь в безнадежные предприятия, которые лишены всякого смысла. Побарахтавшись немного, я отступаюсь – и, наверное, не существует на свете нормальных людей, которые пытаются проломить головой каменную стенку.
Итак, я сказала себе: «Отстань от него, как-нибудь сможешь забыть и пережить». Но вдруг он позвонил и огорошил меня сообщением, что собирается «начать со мной новую жизнь». Ну как я могла бы отказаться?!! Жить нам было негде. Почему мы не сняли какую-нибудь комнатенку – непонятно. Очевидно, Юра в практической жизни был еще хуже меня, витавшей в романтических грезах. Какое-то время мы ютились в двухкомнатной квартире его отца, старика Ионаса, которому, видимо, очень скоро все это сильно надоело (наверное, мы нарушали покой и привычный уклад его жизни), и он постарался разрушить нашу «идиллию». И вообще, вполне понятно: одно дело – мышление двадцати с чем-то летней влюбленной девушки, которая думает только о своей любви и любимом человеке, а другое – практические соображения умудренного жизнью старого еврея, который знает, что кроме любви еще нужно есть-пить и где-то и на что-то жить.