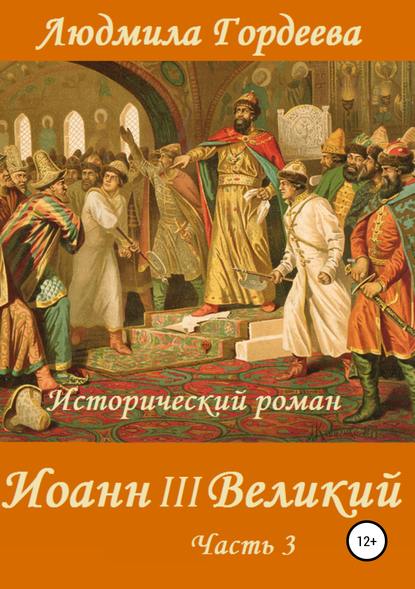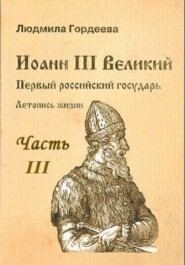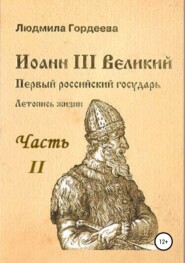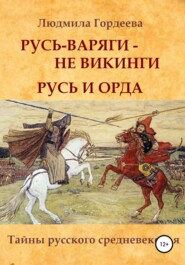По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иоанн III Великий. Книга 2. Часть 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Феофил приблизил ожерелье к лицу, словно прощаясь с ним и со своей мечтой, с Марфой, и, чтобы не теребить себе душу, быстрее убрал в коробку, засунул глубже в сундук. Так и не смог он порадовать ни себя, ни Марфу. Стало быть, не судьба.
Он посмотрел на отца Сергия. Тот, так же сгорбившись, сидел на лавке подле стола и глядел на дрожащее яркое пламя свечи. В подвале имелась неплохая вентиляция, все тут было продумано для сохранения и рухляди, и человека.
Архиепископ вновь склонился над сундуком и не без усилий поднял из него тяжелый резной ларец, поднес к столу, открыл. Осторожно развернул холстину и вынул тяжелый кованый пояс из серебра с толстым слоем мерцающей под пламенем свечи позолоты.
– Не помнишь, сколько в нем весу? – спросил у казначея. – Гривенок двадцать?
– Да, почти так, девятнадцать с половиной гривенок, – уточнил казначей, и лицо его оживилось. – Редкая работа, многоценная вещь. Неужто, владыка, не пожалеешь, отдашь?
– Как пожалеть? Репехова спасать надо. А уж по совести говоря, и себя тоже, и весь народ новгородский. Не то так и будет тут супостат стоять со своим воинством, дороже обойдется! Села и так все ограблены, обчищены, не знаю, как народ зиму переживет, придется хлеб закупать. Не умаслишь – снова аресты начнутся.
Покопавшись еще в сундуке, Феофил прибавил к поясу еще и цепь золотую в десять гривенок, столь крепкую и толстую, что на ней можно было самого свирепого пса удержать. Выставил несколько больших золотых кубков и ковш весом в одну гривенку, да приложил ко всему этому еще и десять золотников. На это богатство можно было с десяток храмов построить, либо целый город месяц прокормить, либо… Да много чего можно было сделать на эти деньги. Однако приходилось распорядиться этим богатством совсем по-иному. С охами и вздохами записал отец Сергий предстоящую потерю в свою учетную книгу.
Подносить подарки государю помогал Феофилу молодой крепкий монах – служитель храма, один архиепископ был не в силах удержать огромный поднос с дарами. Иоанн внимательно рассмотрел каждое изделие, приподнял тяжелый пояс, прикинув его вес, позвенел красавцами кубками, коснувшись ими друг о друга, остался доволен.
– Что ж, угодил, богомолец наш, – похвалил он владыку. – Ну и я милость свою Новгороду покажу, больше никого не трону, хоть изменников здесь целый обоз можно насобирать.
Тут и показалась Феофилу та самая подходящая минута, когда с просьбой обратиться кстати.
– Прости, государь, великодушно, – склонился он перед Иоанном, – сделай милость и мне, и всему городу, прости нас за вину нашу, а более всего прошу, помилуй слугу моего и первого помощника Репехова…
Иоанн тут же нахмурил брови и отвернулся от Феофила:
– Знаешь, что вина его перед всеми доказана, на преступных бумагах подписи его, отчего просишь за преступника? Или сам с ним заодно?
Голос Иоанна гремел на всю трапезную, где проходила церемония вручения подарков после обеда. Феофил сжался от страха, но одернул себя: чему быть, того не миновать… Но рта больше не открывал.
Другие новгородцы поторопились сгладить неловкость, бывшие посадники и бояре преподнесли государю от всего города собранные пятнадцать тысяч рублей, да десять тысяч серебряных денег новгородских, да десять же тысяч золотых немецких и угорских. Они были разложены по кожаным мешкам, суммы вслух громко называл один из дарителей. Государев казначей все записывал.
Затем горожане потащили дары каждый от себя – снова серебро и золото, сосуды и рухлядь разную, меха: соболи, куницы и прочее. Получили свое и братья – Андрей Меньшой и троюродный Василий Михайлович, сын князя Белозерского. Не обидели новгородцы и других московских гостей незваных, князей и бояр. Когда подсчитали все полученное государем серебро, оказалось, что весило оно около двух тысяч гривенок, то есть пятьдесят пудов. Не считая веса остальных подарков. Чтобы вывезти все это добро из Новгорода, понадобился специальный обоз с крепкими лошадьми. Ну а весь великокняжеский поезд, тронувшийся в обратный путь, растянулся чуть ли не на версту.
По традиции провожали московских гостей до первого стана. Тут государь угостил всех знатным обедом, вновь принял дары на дорожку – несколько бочек вина да меда, сам одарил провожатых – владыку и разжалованных посадников, всех знатных новгородцев.
При всех еще раз наказал своим наместникам, чтобы следом, не мешкая, отправили в Москву вечевой колокол новгородский. Не хотел он ехать с ним в одном обозе. Он спешил, а тяжелый груз мог задержать в пути. Да и знал, что вопль будет стоять по тому колоколу на весь город, и не хотел уезжать под такое сопровождение. И не ошибся: рыдали новгородцы и шли за своим символом свободы толпами несколько десятков километров, несмотря на ругань и окрики приставов и охранников московских. Правда, после арестов рыдали без угроз и проклятий, боялись доносов и гнева государева. Уставая и замерзая, потихоньку отставали.
5 марта 1478 года, пробыв в пути немногим более двух недель, после пятимесячного отсутствия, государь, самодержец и великий князь всея Русии Иоанн Васильевич возвратился домой. Следом привезли и плененный им колокол новгородский. Повесили его на почетном месте: на звонницу Ивановской площади – с прочими колоколами звонить. И слился его громкий чистый голос с другими, создавая прекрасную гармонию.
Глава IV
Паломники
Смерть Пафнутия Боровского разрушила то напряженное, лишь внешнее спокойствие, которое держалось на одном только ожидании перемен. Событие свершилось, и насельники обители, погоревав один-единственный день, начали бурно обсуждать, как жить дальше.
Иосиф не стал медлить. Сразу же после похорон, как только возник вопрос, кто возглавит монастырь, – а произошло это в трапезной перед обедом, – он объявил во всеуслышание, что преподобный завещал ему стать во главе обители.
После небольшого замешательства и даже изумления братия начала шептаться, и один из иноков, Герасим Смердяков, от имени несогласных вслух спросил:
– Отчего же о том никто не слышал? Почему старец при всех не сказал о своем решении?
– Он доверил мне обитель перед самой своей кончиной, когда мы наедине говорили о ее будущности, – уверенно отвечал Иосиф. – После того учитель уже не общался с братией, кроме того, не хотел перед смертью быть причиной наших пересудов, а мы вот и теперь уже начинаем осквернять его память, – громко упрекнул Иосиф недовольно переговаривающихся между собой иноков.
Его слова возымели действие, и обед прошел спокойно. Братья помянули преподобного, мало того, сдержанно отнеслись к тому, что новый игумен занял его место за столом. В принципе все знали, что Пафнутий с уважением относился к Иосифу, любил его, доверял. К тому же, не всегда отдавая себе отчет, многие из них признавали его превосходство над собой в грамоте, в знании Священного Писания, привыкли видеть в центре на всех главных службах в храме. Знали о его строгости и трудолюбии. Словом, сначала насельники обители лишь пытались осознать новшество и понять, чем оно им грозит.
Однако уже на следующий день в монастыре началось брожение. Появились сомневающиеся, которые не очень-то доверяли словам самопровозглашенного преемника, искали подтверждения, обсуждали случившееся.
Не сговариваясь, единомышленники и родные братья Иосифа собрались в его комнате – узнать подробности. Иосиф частично изложил им все, как было на самом деле, о своем разговоре с покойным, о том, что сам предложил себя в игумены, желая навести в обители порядок. Сказал и о том, что Пафнутий не сразу согласился на это, говоря, что Пречистая сама устроит дела в своем доме, но что, подумав, будто бы одобрил его предложение. Иосиф сам верил в то, что говорил, не стали подвергать сомнению его рассказ и товарищи, видя, что он не скрывает всех обстоятельств дела.
– Ты, брат, гляди, не рассказывай о подробностях разговора с преподобным всем остальным, – посоветовал Иона Голова, – только лишние сомнения посеешь.
Даже общее горе не сменило его привычек: он был подтянут, аккуратен, чист, его длинные русые кудри и борода были, как всегда, до блеска намыты и расчесаны.
– И без того ропот в монастыре идет среди иноков, не все порядка здесь хотят, – продолжил он, – привыкли последнее время при игумене жить каждый по своей воле! – Иона хорошо знал, как, впрочем, и многие другие иноки, что новый игумен – сторонник более жесткой дисциплины, и сам был не против порядка.
– Да, брат, думаю, что противников у тебя будет предостаточно, – подтвердил Герасим Черный. – Но знай, что мы с тобой, мы тебя не оставим.
– Кассиан Босой, Акакий и Вассиан Санины согласно закивали:
– Это уж верно!
– Спасибо, братья, мне теперь ваша поддержка просто необходима! Я этого не забуду.
Ропот в монастыре продолжался. Противники нового игумена бросились в первую очередь к Иннокентию, который находился почти неотлучно возле покойного до самой его смерти. Однако, к своему разочарованию, никаких нужных сведений от него добиться не смогли. Иннокентий один из немногих учеников преподобного, кто был глубоко и искренно подавлен утратой учителя. Слезы то и дело наворачивались ему на глаза, печаль давила горло. Однако он видел, замечал, как быстро его собратья забыли о покойном и начали заниматься самыми разными мирскими делами, не боясь уже никакой управы. Он понял, что сдерживало многих лишь присутствие самого игумена, а вот не стало его, и каждый показал свое истинное лицо. Уже через день половина братии перестала постоянно ходить на церковные службы и выстаивать их до конца. Случалось, к концу молебна в храме оставались лишь несколько монахов, среди которых, кстати, постоянно почти находился Иосиф. Иные, когда хотели, отлучались за стены обители, громко спорили, собирались компаниями и даже пили хмельное. Допоздна гудели голоса в кельях, а по утрам эти грешники подолгу спали, забывая о своих обязанностях, о послушании. В общем, пошел разброд.
Все это не нравилось перенявшему от старца стремление к высокой духовности и смирению Иннокентию. Он понял также, что мелькавшая у него идея самому стать преемником Пафнутия – наивна, он не сможет одернуть и укротить этот разболтавшийся народ, слишком мал для этого его авторитет. Оттого, когда обратились к нему с вопросом, правда ли, что Учитель доверил Иосифу свой монастырь, он промолчал, лишь глаза его наполнились слезами. Иноки восприняли это молчание как подтверждение слов Иосифа, на время ропот и сомнения стихли.
Три полномочных посла-старца отправились вскоре в Москву, чтобы сообщить государю о монастырских делах и просить согласие на поставление нового игумена – Иосифа Санина. Тут заминки никакой не вышло, ибо Иоанн уже знал от протопопа Феодора о воле преподобного и одобрил его выбор.
Но оказалось, что стать игуменом не значило еще стать духовным авторитетом для монахов, не значило появления возможности устроить в обители жизнь по-своему, навести порядок. Иосиф повсюду встречал сопротивление и непослушание. Старшие по возрасту, – а их тут было более половины братии, – слушали его снисходительно и поступали по-своему, младшие на словах соглашались, на деле же поступали по-своему. Когда он на совете старейшин предложил общими усилиями наладить дисциплину, ввести строгий общежительный устав, как более пристойный для монашеского образа, большинство братии не согласилось.
Побившись, как рыба об лед, и не исполнив того, ради чего он, собственно, и взялся за пастырский подвиг, Иосиф принял неожиданное решение. Собрав своих товарищей у себя все в той же прежней келье, – в Пафнутьеву он перебираться не захотел, и она пока оставалась пустовать, – новый игумен сообщил им:
– Я решил временно уйти из монастыря.
Герасим Черный, Кассиан Босой, Иона Голова и Вассиан Санин, сидевшие на своих привычных местах, замерли от неожиданности. Первым опомнился Герасим – он по обычаю сидел напротив Иосифа за его столом и чертил пером наброски заставок к своей новой книге. Его рука замерла в воздухе вместе с пером, черные брови взметнулись:
– Когда это ты придумал, брат?
– Сам слышал, сегодня совет старейшин все мои предложения отверг. Я для них не авторитет. Значит, все у нас будет по-прежнему, а то и хуже. Теперь, без Пафнутия, каждый сам по себе. Не обитель, а постоялый двор.
– Ты уж под горячую руку не обижай всех сразу, – огорченно заметил Кассиан, пошевелив красными пальцами своих босых ног. – Не все же мы так уж плохи.
– Не сердись, брат, ты знаешь, я не о вас говорю. Мы потому и вместе, что у нас иные задачи, чем у тех, кто пришел в обитель не душу от скверны очищать, а от мирских забот отдохнуть, за чужой счет понежиться.
– Да я не сержусь, может быть, ты и прав, – согласился Кассиан. – Ты внимательнее по сторонам смотришь, мне же недосуг, я больше один пребываю или с лошадьми. Только в соборе бываю да в трапезной, вот еще у тебя изредка. Мне все люди светлыми кажутся, бесхитростными.
– Потому что ты сам чистый человек. Наверное, в идеале каждый инок так жить должен, но для этого надо иметь подходящие условия, а их кто-то создавать должен, стало быть, и грешить, – со значением рассуждал Иосиф. – Думаете, наш Пафнутий, будучи игуменом и хлопоча о монастырских делах, не отступал от правил, не суетился? Грешил, и страдал, и каялся. Но продолжал делать все это ради нас, ради устройства нашей жизни. И я неспроста такую долю избрал. Хотел создать в монастыре наилучшие условия для служения Господу, по единому общежительному уставу, без свар и обид, по-христиански. Только ничего у меня не получается. А растрачивать силы свои и душу напрасно я не хочу.
– Но зачем уходить? И куда? – вновь спросил недоуменно, упершись в товарища темными глазами, Герасим.