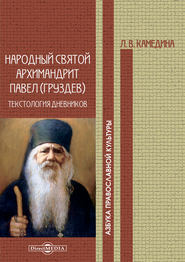По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Духовные смыслы русской словесной культуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В современной полемике по поводу первичности духовного или исторического смыслов по-прежнему защищается примат исторической поэтики и не признаётся контекст религиозности. Полемичным в современной науке остаётся вопрос, что считать Высшим: вертикальное измерение текста с духовным смыслом [В.С. Непомнящий, 2001] или горизонтальное, историческое [С.Г. Бочаров, 1999]. Одни исследователи в структурную вертикаль русской культуры ставят Историю, Традицию (Н.Л. Бродский, ДС. Лихачёв, Ю.М. Лотман), другие – Просвещение, Ум (В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, В.К. Кантор), третьи – Идеологию (В.Я. Кирпотин, Н.Г. Чернышевский), иные – Народную Правду (С.П. Залыгин, М.А. Шолохов, Т.Л. Чекунова и др.), а иные – Патриотизм (А.П. Ланщиков, В.В. Кожинов). Этот вопрос сохраняет полемичность и в зарубежных исследованиях. Например, П. Рикёр в вертикальное измерение культуры ставит миф, А.Ж. Греймас – культурные коды мира, Ж. Делёз – историю, П. Бурдьё – социальную деятельность. Думается, что оба измерения должны присутствовать, образуя синтез смыслов духовной целостности культуры и обязательное включение в произведения русской литературы органически присущего ей православно обусловленного религиозного смысла, как исторического контекста русской культуры.
В гуманистическом чувственном искусстве, по мнению П.А. Сорокина, «рано или поздно релятивизм уступает место скептицизму, цинизму, нигилизму <…>, граница между истинным и ложным, правильным и неправильным исчезает, а общество погружается в состояние настоящего морального, умственного и культурного хаоса» [Сорокин, 1992, с. 471]. Художественная изощрённость может достичь своего апогея, и тогда текст исчезает, появляются подделки, переделки, тексты-цитаты. Читатель уже и сам не в состоянии отличить истинное от ложного. Проблема освоения духовного смысла в культуре обостряется ситуацией бездуховности.
И.А. Ильин различает два типа художников – художники внешнего опыта и художники внутреннего опыта. «Внешний опит, – пишет И.А. Ильин, – прилепляет нас к чувственным восприятиям и состояниям. Мы обращаемся к миру – зрением, слухом, обонянием и осязанием, воспринимаем его мускульными ощущениями, пространственным созерцанием, чувством холода, тепла, боли, тяжести, голода ит.д.» [Ильин, 1991, с. 13]. Внутренний же мир, по мысли И.А. Ильина, «уводит нас от чувственных восприятий и состояний и открывает нам иной мир, мир, воспринимаемый нечувственно», при этом мир материальный, вещественный перестаёт быть для человека главным [Ильин, 1991, с. 13]. К внутреннему миру философ причисляет мир добра и зла, греха и святости, божественного откровения, религиозного смысла жизни. В этом мире все страсти «одухотворяются» и получают некое священное значение. Писатели такого художественного акта называются И.А. Ильиным «художниками внутреннего опыта» [Ильин, 1991, с. 14]. Например, Л.Н. Толстого он причисляет к писателям внешнего опыта, а Ф.М. Достоевского – внутреннего опыта.
А.С. Пушкин, по его мнению, относился и к тем, и к другим. Однако ни эстетическая материя,, ни художественные образы, каким бы талантливым писатель ни был, не будут отвечать запросам человеческого духа, если они не будут направлены на Главный Предмет, ради которого и создаётся совершенное художественное произведение [Ильин, 1991]. И.А. Ильин подчёркивает недостаточность эстетического подхода к художественной словесности. По мнению И.А. Ильина, читатель – всегда соучастник творческого процесса, со-художник. «Когда художник творит своё произведение, – пишет И.А. Ильин, – то он втайне мечтает о «встрече» [Ильин, 1991, с. 3]. Он всегда надеется, что читатели услышат его слово и понесут его в себе, потому что «искусство, подобно молитвенному зову», желает быть услышанным. Каждый писатель мечтает о «состоявшейся художественной встрече» и испытывает страшные муки и томление одиночества, если такая встреча не состоялась, если писатель остался непонятым [Ильин, 1991, с. 3].
Воспитание не духовной, а социальной личности ставится в гуманизме на первое место. Социальность в гуманистической позиции не затрагивает религиозной сферы человеческого мира, в социальности всегда присутствует неполнота. Воспитание интеллектуализма и социальности через художественную литературу не решает проблемы смысла жизни конкретного человека, не отвечает на запросы целостности его духа, не вводит его в сферу ответственного поступка. Зарубежные (Г.У. Бальтазар, Э. Жильсон, Тейяр де Шарден) и российские учёные (А.И. Осипов, М.Н. Громов, А.С. Панарин) утверждают, что гуманизм должен соединиться с христианством, необходимо говорить о христианском гуманизме, в котором центром культурного мира становится не человек с его греховностью, а Бог с заповедью любви к человеку и к миру.
П.А. Сорокин подводит итог гуманизму с доминантными ценностями человеческой личности, которые постепенно заполняют собою всё пространство культуры, теряя при этом то, что называется духовным Центром, – Творца, с которым личность раньше соотносила свое Я, а теперь не соотносит, выставляя только свое автономное [Сорокин, 1992, с. 463–488]. Каждый автор вносит своё, неповторимое в текст, каждый читатель интерпретирует текст по-своему, уже не сообразуясь с авторским замыслом и даже забывая о нём. В гносеоцентрическом подходе к русской культуре исследователи используют религиозную философию, однако не для теономных целей, а зачастую приспосабливая её к своим автономным взглядам и концепциям, они вырывают из контекста те цитаты, которые нужны для подкрепления определённых позиций, не учитывая объективных факторов. Во-первых, не все философские основания пригодны для объяснения духовной целостности русской культуры; во-вторых, конкретная цитата, вырванная из общего текста, может осмысливаться и противоположным образом по отношению ко всему мировоззрению философа; в-третьих, современные критики порой для обоснования своих методологических позиций выбирают идеи тех философов, которые противоречили догматическому богословию, поэтому в их взглядах также заложены противоречия. Такой выбор может быть обоснован незнанием догматического богословия самим интерпретатором. В частности, полемика С.Г. Бочарова и B. С. Непомнящего о статусе новой религиозной филологии построена, в том числе, и на указанных позициях.
C. Г. Бочаров для методологической аргументации гносеоцентризма и религиозного эстетизма обращается к работе философа С.Н. Булгакова «Свет невечерний». С.Г. Бочаров отвергает религиозные подходы к искусству и использует те идеи философа, которые отвечают его собственной гносеоцентрической позиции. Для подтверждения цитируется следующий текст об искусстве: «Оно должно быть свободно и от религии (конечно, это не значит – от Бога), и от этики (хотя и не от Добра)» [Бочаров, 1999, с. 589]. С.Г. Бочаров подчёркивает мысль С.Н. Булгакова о «самодержавности» искусства, доказывает, что «искусство мыслилось в составе религиозного единства культуры, но на правах автономной свободной области» [Бочаров, 1999, с. 597]. Однако С.Н. Булгаков, говоря о «самодержавности» искусства, отмечает, что следующей ступенью самосознания автора становится трагический разлад: «художнику становится мало его искусства <…> Эстетическое искусство перестаёт его удовлетворять, потому что оно только распаляет, но не удовлетворяет его жажду, оно условно, ограничено, бессильно» [Булгаков, 1994, с. 331]. Рассуждая об эстетизме, С.Н. Булгаков отмечает, что искусство «только причастно Красоте, а не обладает её силою», поэтому художник трагически ощущает его границы. Тем самым осуществляется переход на следующий этап искусства, главными целями которого становятся духовные, хотя сохраняются эстетические и социальные функции. Философ подчёркивает мысль о «преобразующем жизнь творчестве»; искусство должно «загореться религиозным пламенем», стать «молитвенно вдохновляемым творчеством», осознать «всю неразрешимость средствами искусства <…> себя перерасти» [Булгаков, 1994, с. 334]. Таким образом, С.Н. Булгаков даёт исчерпывающий ответ сторонникам гносеоцентризма, эстетического идеализма и религиозного эстетизма. Искусство, должно быть целостным, гармонично сочетающим эстетические, социальные и религиозные смыслы.
Интерпретатор выступает в роли помощника автора в том случае, если его мировоззренческие позиции совпадают с авторскими. Однако есть примеры противоположного. Гносеоцентрист Д.И. Писарев не только не видел духовных смыслов литературного творчества А.С. Пушкина, но и вовсе устранял их, да и самого A. С. Пушкина устранял из литературы за недостаточную идеологичность. Гносеоцентрист Н.А. Добролюбов не увидел в пьесе А.Н. Островского «Гроза» духовный смысл трагедии совести и проблемы своеволия, подменив духовную проблематику пьесы на революционную, увидев в запутавшейся в греховных страстях Катерине революционную бунтарку. В данных случаях подходы к духовному смыслу текста осуществляются с позиций автономной тенденциозной критики, без учёта теономии автора и православного контекста духовно целостной русской культуры. Важно истолковывать духовную проблематику художественного текста с позиций тех духовных смыслов, которые заложены в него писателем, и устанавливать их корреляции с кодами и смыслами самого исследования. Например, религиозный Н.В. Гоголь понимается через теономию исследователем B. А. Воропаевым, который знает религиозную символику или код, помогающий раскодировке духовной проблематики гоголевских произведений [Воропаев, 1990, с. 262–272; Воропаев, 1998]. В.Г. Белинский же, применивший гносеоцентрический подход с революционно-демократическими принципами к анализу духовных смыслов литературного творчества Н.В. Гоголя, оказался в нетворческой позиции [Белинский, 1947]. Культурологическое исследование А.П. Давыдова о религиозных смыслах в культурном мире Гоголя уводит в духовный смысл протестантизма, потому что раскол в русской культуре исследователь видит в расколе духа: между православным, исконным, и протестантским, который «шёл» с Запада [Давыдов, 2008]. Гоголь, по мысли
А.П. Давыдова, остался в «русской Реформации» и от этого раздвоения погиб. Д.Н. Овсянико-Куликовский даёт пояснение подобным нетворческим позициям интерпретаторов [Овсянико-Куликовский, т. 1, 1989], подчёркивая несводимость восприятия художественного произведения только к социальным проблемам, а писателя – к «ролевой маске». Художественное создание не есть продукт социальной среды, он – творение души автора. Текст нельзя использовать в качестве средства к достижению какой-нибудь цели, как это делали, например, Д. И. Писарев, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, которые вытесняли духовные смыслы тенденциями, угодными революционно-демократическому направлению. Н.Г. Чернышевский, например, был провозглашён «новым учителем». Следовательно, в гносеоцентризме писатель становился «учителем человечества», а текст – «учебником жизни».
Один из аспектов расширения границ понимания – правильная интерпретация художественного текста. Например, драма А.Н. Островского «Гроза» воспринимается в гносеоцентрическом подходе большинством читателей как социально-бытовая; в эстетическом подходе её рассматривают через культурологический пласт смеховой культуры с её оригинальными художественными элементами, вплетёнными в текст драмы. Через теономию читатель увидит глубокие духовные смыслы трагедии совести, греха индивидуального волеизъявления героини. В сочетании всех подходов и взглядов на драму Островского открывается поле бесконечного смыслопорождения. Так рассматривает пьесу русского драматурга А.И. Журавлева [Журавлева, 1988]. Она дополняет эстетические и социальные смыслы пьесы Островского религиозными смыслами. В связи с этим бытовая драма перерастает в иной жанр – трагедию совести. Именно в этом жанре просматривается эпохальный перелом в сознании человека середины ХЕК в., когда появляется новое отношение к миру, основанное на «индивидуальном волеизъявлении», что оказывается несовместимым ни с патриархальным укладом семьи, ни с нравственностью героини. Таким образом, «приращение» нового (религиозного) смысла в гносеоцентрическую и эстетическую интерпретацию пьесы позволяет ставить проблему духовной целостности русской культуры и её смысловой репрезентации как в конкретной драме Островского, так и во всём его художественном творчестве.
Из гуманистических принципов гносеоцентрического и эстетического подходов выпадает такое феноменальное явление, как гений. Гению гуманизм отводит своё место, он рассматривает его не как единичное явление духовного порядка, а, с одной стороны, как результат взаимодействия его внутреннего мира с внутренними мирами его современников, с другой, – как одиночку, который возрос на плечах своих культурных современников, однако остался непонятым в своей гениальности. В эстетической концепции романтиков гений притязает быть Мерилом всего и «судиёй» над всем миром, берёт на себя право переделки мира, становится «вторым богом» (Ф.В. Шеллинг, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский). Например, гений А.С. Пушкина интерпретаторы долгое время оценивали только с эстетической точки зрения: «поэт, художник и больше ничем не мог быть по своей натуре» – констатировал В.Г. Белинский [Белинский, 1947, с. 523], при этом, будучи на гносеоцентрических позициях, признавал в нем выразителя русского национального духа. Эстетическое постепенно переходило в социологическую оценку. Если В.Г. Белинский указывал на большое воздействие поэзии Пушкина на молодое поколение, то, например, В.С. Соловьёв прямо заявлял, что не чувствует никакого «нравственного воздействия на общество» поэзии Пушкина, ибо она есть «чистая поэзия» и больше ничего [Пушкин в русской философской критике, 1990, с. 44]. Начало полемике между эстетической и гносеоцентрической (социологической) оценкой творчества Пушкина было положено П.В. Анненковым [Анненков, 1983]. В спор включились не только «эстеты» и «народники», но также славянофилы и западники, которые тоже считали Пушкина «своим». Поэт был то «другом самодержавия», то его «жертвой», то «другом декабристов», то «ветхим кумиром». Начало «мифологическому» Пушкину положили М.И. Цветаева и А.А. Ахматова. «Мой Пушкин», «наш Пушкин» – все эти высказывания говорят об отсутствии исторической дистанции. Наконец, о Пушкине стали писать просто как о «хорошем человеке», а закончилось всё появлением в русской культуре Пушкина – героя анекдотов. Современный читатель мало осведомлён о жизни и творчестве русского гения. В исследовательской литературе не всегда учитывается полнота контекстов пушкинского мира. Например, христианский контекст художественной картины пушкинского мира некоторые интерпретаторы рассматривают с эстетической точки зрения [Благой, 1977; Бочаров 1999; Томашевский 1990]. Однако Пушкин был глубже поверхностного эстетизма, он ощущал непрерывность многовековой христианской традиции в русской жизни. Он отверг вольтерьянскую насмешку, материализм Гельвеция, немецкую метафизику и чаадаевскую отрицательную оценку русской истории, которую поэт как раз и «не хотел бы переменить». По мнению русского гения, литературное творчество утоляет духовную жажду. Томление духовной жаждой дает одновременно и радость, и любовь. Любить Совершенное – значит желать, узнавать, принимать его и следовать ему, делать его центром своей личной жизни. Человек любит то, от чего он испытывает радость. В.С. Непомнящий справедливо рассматривает гения как целостного художника, прорывающегося к божественным смыслам бытия [Непомнящий, 1999].
В гносеоцентрическом и эстетическом подходах недооценён такой писатель, как Н.В. Гоголь. Например, Белинский, подходя к Гоголю с гносеоцентрических позиций, упрекал писателя в том, что тот создавал свои повести не «в современном духе», «отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство» [Белинский, 1947, с. 228]. Критик предлагал христианские мысли в творчестве Гоголя облечь в модные тона «натуральной школы», сблизить с действительностью. Белинский считал, к примеру, повесть «Портрет» «неудачей» великого русского писателя, и объяснял её именно отсутствием у Гоголя модного взгляда на творчество и художника. Действительно, модная тенденция «натуральной школы» не привлекала русского классика, и он остался на позициях высокой литературы. Гоголь не стал «модным писателем», он попытался объяснить духовный смысл повести в знакомых русскому читателю символических образах и религиозных смыслах, в узнаваемых подтекстах. Гоголь не пошел за Белинским и натуральной школой, он не остановился только на воздействии социальной среды, но открыл воздействие метафизическое, воздействие сверхъестественных сил, которые тоже являют собой реалии мира. Ему казалось, что искусство может заместить религию в её традиционной идеальной функции – спасении мира. Гоголь, например, верил, что прочтение его трёхчастных «Мёртвых душ» приведёт к реальному преображению русского человека и всего русского мира и что третья часть – «Рай» – будет уже прологом к «светлому воскресению» России, тогда как первая часть – «Ад» в воссозданной жизненной реальности – это наваждение, это та реальность, которая находится во власти зла. Искусство не должно подчиняться «ужасной действительности», тем самым оно увеличивает и усугубляет зло, потому что воплощённое в художественный образ зло, по мнению Гоголя, обретает духовную мощь и бессмертие. Эта мысль должна была проходить сквозь вторую часть «Мёртвых душ» – «Чистилище», которое должно было стать чистилищем души. Эту миссию всегда выполняла Церковь. Гоголь отдаёт её религиозному искусству [Гоголь, т. 6, 1994, с. 7—193]. В.А. Воропаев считает, что целостно понять и оценить творчество Гоголя невозможно вне духовных категорий. Исследователь подчёркивает трудности изучения русского писателя: «Гений Гоголя до сих пор остаётся неизвестным в полной мере не только широкому читателю, но и литературоведению, которое в нынешнем его виде просто неспособно осмыслить судьбу писателя и его зрелую прозу. Это может сделать только глубокий знаток как творчества Гоголя, так и святоотеческой литературы – и непременно находящийся в лоне Православной Церкви, живущий церковной жизнью. Дерзнём утверждать, что такого исследователя у нас пока нет…» [Воропаев, 1992, с. 4]. Русской культуре предстоит еще «открыть» Гоголя.
Более всего из всех писателей русской литературы интерпретаторов интересовал Ф.М. Достоевский. Его интерпретировали с разных позиций. Собственно, он и сам указывал некоторые позиции, может быть, желая полемики, чтобы заострить проблемы, поднимаемые им в творчестве. Интерпретации художественного мира Достоевского касались и области государственного устроения, и общественных идей, и национальных вопросов, и религии и Церкви, и его этических и эстетических воззрений. Не утихает полемика и по поводу религиозных аспектов творчества Достоевского. Некоторые учёные утверждают его религиозность и использование в творчестве библейских мотивов, образов, символов и т. д. с гносеоцентрических позиций [Бочаров, 1999; Белов, 2010]. Другие видят в Достоевском писателя социально-нравственных проблем, доказывая это реалистической природой романа ХЕК века, в котором вскрываются социальные проблемы и подчёркивается безнравственность общества, проявляющаяся в разных аспектах жизни города Петербурга— столицы государства [Кирпотин, 1978; Карякин, 1976]. Ряд учёных разбирают романы Достоевского с философско-психологической и философско-эстетической точки зрения, используя гносеоцентрический и эстетический подходы [Белов, 2010; Бердяев, 1990; Кашина, 1989; Карякин, 1976; Мережковский, 1991; Селезнёв, 1990; Шестов, 1991]. Как глубоко религиозного писателя, связанного с православием практически, богословски и художественно, рассматривают Достоевского И.Л. Волгин, И.А. Есаулов, Т.А. Касаткина, Е.Г. Новикова, Б.Н. Тарасов, Б.Н. Тихомиров, А.Е. Кунильский. Такой полифонизм мнений более всего затронул образ Раскольникова, столь притягательный для этих интерпретаций. Литературоведы, в соответствии со своими позициями и взглядами, рассматривают Родиона Раскольникова как тип социальный, идеологический, психологический, философский и, в меньшей мере, религиозный. Однако сам Достоевский, имея в виду все смыслы, сходящиеся в образе героя, прежде всего, иерархически подводил под пневматологию образа. Об этом свидетельствует сцена в эпилоге романа: «Из-за чего-то, он и сам не знал того, – произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! – кричали ему. – Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника…» [Достоевский, т. 5, 1989, с. 515]. Достоевский подчёркивает, что Раскольникова в казарме не любили, все избегали его и под конец даже стали ненавидеть. Причина ненависти не в идеологии и не в социальном различии, и даже не в типе преступления; здесь не уголовная, а религиозная причина. Родион Раскольников – русский безбожник и поэтому заслуживает презрения. Русский человек у Достоевского не может быть безбожником, атеистом. Русский для него – православный. Целостностное понимание романа предусмотрено приоритетом духовного смысла, который помогает разобраться в многообразии всех смыслов произведения.
Роман «Бесы» интерпретировался как политический памфлет, и в этом случае затрагивались только социально-политические смыслы произведения; если оно рассматривалось как пародия на революционное движение, появлялся нравственный смысл романа. Философы и писатели Серебряного века Н.О. Лосский, Д.С. Мережковский, С.Н. Булгаков, К.В. Мочульский анализировали роман сквозь пневматологию пророчеств Достоевского, выявляя в нём главный, духовный смысл. Сам автор после окончания «Бесов» писал: «Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем <…> Это потребность хватить через край, попасть в круговорот «самоотрицания и саморазрушения», и с такой же силою русский народ может совершить «обратный толчок к «восстановлению и самоспасению» [Достоевский. Дневник… 1989, с. 60–61]. Жертвовать собою для правды – вот национальная черта русского человека, которую вывел Достоевский в своём литературном творчестве. Главное понять – что есть Правда? Попытка разобраться в этом и порождает обилие интерпретаций романа Достоевского. Каждый интерпретатор видит «свой» духовный смысл в произведении писателя. Как правило, этот смысл соответствует духу самого интерпретатора.
Воплощение красоты христианской жизни богословы называют святостью. В святом заключены и эстетика, и этика. Святость не мыслилась русскими писателями отвлечённо, ею нельзя любоваться, как нельзя любоваться святостью Отца и Сына и Святого Духа. Эту мысль актуализировал в русской культуре Достоевский, как бы заранее предупреждая оппонентов от гедонистического толкования своих художественно-богословских текстов. Подобные трактовки можно встретить в современных исследованиях культурной картины мира и русского человека в ней в творчестве М.Ю. Лермонтова, Л.И. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.П. Чехова. По сути, не пересмотрена вся концепция русской художественной словесности XI–XXI вв.
Итак, подводя итоги теоретическим исследованиям гносеоцентрического и эстетического подходов к духовному смыслу в русской культуре, следует отметить, что:
– духовная целостность русской культуры и её смысловая репрезентация в художественной словесности осознаётся и интерпретируется в соответствующих исследованию категориальных дефинициях;
– в полемике о художественном творчестве утверждается гносеоцентрический подход, который определяет, что искусство социально, обогащает общественную мысль и является «учебником жизни»;
– полемичным остаётся взгляд на художественное творчество только как на «искусство самодержавное», содержащее только эстетическую материю и служащее эстетическим потребностям;
– в своем основании искусство религиозно, содержит духовные смыслы, служит обретению Истины и поиску подлинного смысла жизни.
Таким образом, современная полемика, по сути, ведётся относительно сущности духовного смысла. Она подтверждает идею недостаточности гносеоцентрического и эстетического подходов для выявления духовного смысла, так как они основаны на гуманистических принципах и не учитывают взаимозависимость религии и литературного творчества в истории культуры России. В вертикальное измерение они ставят духовный смысл исторического общечеловеческого звучания, который подвержен изменениям, как сама история и сам человек.
1.2. Потенциал и возможности тео-аксиологического подхода при выявлении духовного смысла в русской культуре
Тео-аксиологический подход, который дополняет гносеоцентрический и эстетический подходы к освоению духовной целостности русской культуры и её смысловой репрезентации в художественной словесности, разработан на основе принципов теономной диалектики. В гносеоцентрическом и эстетическом подходах, в их основных аксиологических координатах указанная проблема не совпадает с аксиологией объекта своего описания, а зависит от личных идейных пристрастий и вкусов интерпретаторов. В свою очередь, введение тео-аксиологического подхода к совокупности уже разработанных гносеологического и эстетического подходов к художественному тексту помогает в разработке концептуально-методологических основ новой области – религиозной филологии, которая вместе с религиозной философией, историей культуры, пневматологией, теологией способствует более полному культурологическому исследованию текста художественной словесности. Литературоведческого анализа при освоении духовного смысла в тексте становится недостаточно.
В разработках религиозного метода И.Л. Ильина есть отношения автономные и гетерономные, религиозно-автономные и религиозно-гетерономные [Ильин. Аксиомы…, 1993]. Под автономией И.Л. Ильин разумеет самозаконие, под гетерономией – отказ от самоличного принятия какого-либо основания, перенесение его на другого человека (или на других людей) и предоставление ему (или им) решать за себя. Для религиозной автономии и религиозной гетерономии основанием будет соответствующий им религиозный опыт. Релятивисты и аутисты, по словам И.А. Ильина, остаются за пределами духовного уровня, а, следовательно, и религии: они могут «создать лирику эмпирических настроений, любезный сердцу уют, интимную тепловатость быта», но в сферу религии не вступят, потому что «человек становится религиозным лишь в меру своего одухотворения» [Ильин. Аксиомы…, 1993, с. 70]. Автор и читатель ищут духовного совершенства, добиваются религиозной автономии и пребывают в ней. Для автора главным является процесс вдохновения,, а для читателя – процесс осмысления. И то, и другое требует сопричастности Творцу и друг другу. Это одно из оснований тео-аксиологического подхода. Это важное дополнение к сопричастности Истории, Культуре, Природе, Музе, Народной Правде и т. п., которым отличаются гносеоцентрический и эстетический подходы.
Сопричастность ценностям божественного порядка, установление приоритетности смысловой структуры текста и её понимание являются важными составляющими тео-аксиологического подхода. В реконструкции тео-аксиологического подхода важную роль играют труды П.А. Сорокина, в частности, его взгляды на идеациональную культуру. П.А. Сорокин называет главную ценность, которая посылается и содержанием, и формой идеационального искусства – это Бог [Сорокин, 1992, с. 436]. Учёный характеризует идеациональную культуру следующим образом: её тема – «сверхчувственное царство Бога», душа и тайны мироздания, искупление, спасение и другие трансцендентальные события; её герои – ангелы, святые и грешники. Идеациональное литературное творчество с его духовными смыслами мало уделяет внимания личности, предметам, событиям эмпирического характера. В нём нет реального пейзажа, портрета. Например, икона святого – это лик, образ того, кто изображён, но не он сам. Пейзажи идеациональной литературы весьма условны и символичны. Цель идеациональной культуры – не развлекать и доставлять удовольствие, а приблизить к Богу, она включает святое как в содержание, так и в форму. Её эмоциональный тон – религиозно-благочестивый, аскетичный, в нём нет чувственности.
Принципом тео-аксиологического подхода становится христианский гуманизм с его отношением к миру и человеку. Значение идеациональной культуры признаётся не во внешних проявлениях, а во внутренних ценностях. Канон, составленный на основе христианского гуманизма, не нуждается в профессиональном посреднике: цензоре, критике, литературоведе. Здесь есть коллективное общение родственных в духе читателей, для которых духовные смыслы литературного творчества ясны, как и автору. Идеациональная культура не нуждается во внешнем приукрашивании, пышных эпитетах, замысловатых метафорах. В ней присутствует только символ как знак невидимого, духовного мира ценностей. Раскодировка этих символов, знаков, образов, ритмов, интонаций также входит в задачу тео-аксиологического подхода. П.А. Сорокин называет идеациональное искусство «искусством человеческой души, наедине общающейся с Богом», оно было создано не для прославления человеческих страстей, «а во возвеличение хвалы и славы имени Божия» [Сорокин, 1992, с. 441].
В древней культуре выявляется способность автора и читателя удивляться миру,, его загадочности и неисчерпаемости, вместо сентиментального или романтически-восторженного отношения к нему. В качестве примера можно привести древнейший памятник литературы Древней Руси XI в. – Толковую Палею. Следует отметить, что сначала её считали переводной, однако в XIX и XX вв. такие ученые, как А.В. Михайлов, В.М. Истрин, В.П. Адрианова-Перетц убедительно доказали, что Палея, имея опору на византийскую Палею Хронографическую, всё-таки является цельным созданием русской мысли и слова. Изучение Палеи прекратилось в 1920-е годы, когда её стали считать богословским сочинением. Нельзя не отметить, что Палея Толковая имела на Руси такое распространение, что переписывалась примерно полторы тысячи раз, что для Древней Руси немало.
Ментальность Палеи заключается в удивлении перед Божьим творением. В.В. Кожинов опубликовал Толковую Палею после долгого забвения. Древнерусский книжник вопрошает в Палее: «Разве не видишь преблагого Господа, искусника и всей твари создателя?.. Кто может описать все растения Вселенной?.. Прекрасно море, из глубин которого вытекает влага, оно принимает все реки, но само пребывает, не оскудевая и не выходя из пределов своих. Чья мысль может постичь её, которую Господь сотворил единым словом?» [цит. по: Кожинов, 1999, с. 159–161]. В Толковой Палее подробно разъясняется главный космический процесс – творение Вселенной, где Автором – Творцом является Бог, Текстом – сама Вселенная, а читателем – человек, пребывающий в блаженстве, ибо, пребывая в Божьем Творении, он пребывает с самим Богом. Палея неоднократно подчёркивает «неизреченные тайны» Вселенной: «Когда приходит ночь, взгляни на небо и увидишь изрядную красоту звёзд, как украсил его всемогущий наш мудрый Создатель» [цит. по: Кожинов, 1999, с. 166]. Много строк посвящено красоте звёздного неба в русской поэзии и прозе. Одно из стихотворений поэта и учёного М.В. Ломоносова прямо соотносится со словами Палеи: «Взошла на горы чёрна тень,/ Лучи от нас склонились прочь./ Открылась бездна звезд полна;/ Звездам числа нет, бездне дна» [Ломоносов, 1984, с. 163].
В культуре мир бытия воспроизводится каждый раз заново^ вновь и вновь перед нежданной, неразгаданной действительностью. Это видение мира свежим взглядом нескучно. Так удивляется Пушкин: «Я помню чудное мгновенье» [Пушкин, т. 2, 1981, с. 50]; таково удивление Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу./ Сквозь туман кремнистый путь блестит;/ Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,/ И звезда с звездою говорит» [Лермонтов, т. 1, 1983, с. 85]; сродни им удивление Гоголя: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои» [Гоголь, т. 1–2, 1994, с. 151]. Гоголь даёт удивление и иного рода: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться!» [Гоголь, т. 5, 1994, с. 118]. Это тоже удивление, тоже «мир впервые».
Радость также является ценностью идеационального искусства. Источник такой радости передаётся в жанрах акафистов. Радостная ментальность обозначается многократно повторяющимся словом «Радуйся», она определяет не только отношения между Небом и Землей, но и отношения на земле между людьми. Эта радость сродни удивлению. Поэты называют такое ощущение радости вдохновением. Акафист как жанр представляет собой праздничную, хвалебную песню, церковный гимн. Славословие акафиста раскрывает историю события или жизнь святого, которые сопровождаются припевами-хайретизмами («припевами радости»), похвальными воззваниями и просьбами. Акафист содержит удивление перед тайной, глубиной и красотой Божественного устроения. Например, в хайретизмах акафиста Святителю Николаю Мир Ликийскому Чудотворцу он сравнивается, сопоставляется, восхваляется с помощью эмоционально-экспрессивной лексики: «Радуйся, образе агнцев и пастырей… Радуйся, добрый человеком наставниче…/ Радуйся, яко тобою сладостей духовных исполняемся…/ Радуйся, Николае, великий чудотворче» [Акафист св. Николаю, 1996, с. 306–307]. Акафист не содержит рассудочных постижений, он по преимуществу представляет собой восхваление. Его цель— внушить чувство восхищения Божественной тайной и вызвать духовную радость от личной сопричастности к этой тайне.
Древнерусские тексты часто повторяли структуры акафистов, их эмоционально-экспрессивный стиль, целевую установку. Наглядным примером может служить «Слово о погибели Русской Земли». Автор пропел гимн Святой Руси, восхвалил её богатства: «Светло-светлая и красно украшенная земля Русская! И многими красотами дивишь ты: озёрами многими, дивишь ты реками и источниками местночтимыми, и горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, горами великими, сёлами дивными, садами монастырскими, домами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими – всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская» [Памятники… т. 3, 1981, с. 131]. Перед читателем «хвалебная песнь», славословие Творцу за красоту Русской земли, бесконечные повторы-радости, удивления и восхищения. Здесь так же, как и в акафисте, нет рассудочных построений и убеждений. Цель гимна – радостно удивиться Божественной Красоте, вызвать у читателя чувство сопричастности ей.
Агиографическая литература Древней Руси также наполнена славословиями святым, чувствами духовной радости и удивления перед русскими людьми, примером могут служить жития святых. Древнерусские жития по своему эмоциональному строю напоминают жанр акафиста. В них также рассказывается история жизни, деяний святого и выражается радость о нём, потому что святой жил в Русской земле и любил её, и читатель в своей жизни должен уподобиться жизни этого святого. Агиографический канон был своеобразным духовным пособием для жизни.
Идеациональная литература, как сказка, радовала и удивляла хорошим окончанием произведения. Даже тогда, когда враги сжигали русские города, уничтожали людей и оставляли после себя пепелище, духовный смысл текста был оптимистичным. Например, автор древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем» заканчивает своё произведение словом о возрождении святого города Древней Руси, он сообщает, что новый рязанский князь Ингварь Ингваревич обновил землю Рязанскую, церкви поставил, монастыри построил, пришельцев утешил, людей собрал, и была радость христианам [Памятники, т. 3, 1981, с. 197]. Отрицательный опыт нужен для закрепления в сознании читателя непреходящих ценностей, в частности, ценности бесконечного духовного обновления,
Удивление в идеациональном литературном творчестве сопровождается сомнением. Первой аутентичной записью, рассказывающей о жизни Иисуса Христа, стало Евангелие. Призванием четырех евангелистов – Матфея, Марка, Луки, Иоанна – стало собирание, канонизация и запись слов и дел Христа. Канонический текст пронизан, «прожжён» духовным смыслом. Открыть духовный текст, научить читать и правильно понимать прочитанное также входило в задачу евангелистов. Авторы-евангелисты заложили в тексты элементы сомнения,, которые всегда присутствуют при удивлённом открытии мира, и разрешили их. Читатель вопрошал вместе с автором и разрешал сомнение, отвечая на его вопросы. Рефлексивный опыт личности в освоении духовного смысла также включён в тео-аксиологический подход. С.А. Чурсанов, О.А. Жукова подчёркивают, что через науку нельзя изучить радость, удивление, святость, нужен выход личности в трансцензус, чтобы ощутить дары Духа [Чурсанов, 2008; Жукова, 2008].
Наличие духовного смысла в литературном творчестве выработало с веками и особую духовную культуру чтения,, которая преподавалась в церковных школах. Отвергалось формальное чтение с произвольным умствующим толкованием. Считалось, что писанное от Духа даётся живому сердцу. Чтение сердцем – это не праздная выдумка, оно не связано с личным произволом, сдерживается духовной ответственностью и волей к выбору добра. Одна из сущностных характеристик Духа – это его кардиогнозис, обращённость к сердцу, которое есть сосредоточие духовной жизни.
С.А. Чурсанов подчёркивает целостное восприятие духовного смысла сердцем, а результат такого восприятия – любовь, выбор добра, ответственный поступок в социуме [Чурсанов, 2008]. Функции духовного смысла – также важное включение в тео-аксиологический подход.
Исследования О.Н. Бахтиной, В.В. Колесова в области изучения духовной природы слова подтверждают важнейший авторитет русской литературы – Священное Писание, потому что оно передаёт высшие смыслы и в целом связывает мир земной и мир небесный [Бахтина, 1999, с. 52; Колесов, 1999; 2002]. О.Н. Бахтина замечает, что цитатный слой древнерусской литературы сплошь состоит из слов Священного Писания, потому что именно в нём и содержалась вечная Истина [Бахтина, 1999, с. 95]. А.С. Панарин пишет об онтологичности церковнославянского слова, которое несёт миру православные ценности. Он рассматривает слово как акт дарения Творца человеку [Панарин, 2002]. Дарение, по мысли А.С. Панарина, заложено в природу Творца, оно онтологично, поэтому дело человека— принять дар. Человек рождается в мир уже готовых слов, которые даются ему в дар, при этом задача человека – освоить слова и их духовные смыслы. Тео-аксиологический подход опирается на теологические источники, святоотеческую книжность, в которой слово не было праздным, а содержало духовный смысл для духовного действия.
Наряду с ценностями удивления, радости, обновления ещё одной ценностью идеациональной культуры является диалог: общение автор-читатель, читатель-читатель в их сопричастности духу Творца. В таких отношениях любой другой для автора – всегда объект внимания и любви. Подлинный диалог – всегда искренний, он адресован другому. Разработками диалога в культуре и диалога культур занимался М.М. Бахтин. Духовная ценность диалога канонически восходит к молитве — обращению к Богу. Канон молитвенного обращения требует единения, неравнодушия. Есть внешняя сторона такого духовного диалога – произнесение слов – и внутренняя – сердечное наполнение. Писатель должен не только произнести (написать) слова, обращённые к читателю, но наполнить их своей сердечностью, для участия читателя в постижении духовного смысла текста. В.С. Непомнящий справедливо отмечает, что «искусство вовсе не «оспоривает духовное пространство молитвы», оно порой <у сватает функцию молитвы, непроизвольно стремясь уподобиться ей» [Непомнящий, 2001, с. 45].
Канон идеационального творчества привязан к диалогу, общению, и не содержит чувства враждебности. Главная его задача – сделать читателя адекватным, понимающим духовный смысл книги, а автора – понимающим внутренний мир каждого читающего эту книгу. В этом смысле русский канонический текст всегда открыт и не завершён, он соотнесён с внутренними мирами других авторов и других книг, со многими уровнями и смыслами, с богатыми возможностями его восприятия. Автор во времени и пространстве может быть удалён от читателя, но это не меняет их отношений. Они имеют не изолированное, а диалогическое существование; диалогическое не в смысле взаимодействия речевым потоком произведения или предметом его содержания, а в духовном смысле – совместном присутствии друг в друге, общих жизненных путях и духовном делании. Например, тема литературного творчества Древней Руси – любовь к Русской земле, духовная и воинская защита родной земли; и автор, и читатель были соединены общей любовью к Родине. Автор не навязывал никогда своего мнения читателям, но мировоззрение древнерусских читателей было адекватно авторскому. При этом структурные части внутри канона не были хаотически произвольными по отношению к целому, напротив, каждая из них строго отвечала условию конструктивности своего участия внутри целого. В науке это соответствует принципам структурно-функционального подхода [Парсонс, 2000].
Диалог в каноне не носит характера борьбы. В древнерусской культуре конфликта между христианской Истиной и истиной языческой, чувственной культуры не существовало. «Повесть временных лет» Нестора Летописца и «Слово о полку Игореве» насыщены языческими элементами как на уровне поэтики и языка, так и на уровне познания. Фольклорные эпитеты, пословицы, поговорки, загадки, плачи взяты из предшествующей традиции. В «Повести о Петре и Февронии» могут быть два прочтения: одно – на уровне сказки о мудрой деве, а другое – на уровне жития святой, – и оба не противоречат друг другу. Как сказка, эта повесть содержит сказочные элементы: борьбу со змием, сказочные чудеса, волшебные предметы, животных-помощников, сказочную символику. Как житие, эта повесть построена строго по агиографическому канону: Феврония наделена проницательным умом, провидческим даром, она обладает даром исцеления больных, творит христианские чудеса, занимается церковным рукоделием – вышивает Образ Спаса золотыми нитками, вместе с супругом преодолевает множество испытаний, проживает счастливую семейную жизнь, умирает в одно время с мужем. Символ прядения, вышивания нитью имеет смысл и в мифологии, и в агиографии: в мифах и сказках – это указание пути жизни, а в житийном каноне – спасение души. В сюжете текста Феврония не обрывает нить по окончании работы, а обматывает её вокруг иголки, втыкает иголку в ткань, тем самым ставит точку в земной жизни, и переходит в круг Вечности [Памятники… т. 6, 1984, с. 626–647]. На примере этой повести легко проследить разницу между фольклорным и христианским духовными смыслами, например, в эпизоде выбора мужа. Без учёта религиозного смысла этот эпизод выглядит беззастенчивым и претенциозным. Однако, зная, что Феврония – святая и наделена даром предвидения, нужно догадаться, что она просит то, что всё равно ей будет принадлежать рано или поздно – князя Петра. Таким образом, духовные смыслы сказки как чувственного искусства в русской культуре не вступают в конфликт, а дополняются духовными смыслами агиографического жанра. И поэтика, и гносеология, и социально-нравственный аспект вместе с религиозным содержанием повести являют читателю древнерусского текста целостную картину осмысления не только конкретно прочитанного произведения, но и освоение смысла самой жизни русского человека.
По мнению М.С. Киселёвой, сказочный канон был контекстом для канона христианского, они сосуществовали в логике полифонирования, они сближались по многим позициям, например, чтение житий было так же популярно, как и чтение сказок [Киселёва, 2000, с. 69–90]. Расхождения касались включения святого, которое сразу же иерархически направляло текст от человеческого к божественному смыслу. М.С. Киселёва отмечает, что расцвет устного народного творчества и христианизация Руси совпали, поэтому языческий и христианский потоки формировались параллельно, шли навстречу друг другу и в то же время не совмещались в едином социокультурном пространстве. Языческая культура проповедовала идеалы добра, красоты, справедливости, единения, и в этом она совпадала с духовными смыслами идеационального творчества. Однако в языческой культуре отсутствовало святое, которое являет полноту и Совершенство. Идеациональное литературное творчество проповедует не идеалы^ мучительство. В язычестве не было святых, которые были бы авторитетными учителями, являли бы пример жизненного подвига. Учительство укрепляло единомыслие в вере и соборность. Установка на такое мировоззрение, в котором решались вопросы о месте человека в мире, об отношениях с миром, о смысле жизни, характерна для методологии тео-аксиологического подхода.
При изучении духовного смысла в идеациональной литературе важно помнить о контекстах, рядом с которыми она существовала. Доказательство соотношения духовных смыслов произведения и контекстов в древнерусской книжности находим в исследованиях М.С. Киселёвой, которая указывает на причину такого соответствия: «Средневековая христианская культура есть культура Слова как концепта, лежащего в основе тварного мира, поэтому всё, что связывает человека со Словом Божьим, вводит его в самый широкий контекст этой культуры, делая его со-Словным Богу. Подобно Богу, творящему мир по Слову <…>, Священные тексты упорядочивают земную жизнь, приближая ее к Жизни Вечной» [Киселёва, 2000, с. 22]. Помимо причины обращения человека к духовным смыслам и их соотнесённости с Логосом Божьего мира, М.С. Киселёва указывает и на результат такого воздействия – спасение души в Вечной
Жизни. Причиной обращения к духовным смыслам М.С. Киселёва называет непосредственно создание богослужебных книг: проповедей, слов, поучений, житий, летописей, в которых черпались те знания о святом, которые были необходимы на пути к Совершенному. Церковнославянский язык способствовал духовной целостности русской культуры. То, что русский человек не находил в жизни, ему давал и пояснял сакральный язык.
В работе М.С. Киселёвой «Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности» приводятся позиции, в которых текст может: а) создавать контексты; б) быть провокатором контекстов; в) устранять контексты. Древнерусский текст как доминирующий в культуре одновременно являлся создателем социокультурных контекстов, которые были необходимы для развивающейся русской литературы. С постепенной утратой религиозной доминанты в духовной целостности русской культуры появились контексты, провоцирующие эту утрату (например, творчество Симеона Полоцкого), и контексты, устраняющие новый текст (например, творчество протопопа Аввакума и старообрядческий культурный мир).
Конфликты между истинами, как правило, обостряются при смене доминантных систем, в период заката одной из культур. По мысли А.С. Ахиезера старообрядческий мир протопопа Аввакума будет представлять инверсионную культуру, а «латинствующий» мир Симеона Полоцкого – медиальную культуру.
Важным условием для целостного исследования текстов русской культуры является, по мнению М.С. Киселёвой, учёт всех контекстов, в которых текст функционирует. Само слово контекст означает связь, соединение. В тексте это может быть связь слов, фраз, фрагментов, некое речевое или ситуативное окружение. Функции контекста определяются как оценочные, смысловые, выразительно-эмоциональные. В идеациональной культуре духовные смыслы русской литературы были такими же, как и духовные смыслы контекста. Во многом такая ситуация определялась церковнославянским языком. Движение осуществлялось от стиля к смыслу, а поскольку стиль формировался сакральным церковнославянским языком, то и смысл, естественно, был духовным. О.Н. Бахтина пишет, что речь идёт не столько о стилистическом приёме, сколько об определенной философии слова и искусства вообще. Земная жизнь, человеческое слово – лишь эхо высокого божественного смысла [Бахтина, 1999, с. 65–66]. Проблема расхождения духовного смысла русской литературы и контекстов возникла в XVII в. при стилистическом смешении в языке, когда контексты, которые организуются стилями, языком, стали не совпадать ни между собой, ни с общим смыслом текста. Слово духовное и слово литературное стали различаться.
В XIX в. А.С. Пушкин пытался переосмыслить роль церковнославянского контекста в русской литературе и подчинить духовные смыслы контекстов художественному произведению в своём творчестве. Поначалу он использовал принцип иронии, одновременно уничтожая насмешкой и духовный смысл, а в позднем творчестве, напротив, воскрешал духовные смыслы церковнославянских контекстов, гениально соединяя их с другими стилями, в итоге получая новое осмысление художественного текста. Для сравнения можно привести стихотворные строки 1816 года: «Христос воскрес, питомец Феба!/ Дай Бог, чтоб милостию Неба/ Рассудок на Руси воскрес; Он что-то, кажется, исчез» [Пушкин, т. 1, 1981, с. 125]; строки 1818 года: «Да сохранят тебя в чужбине/ Христос и верный Купидон!» [Пушкин, т. 1, 1981, с. 201]; и стихи 1836 года «Отцы пустынники и жены непорочны» как переложение великопостной молитвы святого Ефрема Сирина [Пушкин, т. 2, 1981, с. 294]. В последних стихах христианский контекст обозначен без иронии.
В дальнейшей истории русской культуры художественные тексты распадаются на контексты, а духовные смыслы сращиваются с новыми значениями, например, с идеологемами. Каждый контекст мог содержать свой смысл, а читатель понимал смыслы контекстов по-своему. Появилась тенденция считать духовные смыслы художественного текста и контекстов устаревшими, причём порой они даже осмысливались в контексте Смеховой культуры. Например, в контексте смеха была кощунственно «осмыслена» Библия Емельяном Ярославским (Миней Губельман) – так называемая «забавная» «Библия для верующих и неверующих» [Ярославский, 1975]. В данном случае контексты вышли за пределы текста в реальность советской жизни, которая сознательно разрывала связь с традицией духовных смыслов контекстов. Это привело к вульгаризации контекстов.
Таким образом, духовные смыслы контекстов содержатся в авторском контексте, в контекстах художественного произведения и в контекстах читательского восприятия. Тео-аксиологический подход к русской классической литературе предполагает наличие православного контекста как жизни автора, так и его творчества, имеющего своими истоками, среди прочего, древнерусскую религиозную литературу, ориентированную на духовный смысл Священного Писания.
Важную роль в постижении духовных смыслов в тео-аксиологическом подходе играет подтекст. Это невыявленный смысл или смысл, не совпадающий с прямым смыслом произведения, своего рода умолчание. В подтексте утрачивается прямое воздействие слов, и слова перестают формировать внутреннее содержание речи, персонажи начинают говорить и думать не то. Подобное явление называется «вторым диалогом», «принципом айсберга», «подводным течением», а также духовным смыслом.