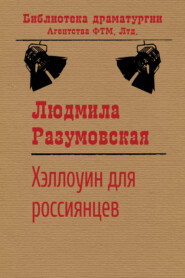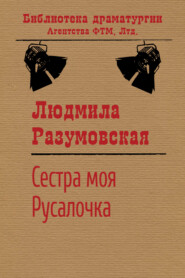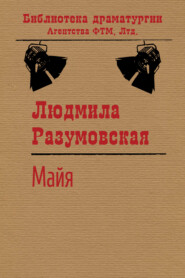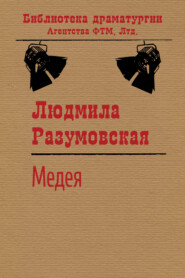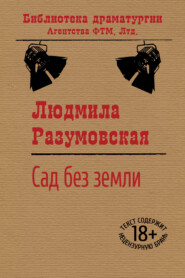По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Апостасия. Отступничество
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какие картинки?
– Ну… с голыми женщинами.
– Врешь!
– Не вру! Хочешь – покажу.
Глебушка помолчал, преодолевая соблазн.
– А где ты их взял? – спросил он, уклоняясь от прямого ответа на заманчивое предложение.
– У брата. Там, знаешь… – И Володя, хихикая, что-то зашептал ему в самое ухо. – Обхохочешься! Приходи.
Они дошли до ворот гимназии. Во дворе кучками стояли старшеклассники и о чем-то возбужденно спорили. Странно, но на урок никто не спешил, словно и впрямь, по Володиному слову, наступила свобода и учеба теперь зависела исключительно от пожелания самих учеников.
Мальчики вошли в вестибюль. Он был украшен красным кумачом (когда успели?), и на нем тоже вырисовывалась сакраментальная надпись: «Да здравствует конституция!». Повсюду сновали взволнованные учителя, и на груди у большинства из них болтались какие-то красные тряпочки в виде бантов или розеток, столь быстро нацепленных, будто заготовленных заранее. Общее возбуждение нарастало. Первоклашки таращили глаза, переводя их с учителей на старших, мало что понимая в происходящем, зато старшие изо всех сил старались переживать исторический момент, чувствуя себя причастными к чему-то необыкновенному, что может изменить всю их дальнейшую жизнь.
Наконец всех пригласили в актовый зал, и директор, тоже с красным бантом, поминутно вытирая лысину, срывающимся голосом торжественно поздравил учащихся с царским манифестом, провозгласившим долгожданные политические и гражданские свободы. В честь великого события уроки отменялись и учащихся распускали по домам праздновать победу.
Разумеется, все гимназисты, освобожденные от занятий, закричали «ура», но домой никто не пошел, а разрозненной толпой отправились в центр города. На Караваевской встретили студентов, спешащих, так же как и гимназисты, в сторону Крещатика. Во главе тысячной демонстрации шли университетские профессора, и среди них и ростом, и всей мощной фигурой выделялся Глебушкин отец Тарас Петрович Горомило.
– Смотри, смотри! – толкнул товарища в бок Володя, указывая глазами на Глебушкиного отца.
А он и сам уже видел и удивлялся, как это только что лежавший с температурой отец оказался во главе колонны и тоже с чем-то красным, прицепленным к пальто.
Лицо Тараса Петровича сияло нездешним восторгом, он шел быстрым, уверенным шагом, раздувая ноздри, его мощная грудь разрезала воздушное пространство, как корабль волны, устремляясь вперед к одной ясно видимой ему и блистающей впереди цели. И Глебушка не посмел подойти к такому героического вида отцу, напоминавшему ему сейчас не то древнегреческого Ахилла, не то Спартака, не то самого Зевса – кого-то величественного и для простого смертного недоступного. Они с Володей пристроились сбоку, теряясь в рядах студентов, стараясь быть незаметными для «громовержца», но «громовержец», и увидев их, не обратил бы на них никакого внимания, погруженный в грандиозность свершающегося на их глазах потрясения основ.
В центре древнего Киева творилось что-то невообразимое. Казалось, весь город вышел на улицы и, пасхально облобызавшись, мгновенно оделся в кумач. Мелькали красные юбки, красные шарфы, красные розетки, красные платочки, красные цветы, с балконов свисали красные ковры, в воздухе реяли красные флаги. На недоуменно столбенеющих полицейских набрасывались со смехом и, празднично примиряясь, пытались нацепить и на их презренный мундир красный символ свободы, а они конфузливо отворачивались бормоча:
– Господа, что вы делаете? Не положено, господа…
Да как же не положено, когда свобода! И господа с веселым, беззлобным гоготом шли дальше, пьянея от всеобщего дерзкого веселья, от того, что никто с этого дня не смеет нанести свободной личности никакого вреда – ни этот полицейский, ни начальство, ни сам добровольно ограничивший себя царь!
Но на это жизнерадостное, бескорыстное, детское веселье стала вдруг накидываться словно бы какая невидимая черная тень, в легкомысленное веселье толпы будто плеснули гнилыми помоями, и ее радужно светящиеся нотки стали прорезывать совсем иные, мутные и озлобленные. На остановившиеся трамваи взбирались какие-то люди и, размахивая кумачом, что-то выкрикивали, словно выплевывали в толпу, беспощадно-ругательное и угрожающее, и ничего нельзя было разобрать, кроме одного настойчивого и все покрывающего требования «долой!».
«Да зачем же теперь „долой“, когда всем такая свобода и радость?» – еще добродушествовала толпа. Кого теперь-то «долой!», когда сам царь отвесил полной мерой своему народу чаемые свободы слова, собраний, совести и прочее, и прочее, и прочее… Когда царь обещал думу! Совет с лучшими, выбранными из народа людьми! И не только совет, но и послушание ей! Ибо без думы и закона теперь царю уже не принять! Вот как добровольно умалил себя царь! И за это ему полное «ура!», а не «долой!».
Ан нет! Его-то, оказывается, и долой! Ибо он-то и есть первейший враг и злодей! И обманщик! А все свободы – для видимости! Для пускания пыли в глаза! И потому мы все равно требуем! И чтобы немедленно! Учредительное собрание! И всем политическим скорее возвратиться домой!
А-а-а! Вот оно что!.. Значит, царская свобода – для бомбистов?.. Так, значит, приходится понимать, что струсил царь?..
А какой-то человек, появившийся на думском балконе, вдруг ухватился за царскую корону и стал остервенело отрывать ее от решетки. Наконец ему удалось осуществить задуманное. Подняв высоко, он водрузил себе царскую корону на голову и, кривляясь, закричал:
– Теперь я царь!
Потом снял с головы и, плюнув на нее, швырнул вниз. Корона грохнулась наземь и покатилась по каменной мостовой. Многотысячная толпа одновременно ахнула и на мгновение замерла, и в этой жуткой тишине вдруг раздался истошный бабий вопль:
– Жиды сбросили царскую корону!..
С молчаливым ужасом приняла этот вопль толпа и ответила сдержанным возмущенным гулом.
А на думский балкон выскочил другой, маленький, всклокоченный человек и что есть силы завопил:
– Люди добрые! Жиды изорвали все царские портреты! Глядите! Что они делают! Глаза! Императорам российским! Ножами! Православные! Да куда же вы смотрите!
Толпа взревела и бросилась в думу.
Конная часть, до сей поры в оцепенении стоявшая в стороне и не мешавшая изъявлению народной радости по поводу конституции, наконец очнулась и, стараясь не допустить эксцессов, стала теснить в сторону негодующих граждан, желавших прорваться в думу для справедливого отмщения. Тогда из самой думы прогремело несколько выстрелов по военным. Военные встрепенулись и дали несколько устрашающих залпов по думе. Толпа стала разбегаться. Успевшая прорваться в думу часть народа была потрясена устроенным в ее стенах шабашем. В актовом зале все портреты российских царей и императоров были сорваны со стен, изорваны в клочья, у многих выколоты глаза, а на некоторых были оставлены человеческие испражнения. Участники царского погрома куда-то успели испариться, и ворвавшаяся толпа, не найдя предмета для выплеска своей ярости, устремилась из думы к окраинам Киева, где проживало еврейское население…
Военные сдерживали разбушевавшиеся «конституционные» страсти как могли.
Вечером папочка, как обычно, громыхал речами. Глебушка сидел притихший, не сознаваясь, что тоже участвовал в «праздновании конституции». Елизавета Ивановна уже давно ни в чем не перечила мужу, сознавая всю бесполезность словопрений, Павел также не возражал отчиму, памятуя матушкину фразу о смирении. Из домашних главе семейства смела противоречить только одна их старая кухарка Авдотья, прислуживавшая еще девчонкой батюшке Тараса Петровича, отцу Петру. Подавая вечером ужин, она не переставала бурчать под нос насчет «жидов», которые совсем обнаглели, и надо же! Один такой наглец посмел напялить на свою наглую рожу царскую корону! (Авдотья тоже была в тот час у городской думы.) И что же это они себе позволяют! Эдак они и в самом деле, что ли, мечтают захватить власть над Россией, один, мол, так и кричал: теперь мы будем вами править! Мы дали вам Бога, дадим и царя! И куда это смотрит наш царь-государь? И прочее свое глупое, деревенское, бабье.
Тарас Петрович, питавший слабость, как и большинство русской интеллигенции, к угнетенному еврейскому племени, не выдержал и на этот раз обратил весь свой праведный гнев на представительницу всегда защищаемого им простого народа.
– Вы, Авдотья Никитишна, – назвал он ее по имени-отчеству и на «вы», что делал только в исключительных случаях наивысшего недовольства старой кухаркой, – живете в интеллигентной семье, а тоже городите черт знает что! «Жиды! Жиды!» – передразнил он Авдотью. – И слово-то какое мерзкое придумали – «жиды»! Чем это вам «жиды» насолили?!
– Дак как же, батюшка, их называть, когда они жиды и есть? Я, положим, русская, кацапка, с-под Курска, а они – жиды, уж не знаю, откуда такие явились. Бабы на базаре говорили – с самого, мол, Польского царства, еще при матушке-Екатерине. Уж на что умная была государыня, а тут маху дала, проморгала. На кой ляд нам были эти поляки да жиды!
– Наитёмная вы женщина, Авдотья Никитишна! – задрожал от гнева профессор. – Другому с такими мыслями я бы и руки не подал, а с вас – что взять. Коснейте в своем невежестве. Вот он, наш простой русский народ, о котором мы все так печемся! Глядите! Примитивус петикантропус!
– А ты, Тарас Петрович, – назвала, в свою очередь, Авдотья профессора на «ты», – больно-то не заносись, чай, сам-то не княжеских кровей, батюшка-то твой отец Петр всю жизнь лаптем щи хлебал, даром что поп.
Такой дерзости Тарас Петрович не смог простить даже представительнице простого народа.
– Авдотья! – крикнул он, выходя из себя. – Замолчи сейчас же! Старая ты дура! И не смей в моем присутствии рассуждать! Тупая твоя голова!
– Мне что… – отвечала будто и довольная такой отповедью кухарка. – Мое дело – господ накормить… А что жиды царя спихнуть хотят, так это вам каждый на базаре скажет…
Прищурившись, Глебушка через стол смотрел, как плавилась и ярилась папочкина круглая лысая голова, как заалели маковым цветом щеки профессора и покраснел нос, как собрались на лбу бисеринки пота и задрожал подбородок, как возмущенно подпрыгивало на переносице золотое пенсне и уже разевался, как у выброшенной из воды рыбы, готовый к гневной отповеди рот… Ой, что сейчас будет!.. И Глебушка зажмурился. Но Тарас Петрович, так и не найдя истребительных слов для сей негодной старухи, только махнул рукой и, выходя из-за стола, от всего сердца швырнул салфетку.
Брат Павел, едва сдерживая улыбку, тупился в свою тарелку. Мамочка терпеливо делала вид, что ничего особенного не происходит. И только Авдотья, убирая посуду со стола, не могла сдержать ехидной своей и победительной ухмылки.
* * *
А в эти же дни Лева Гольд писал из Одессы своему товарищу в Петербурге:
«…Говоришь, подлецу Трепову удалось не допустить беспорядки в столице? Что ж, за это ему не миновать свинцового подарка от наших товарищей. У нас не то, революционная Одесса не подкачала. Университет забастовал с начала сентября, профессора все (почти) были за нас (один даже передал на самооборону сто пятьдесят пистолетов!). А тем (единицам), кто осмелился быть против, объявляли полную обструкцию и прогоняли из аудиторий. На сходки сбегалось столько публики, что приходилось устраивать по нескольку в день, чтобы все поучаствовали. Эсер Тэпер (из наших, ты его должен знать) сказал выдающуюся речь против самодержавия. Да и другие тоже. А в октябре прекратили занятия вообще все учебные заведения, включая гимназии. Причем желторотые гимназисты оказались самыми большими радикалами – ха-ха!.. Собрали колоссально денег на вооруженное восстание. А восемнадцатого октября, в день объявления Манифеста, дурак Каульбас приказал войскам не высовывать носа на улицы, чтобы дать возможность беспрепятственно порадоваться населению. Тут уж мы на свободе порадовались вовсю! Представь: наши поймали дворнягу, нацепили ей на голову „царскую корону“, а к хвосту приладили триколор! Собака бегала как ненормальная и мела русским флагом одесские улицы. Наши смеялись до упаду, а у тех только морды багровели. Тут же производили сбор денег „на избиение царя“, а в думе изорвали большой портрет Николашки. С проезжающих на панихиду священников сбили шапки, а уж городовым от нас досталось – будут помнить! Многих поколотили, а кого и совсем отправили на тот свет. Не удалось, правда, вечером заставить рабочих объявить забастовку, пробовали даже стрелять в них, но их было больше, и они разогнали наших. А на следующий день вышли толпы рабочих, к которым привязывалась всякая дрянь с портретами Николашки, флагами, иконами и „Боже, царя храни“. Недалеко от Соборной площади наши стреляли и убили какого-то мальчишку, несшего икону. Вообще наши стреляли из-за каждого угла и очень удачно, так что поубивали многих, ну и, конечно, тут уж они рассвирепели и начался погром…»
* * *
А в Петербурге в это же самое время Сергей Юльевич Витте также раздражался до крайности.
Дал ему царь Николай полный карт-бланш на проведение реформ, поверив, что долгожданные свободы принесут наконец мир и успокоение в стране. Да Витте и сам в это верил свято. Общество жаждало вступить на европейский конституционный путь – ну хорошо, слава Тебе, Господи, убедил царя, вступаем, чего ж вам еще?
А еще, на другой день после манифеста, развязно требовали приглашенные к Витте газетчики: удалите войска! Объявите немедленную амнистию политзаключенным! Отмените смертную казнь бомбистам! Иначе забастовки взорвут всю страну, и вообще, если угодно знать, студенты повсюду уже собирают деньги на гроб Николаю Второму!
Глаза у новоиспеченного премьер-министра все больше округляются, дрожит подбородок, он почти задыхается от неслыханной наглости пришельцев, которым только что чуть не заискивающе подавал руку, и, путаясь, не находит правильных слов:
– Ну… с голыми женщинами.
– Врешь!
– Не вру! Хочешь – покажу.
Глебушка помолчал, преодолевая соблазн.
– А где ты их взял? – спросил он, уклоняясь от прямого ответа на заманчивое предложение.
– У брата. Там, знаешь… – И Володя, хихикая, что-то зашептал ему в самое ухо. – Обхохочешься! Приходи.
Они дошли до ворот гимназии. Во дворе кучками стояли старшеклассники и о чем-то возбужденно спорили. Странно, но на урок никто не спешил, словно и впрямь, по Володиному слову, наступила свобода и учеба теперь зависела исключительно от пожелания самих учеников.
Мальчики вошли в вестибюль. Он был украшен красным кумачом (когда успели?), и на нем тоже вырисовывалась сакраментальная надпись: «Да здравствует конституция!». Повсюду сновали взволнованные учителя, и на груди у большинства из них болтались какие-то красные тряпочки в виде бантов или розеток, столь быстро нацепленных, будто заготовленных заранее. Общее возбуждение нарастало. Первоклашки таращили глаза, переводя их с учителей на старших, мало что понимая в происходящем, зато старшие изо всех сил старались переживать исторический момент, чувствуя себя причастными к чему-то необыкновенному, что может изменить всю их дальнейшую жизнь.
Наконец всех пригласили в актовый зал, и директор, тоже с красным бантом, поминутно вытирая лысину, срывающимся голосом торжественно поздравил учащихся с царским манифестом, провозгласившим долгожданные политические и гражданские свободы. В честь великого события уроки отменялись и учащихся распускали по домам праздновать победу.
Разумеется, все гимназисты, освобожденные от занятий, закричали «ура», но домой никто не пошел, а разрозненной толпой отправились в центр города. На Караваевской встретили студентов, спешащих, так же как и гимназисты, в сторону Крещатика. Во главе тысячной демонстрации шли университетские профессора, и среди них и ростом, и всей мощной фигурой выделялся Глебушкин отец Тарас Петрович Горомило.
– Смотри, смотри! – толкнул товарища в бок Володя, указывая глазами на Глебушкиного отца.
А он и сам уже видел и удивлялся, как это только что лежавший с температурой отец оказался во главе колонны и тоже с чем-то красным, прицепленным к пальто.
Лицо Тараса Петровича сияло нездешним восторгом, он шел быстрым, уверенным шагом, раздувая ноздри, его мощная грудь разрезала воздушное пространство, как корабль волны, устремляясь вперед к одной ясно видимой ему и блистающей впереди цели. И Глебушка не посмел подойти к такому героического вида отцу, напоминавшему ему сейчас не то древнегреческого Ахилла, не то Спартака, не то самого Зевса – кого-то величественного и для простого смертного недоступного. Они с Володей пристроились сбоку, теряясь в рядах студентов, стараясь быть незаметными для «громовержца», но «громовержец», и увидев их, не обратил бы на них никакого внимания, погруженный в грандиозность свершающегося на их глазах потрясения основ.
В центре древнего Киева творилось что-то невообразимое. Казалось, весь город вышел на улицы и, пасхально облобызавшись, мгновенно оделся в кумач. Мелькали красные юбки, красные шарфы, красные розетки, красные платочки, красные цветы, с балконов свисали красные ковры, в воздухе реяли красные флаги. На недоуменно столбенеющих полицейских набрасывались со смехом и, празднично примиряясь, пытались нацепить и на их презренный мундир красный символ свободы, а они конфузливо отворачивались бормоча:
– Господа, что вы делаете? Не положено, господа…
Да как же не положено, когда свобода! И господа с веселым, беззлобным гоготом шли дальше, пьянея от всеобщего дерзкого веселья, от того, что никто с этого дня не смеет нанести свободной личности никакого вреда – ни этот полицейский, ни начальство, ни сам добровольно ограничивший себя царь!
Но на это жизнерадостное, бескорыстное, детское веселье стала вдруг накидываться словно бы какая невидимая черная тень, в легкомысленное веселье толпы будто плеснули гнилыми помоями, и ее радужно светящиеся нотки стали прорезывать совсем иные, мутные и озлобленные. На остановившиеся трамваи взбирались какие-то люди и, размахивая кумачом, что-то выкрикивали, словно выплевывали в толпу, беспощадно-ругательное и угрожающее, и ничего нельзя было разобрать, кроме одного настойчивого и все покрывающего требования «долой!».
«Да зачем же теперь „долой“, когда всем такая свобода и радость?» – еще добродушествовала толпа. Кого теперь-то «долой!», когда сам царь отвесил полной мерой своему народу чаемые свободы слова, собраний, совести и прочее, и прочее, и прочее… Когда царь обещал думу! Совет с лучшими, выбранными из народа людьми! И не только совет, но и послушание ей! Ибо без думы и закона теперь царю уже не принять! Вот как добровольно умалил себя царь! И за это ему полное «ура!», а не «долой!».
Ан нет! Его-то, оказывается, и долой! Ибо он-то и есть первейший враг и злодей! И обманщик! А все свободы – для видимости! Для пускания пыли в глаза! И потому мы все равно требуем! И чтобы немедленно! Учредительное собрание! И всем политическим скорее возвратиться домой!
А-а-а! Вот оно что!.. Значит, царская свобода – для бомбистов?.. Так, значит, приходится понимать, что струсил царь?..
А какой-то человек, появившийся на думском балконе, вдруг ухватился за царскую корону и стал остервенело отрывать ее от решетки. Наконец ему удалось осуществить задуманное. Подняв высоко, он водрузил себе царскую корону на голову и, кривляясь, закричал:
– Теперь я царь!
Потом снял с головы и, плюнув на нее, швырнул вниз. Корона грохнулась наземь и покатилась по каменной мостовой. Многотысячная толпа одновременно ахнула и на мгновение замерла, и в этой жуткой тишине вдруг раздался истошный бабий вопль:
– Жиды сбросили царскую корону!..
С молчаливым ужасом приняла этот вопль толпа и ответила сдержанным возмущенным гулом.
А на думский балкон выскочил другой, маленький, всклокоченный человек и что есть силы завопил:
– Люди добрые! Жиды изорвали все царские портреты! Глядите! Что они делают! Глаза! Императорам российским! Ножами! Православные! Да куда же вы смотрите!
Толпа взревела и бросилась в думу.
Конная часть, до сей поры в оцепенении стоявшая в стороне и не мешавшая изъявлению народной радости по поводу конституции, наконец очнулась и, стараясь не допустить эксцессов, стала теснить в сторону негодующих граждан, желавших прорваться в думу для справедливого отмщения. Тогда из самой думы прогремело несколько выстрелов по военным. Военные встрепенулись и дали несколько устрашающих залпов по думе. Толпа стала разбегаться. Успевшая прорваться в думу часть народа была потрясена устроенным в ее стенах шабашем. В актовом зале все портреты российских царей и императоров были сорваны со стен, изорваны в клочья, у многих выколоты глаза, а на некоторых были оставлены человеческие испражнения. Участники царского погрома куда-то успели испариться, и ворвавшаяся толпа, не найдя предмета для выплеска своей ярости, устремилась из думы к окраинам Киева, где проживало еврейское население…
Военные сдерживали разбушевавшиеся «конституционные» страсти как могли.
Вечером папочка, как обычно, громыхал речами. Глебушка сидел притихший, не сознаваясь, что тоже участвовал в «праздновании конституции». Елизавета Ивановна уже давно ни в чем не перечила мужу, сознавая всю бесполезность словопрений, Павел также не возражал отчиму, памятуя матушкину фразу о смирении. Из домашних главе семейства смела противоречить только одна их старая кухарка Авдотья, прислуживавшая еще девчонкой батюшке Тараса Петровича, отцу Петру. Подавая вечером ужин, она не переставала бурчать под нос насчет «жидов», которые совсем обнаглели, и надо же! Один такой наглец посмел напялить на свою наглую рожу царскую корону! (Авдотья тоже была в тот час у городской думы.) И что же это они себе позволяют! Эдак они и в самом деле, что ли, мечтают захватить власть над Россией, один, мол, так и кричал: теперь мы будем вами править! Мы дали вам Бога, дадим и царя! И куда это смотрит наш царь-государь? И прочее свое глупое, деревенское, бабье.
Тарас Петрович, питавший слабость, как и большинство русской интеллигенции, к угнетенному еврейскому племени, не выдержал и на этот раз обратил весь свой праведный гнев на представительницу всегда защищаемого им простого народа.
– Вы, Авдотья Никитишна, – назвал он ее по имени-отчеству и на «вы», что делал только в исключительных случаях наивысшего недовольства старой кухаркой, – живете в интеллигентной семье, а тоже городите черт знает что! «Жиды! Жиды!» – передразнил он Авдотью. – И слово-то какое мерзкое придумали – «жиды»! Чем это вам «жиды» насолили?!
– Дак как же, батюшка, их называть, когда они жиды и есть? Я, положим, русская, кацапка, с-под Курска, а они – жиды, уж не знаю, откуда такие явились. Бабы на базаре говорили – с самого, мол, Польского царства, еще при матушке-Екатерине. Уж на что умная была государыня, а тут маху дала, проморгала. На кой ляд нам были эти поляки да жиды!
– Наитёмная вы женщина, Авдотья Никитишна! – задрожал от гнева профессор. – Другому с такими мыслями я бы и руки не подал, а с вас – что взять. Коснейте в своем невежестве. Вот он, наш простой русский народ, о котором мы все так печемся! Глядите! Примитивус петикантропус!
– А ты, Тарас Петрович, – назвала, в свою очередь, Авдотья профессора на «ты», – больно-то не заносись, чай, сам-то не княжеских кровей, батюшка-то твой отец Петр всю жизнь лаптем щи хлебал, даром что поп.
Такой дерзости Тарас Петрович не смог простить даже представительнице простого народа.
– Авдотья! – крикнул он, выходя из себя. – Замолчи сейчас же! Старая ты дура! И не смей в моем присутствии рассуждать! Тупая твоя голова!
– Мне что… – отвечала будто и довольная такой отповедью кухарка. – Мое дело – господ накормить… А что жиды царя спихнуть хотят, так это вам каждый на базаре скажет…
Прищурившись, Глебушка через стол смотрел, как плавилась и ярилась папочкина круглая лысая голова, как заалели маковым цветом щеки профессора и покраснел нос, как собрались на лбу бисеринки пота и задрожал подбородок, как возмущенно подпрыгивало на переносице золотое пенсне и уже разевался, как у выброшенной из воды рыбы, готовый к гневной отповеди рот… Ой, что сейчас будет!.. И Глебушка зажмурился. Но Тарас Петрович, так и не найдя истребительных слов для сей негодной старухи, только махнул рукой и, выходя из-за стола, от всего сердца швырнул салфетку.
Брат Павел, едва сдерживая улыбку, тупился в свою тарелку. Мамочка терпеливо делала вид, что ничего особенного не происходит. И только Авдотья, убирая посуду со стола, не могла сдержать ехидной своей и победительной ухмылки.
* * *
А в эти же дни Лева Гольд писал из Одессы своему товарищу в Петербурге:
«…Говоришь, подлецу Трепову удалось не допустить беспорядки в столице? Что ж, за это ему не миновать свинцового подарка от наших товарищей. У нас не то, революционная Одесса не подкачала. Университет забастовал с начала сентября, профессора все (почти) были за нас (один даже передал на самооборону сто пятьдесят пистолетов!). А тем (единицам), кто осмелился быть против, объявляли полную обструкцию и прогоняли из аудиторий. На сходки сбегалось столько публики, что приходилось устраивать по нескольку в день, чтобы все поучаствовали. Эсер Тэпер (из наших, ты его должен знать) сказал выдающуюся речь против самодержавия. Да и другие тоже. А в октябре прекратили занятия вообще все учебные заведения, включая гимназии. Причем желторотые гимназисты оказались самыми большими радикалами – ха-ха!.. Собрали колоссально денег на вооруженное восстание. А восемнадцатого октября, в день объявления Манифеста, дурак Каульбас приказал войскам не высовывать носа на улицы, чтобы дать возможность беспрепятственно порадоваться населению. Тут уж мы на свободе порадовались вовсю! Представь: наши поймали дворнягу, нацепили ей на голову „царскую корону“, а к хвосту приладили триколор! Собака бегала как ненормальная и мела русским флагом одесские улицы. Наши смеялись до упаду, а у тех только морды багровели. Тут же производили сбор денег „на избиение царя“, а в думе изорвали большой портрет Николашки. С проезжающих на панихиду священников сбили шапки, а уж городовым от нас досталось – будут помнить! Многих поколотили, а кого и совсем отправили на тот свет. Не удалось, правда, вечером заставить рабочих объявить забастовку, пробовали даже стрелять в них, но их было больше, и они разогнали наших. А на следующий день вышли толпы рабочих, к которым привязывалась всякая дрянь с портретами Николашки, флагами, иконами и „Боже, царя храни“. Недалеко от Соборной площади наши стреляли и убили какого-то мальчишку, несшего икону. Вообще наши стреляли из-за каждого угла и очень удачно, так что поубивали многих, ну и, конечно, тут уж они рассвирепели и начался погром…»
* * *
А в Петербурге в это же самое время Сергей Юльевич Витте также раздражался до крайности.
Дал ему царь Николай полный карт-бланш на проведение реформ, поверив, что долгожданные свободы принесут наконец мир и успокоение в стране. Да Витте и сам в это верил свято. Общество жаждало вступить на европейский конституционный путь – ну хорошо, слава Тебе, Господи, убедил царя, вступаем, чего ж вам еще?
А еще, на другой день после манифеста, развязно требовали приглашенные к Витте газетчики: удалите войска! Объявите немедленную амнистию политзаключенным! Отмените смертную казнь бомбистам! Иначе забастовки взорвут всю страну, и вообще, если угодно знать, студенты повсюду уже собирают деньги на гроб Николаю Второму!
Глаза у новоиспеченного премьер-министра все больше округляются, дрожит подбородок, он почти задыхается от неслыханной наглости пришельцев, которым только что чуть не заискивающе подавал руку, и, путаясь, не находит правильных слов: