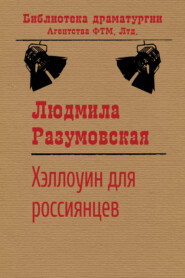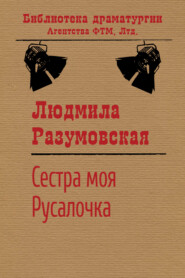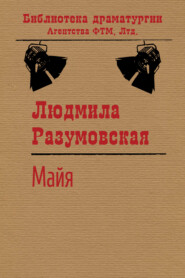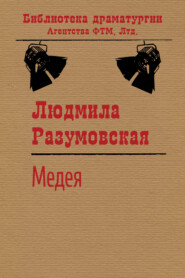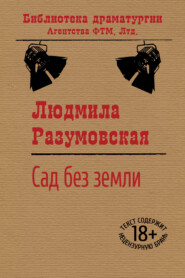По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Апостасия. Отступничество
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Павел как сел на стул, так и приклеился намертво, не отодрать. И голос пропал. И хотел бы что сказать – язык не шевелится. С ужасом смотрел он на вывалившиеся большие груди рассевшейся на кровати как ни в чем не бывало здоровенной крестьянской девки, безо всякого стеснения задравшей ногу на постель и стягивавшей теперь чулок.
– Тебя Павлом зовут, знаю. А меня Настеной. Ну иди ко мне, дичок. Дичок – молодой бычок. – Она засмеялась. – Не бойся, чай, не съем я тебя. – Она уже улеглась на кровать, совсем голая, чуть прикрыв это место одеялом.
Как загипнотизированный смотрел Павел на покойно раскинувшееся, пышное, как взбитое масло, тело Настены, на ее толстые ляжки, большой белый живот, округлые груди с маленькими розовыми сосками – и не мог сдвинуться с места.
– Ну иди, что ль, поближе, поговорим… – лениво проговорила Настена. – Вот глупый. Деньги заплатил и сидишь. Мне – что? – Она сладко, во весь рот зевнула, прикрыла ладонью глаза и вдруг захрапела.
Павел вздрогнул. Настена заснула так внезапно и так, по-видимому, всерьез, что он, и без того сидевший статуей, совсем перестал дышать, боясь спугнуть ее сон, боясь, что она так же неожиданно проснется и опять начнется пытка блудным искушением.
Через час Настена заворочалась, стала натягивать (должно быть, замерзла) одеяло, протерла глаза. Увидев все так же безмолвно сидевшего на стуле Павла, она охнула и, привстав на постели, испуганно воскликнула:
– Ой матушки мои! Да что ж ты все так сиротинушкой и сидишь, миленький! – Она проворно вскочила с кровати и, бросившись к Павлу, затормошила. – Давай, миленький, скорей! Что ж ты… У меня ты, чай, не один…
Но Павел – откуда только прыть взялась! – взвился как ужаленный и, оттолкнув Настену, опрометью бросился вон.
Всю оставшуюся ночь он проходил по чужому, замерзшему, вымершему ночному городу, не разбирая улиц, шел и шел, куда вели глаза и ноги. Молчаливо и мрачно нависали над ним громады домов, и они казались такими же вымершими и пустыми, как улицы. Нигде ни огонька, ни свечечки в окнах. Жутко. А мороз пробирается под новенькую гимназическую шинель, горят уши, горят щеки, пальцы на руках и ногах немеют и болят от холода. Да ведь так можно и окоченеть! Побежал. Короткими перебежками с передышками добежал до показавшегося ему знакомым вокзала. Да это же тот самый, Николаевский, на который он сегодня утром… неужели сегодня? нет, уже вчера… приехал из Киева.
Здесь же, у вокзала, бросился к дремавшему в санях извозчику, сказал адрес. Через десять минут сонный дворник уже отворял ему ворота. Медленно поднялся Павел на шестой этаж, долго звонил и стучал в квартиру брата. Наконец Петр услышал и открыл дверь.
– Ты куда пропал? Отчего меня не подождал? Я уж Настену твою отругал, что она тебя так отпустила, дура-баба! – накинулся на брата Петр. – О-о! Да ты, я вижу, совсем заледенел… нос-то не отморозил?! Давай-ка сюда, к печке, грейся.
Павел в изнеможении припал к теплому кафелю.
Петр еще долго о чем-то говорил, ругал Настену, самого Павла, петербургские морозы, но младший брат уже ничего не слыхал, его страшно клонило в сон, он бы тут же, у печки, сейчас и упал и заснул, но Петр помог ему добраться до дивана и раздеться. Укрыл поверх одеяла полушубком и сам снова завалился досыпать в постель.
Встали братья далеко за полдень.
Петр, как ни в чем не бывало, в благодушнейшем настроении снова стал зазывать брата на очередное студенческое бдение, но потрясенный вчерашними похождениями Павел сказал, что устал и хочет вернуться домой. Петр был страшно изумлен и раздосадован. Он долго уговаривал брата остаться и даже стыдил и возмущался такой его нечувствительностью «к пульсу истории», но Павел оказался на сей раз к пресловутому «пульсу» абсолютно равнодушен и на все уговоры отзывался непреклонным молчанием.
Вечером пришлось вконец разобиженному Петру проводить несговорчивого брата на вокзал.
Тетрадочка со стихами так и осталась лежать в сумке сиротой.
Павел считал себя теперь навек опозоренным и недостойным общения не только с отцом Иоанном, но и с великим Поэтом.
Между тем отец Иоанн, обеспокоенный долгим отсутствием духовного своего чада, прислал записочку:
«Чадо мое дорогое! Слыхал я, Павлуша, от твоей матушки, что ты занемог. Молюсь за тебя, чадо. А и сам я лежу в немощи. Как поправишься, приходи, милый.
Твой молитвенник, многогрешный архимандрит Иоанн».
Ожгла сердце эта записочка. Батюшка родненький болен! А как прийти? Как взглянет он, скверный и нечистый, в праведные святые очи отца Иоанна? Нет, он погиб. Погиб безвозвратно. И… пускай!
А мартовское солнце так нестерпимо сияло, и синело, синело небо, словно звало его в свою ясную, небесную синь, и звенела капель, и ворковали голуби, и плескались в луже воробьи, и гаркали, свивая гнезда, вороны, и все радовалось жизни! И Павлу хотелось радоваться. Выскочить бы сейчас на улицу, помчаться по кривому, мощеному спуску вниз, вниз к Подолу, где лепятся в разбросанном беспорядке дома-домики в палисадничках-садах и стоят себе вековые, милые, излюбленные церквушки!.. Но он никуда не выходит, сидит в своей комнатке, как в тюрьме, ни с кем – ни слова. И мамочка плачет, а отчим Тарас Петрович хмурится: что это за «болезни» такие пошли? Глупость одна, всыпать бы розог! Да ведь с его убеждениями – какие розги! Недемократично!..
Не выдержала матушка.
– Что ж ты, Павленька, к отцу Иоанну не идешь? Ведь плох батюшка. Все тебя ждет-вспоминает!
О-о! Как ноги-то заплетаются, не идут!
По-ше-ел… Вот мука-то! Вот она какова, тягость греховная! Идет Павленька, словно сто пудов на себе волочет.
Постучал в келейку. А уж старец руки распростер:
– Свет ясный, Павлуша!..
А Павел бухнулся, пряча глаза, в ноги. Заплакал.
Гладит его по головке старец, гладит, шепчет:
– От юности моея мнози борют мя страсти… Ничего, Бог простит, ничего… – вздыхает, и слезки у самого капают… – Ничего…
«И откуда это он все знает? – думает, содрогаясь в рыданиях, Павел. – Все, все ему открыто… Все ему Бог открывает…»
И, уже успокаиваясь после старческой ласки, перестает всхлипывать и чувствует, как легкая радость прощения и отпущения ложится на сердце весенним ковром распускающихся цветов…
6
В июне месяце родила Наденька сыночка. Ах как хотелось ей назвать его в честь отца – Натаном! Да кто ж окрестит младенца таким именем! И родители что скажут? А как же назвать? Да вот Иваном и назвать, – присоветовала маменька Варвара Ильинична, приехавшая в Петербург уговаривать дочь вернуться домой и по-людски начать жить. Грех-то – что делать? – покроем. А уж у отца Ивана Афанасьевича есть на примете для Наденьки жених, раскрасавец и человек добрый.
Какой еще жених! Зачем это? Не нужно Наденьке никакого жениха! А что же ей нужно? А вот… как объяснить старой мамаше, что пуще всех женихов стала мила Наденьке ее партийная работа: листовки, прокламации, бомбы да зажигательные речи товарищей Натана! Нет, этого сказать мамаше никак невозможно – с ума, что ли, скажет, дочь сошла?
Смотрит Наденька на своего распрекрасного «революционного» сыночка – не налюбуется. И глазки, и носик, и ротик – всё не Наденькино, всё от отца. Да куда же ей ребеночка-то теперь? В сиротский дом? О-ох!.. Кормит Наденька его грудью, а у самой глазки на мокром месте. От Натана всего одно письмо и получила через товарищей. Живет в Мюнхене, пишет в «Искру» статьи вместе с Лениным и еще этим знаменитым, как его… Парвусом. А она, Наденька, вместо того чтобы быть там, рядом с ним, с ними, помогать сокрушать ненавистный царизм!.. Ах, как несправедлива жизнь! Заплакала.
А мамаша-то, Варвара Ильинична, так и не поняла, отчего дочь рыдает. Поняла по-своему, стала снова увещевать-уговаривать домой вернуться, да ведь и уговорила.
Приехали в Нижний. Дом отцовский – полная чаша, лучший в городе, затейливый, модный, московский знаменитый архитектор строил, что и самому Рябушинскому в Москве. Из окон – вся Волга на высоком берегу, вся ширь ее необъятная, все просторы русские. Но для Наденьки дом родительский – что тюрьма. Тоскует ее душа по утраченному раю – великому смыслу жизни, ох как хочется ей Родине послужить, народу рабочему! Что ж, так теперь весь век сиднем сидеть и в окошко глядеть из папенькиной золоченой клетки?
А Ванечке (Натанчику) уже месяцок исполнился. Дома – мамок да нянек полно, Наденька и не нужна – кормилица кормит, молока у ней, что у дойной коровы, а у Наденьки от переживаний почти и нет ничего. А тут Иван Афанасьевич и жениха ей привел на смотрины, взглянула на него Наденька – такой-то с виду красивый, ладный (управляющий отцовским заводом), да только, Боже мой, зачем же он ей?! Закабалить себя навсегда, обложиться детьми, как ее мать, Варвара Ильинична, фу, мещанство! Разве об этом мечтала Наденька? О такой судьбе? Разве не мерещилась ей в подражание героическая Софья Перовская с петлей на шее? Ох, бежать надо, бежать скорее в свободную, эмансипированную жизнь! Страдала-мучилась Наденька, да и выпалила отцу вдруг:
– Уж вы как хотите, папаша, а возвращаюсь я обратно в Петербург, учиться продолжать, жизнь свою сама строить. Как хочу.
А Иван Афанасьевич и перечить не стал, сам видел: отрезанный дочь ломоть. Как пошло у нее наперекосяк, так уж теперь, видно, и дальше пойдет. Что ж, езжайте, Надежда Ивановна, скатертью дорожка. Иван с нами останется, усыновим. (Это он сразу решил, как только о беременности дочери узнал.) А теперь и души не чаял в первом внуке своем, старшие сыновья не женатые еще, а дочки – мал мала меньше, когда еще до них очередь дойдет! А только уж он теперь их от себя не отпустит. Сперва замуж, а дальше – уж как душеньке твоего супруга будет угодно! Хоть в университет, хоть на курсы, хоть… в бомбистки! Ну, это… так, в сердцах сорвалось, с досады, не приведи Бог дочерей своих верками фигнер да засулич на скамье подсудимых узреть!
Так и укатила Надежда Ивановна в свой Петербург. Матушка поплакала-поплакала о непутевой, да скоро и утешилась свет-Ванечкой. А Ивана Афанасьевича позвали в Москву дела неотложные – сам умнейший и благороднейший Александр Иванович Гучков.
7
Лето тысяча девятьсот пятого выдалось жарким не только по небывало высоким температурам – горели помещичьи усадьбы по всей Руси, что свечечки. И много, много надо было молодых жарких сердец, готовых отдать души свои и приложить руки свои для запаления всей необъятной, в неподвижной дреме лежавшей России.
Вот и золотой август кончается.
* * *
«Бога нет, царя не надо, губернаторов побьем, податей платить не будем, сами в каторгу пойдем», – мурлычет себе под нос революционную частушку Наденька – во рту травинка.
Ах, что это вы поете, барышня?
– Тебя Павлом зовут, знаю. А меня Настеной. Ну иди ко мне, дичок. Дичок – молодой бычок. – Она засмеялась. – Не бойся, чай, не съем я тебя. – Она уже улеглась на кровать, совсем голая, чуть прикрыв это место одеялом.
Как загипнотизированный смотрел Павел на покойно раскинувшееся, пышное, как взбитое масло, тело Настены, на ее толстые ляжки, большой белый живот, округлые груди с маленькими розовыми сосками – и не мог сдвинуться с места.
– Ну иди, что ль, поближе, поговорим… – лениво проговорила Настена. – Вот глупый. Деньги заплатил и сидишь. Мне – что? – Она сладко, во весь рот зевнула, прикрыла ладонью глаза и вдруг захрапела.
Павел вздрогнул. Настена заснула так внезапно и так, по-видимому, всерьез, что он, и без того сидевший статуей, совсем перестал дышать, боясь спугнуть ее сон, боясь, что она так же неожиданно проснется и опять начнется пытка блудным искушением.
Через час Настена заворочалась, стала натягивать (должно быть, замерзла) одеяло, протерла глаза. Увидев все так же безмолвно сидевшего на стуле Павла, она охнула и, привстав на постели, испуганно воскликнула:
– Ой матушки мои! Да что ж ты все так сиротинушкой и сидишь, миленький! – Она проворно вскочила с кровати и, бросившись к Павлу, затормошила. – Давай, миленький, скорей! Что ж ты… У меня ты, чай, не один…
Но Павел – откуда только прыть взялась! – взвился как ужаленный и, оттолкнув Настену, опрометью бросился вон.
Всю оставшуюся ночь он проходил по чужому, замерзшему, вымершему ночному городу, не разбирая улиц, шел и шел, куда вели глаза и ноги. Молчаливо и мрачно нависали над ним громады домов, и они казались такими же вымершими и пустыми, как улицы. Нигде ни огонька, ни свечечки в окнах. Жутко. А мороз пробирается под новенькую гимназическую шинель, горят уши, горят щеки, пальцы на руках и ногах немеют и болят от холода. Да ведь так можно и окоченеть! Побежал. Короткими перебежками с передышками добежал до показавшегося ему знакомым вокзала. Да это же тот самый, Николаевский, на который он сегодня утром… неужели сегодня? нет, уже вчера… приехал из Киева.
Здесь же, у вокзала, бросился к дремавшему в санях извозчику, сказал адрес. Через десять минут сонный дворник уже отворял ему ворота. Медленно поднялся Павел на шестой этаж, долго звонил и стучал в квартиру брата. Наконец Петр услышал и открыл дверь.
– Ты куда пропал? Отчего меня не подождал? Я уж Настену твою отругал, что она тебя так отпустила, дура-баба! – накинулся на брата Петр. – О-о! Да ты, я вижу, совсем заледенел… нос-то не отморозил?! Давай-ка сюда, к печке, грейся.
Павел в изнеможении припал к теплому кафелю.
Петр еще долго о чем-то говорил, ругал Настену, самого Павла, петербургские морозы, но младший брат уже ничего не слыхал, его страшно клонило в сон, он бы тут же, у печки, сейчас и упал и заснул, но Петр помог ему добраться до дивана и раздеться. Укрыл поверх одеяла полушубком и сам снова завалился досыпать в постель.
Встали братья далеко за полдень.
Петр, как ни в чем не бывало, в благодушнейшем настроении снова стал зазывать брата на очередное студенческое бдение, но потрясенный вчерашними похождениями Павел сказал, что устал и хочет вернуться домой. Петр был страшно изумлен и раздосадован. Он долго уговаривал брата остаться и даже стыдил и возмущался такой его нечувствительностью «к пульсу истории», но Павел оказался на сей раз к пресловутому «пульсу» абсолютно равнодушен и на все уговоры отзывался непреклонным молчанием.
Вечером пришлось вконец разобиженному Петру проводить несговорчивого брата на вокзал.
Тетрадочка со стихами так и осталась лежать в сумке сиротой.
Павел считал себя теперь навек опозоренным и недостойным общения не только с отцом Иоанном, но и с великим Поэтом.
Между тем отец Иоанн, обеспокоенный долгим отсутствием духовного своего чада, прислал записочку:
«Чадо мое дорогое! Слыхал я, Павлуша, от твоей матушки, что ты занемог. Молюсь за тебя, чадо. А и сам я лежу в немощи. Как поправишься, приходи, милый.
Твой молитвенник, многогрешный архимандрит Иоанн».
Ожгла сердце эта записочка. Батюшка родненький болен! А как прийти? Как взглянет он, скверный и нечистый, в праведные святые очи отца Иоанна? Нет, он погиб. Погиб безвозвратно. И… пускай!
А мартовское солнце так нестерпимо сияло, и синело, синело небо, словно звало его в свою ясную, небесную синь, и звенела капель, и ворковали голуби, и плескались в луже воробьи, и гаркали, свивая гнезда, вороны, и все радовалось жизни! И Павлу хотелось радоваться. Выскочить бы сейчас на улицу, помчаться по кривому, мощеному спуску вниз, вниз к Подолу, где лепятся в разбросанном беспорядке дома-домики в палисадничках-садах и стоят себе вековые, милые, излюбленные церквушки!.. Но он никуда не выходит, сидит в своей комнатке, как в тюрьме, ни с кем – ни слова. И мамочка плачет, а отчим Тарас Петрович хмурится: что это за «болезни» такие пошли? Глупость одна, всыпать бы розог! Да ведь с его убеждениями – какие розги! Недемократично!..
Не выдержала матушка.
– Что ж ты, Павленька, к отцу Иоанну не идешь? Ведь плох батюшка. Все тебя ждет-вспоминает!
О-о! Как ноги-то заплетаются, не идут!
По-ше-ел… Вот мука-то! Вот она какова, тягость греховная! Идет Павленька, словно сто пудов на себе волочет.
Постучал в келейку. А уж старец руки распростер:
– Свет ясный, Павлуша!..
А Павел бухнулся, пряча глаза, в ноги. Заплакал.
Гладит его по головке старец, гладит, шепчет:
– От юности моея мнози борют мя страсти… Ничего, Бог простит, ничего… – вздыхает, и слезки у самого капают… – Ничего…
«И откуда это он все знает? – думает, содрогаясь в рыданиях, Павел. – Все, все ему открыто… Все ему Бог открывает…»
И, уже успокаиваясь после старческой ласки, перестает всхлипывать и чувствует, как легкая радость прощения и отпущения ложится на сердце весенним ковром распускающихся цветов…
6
В июне месяце родила Наденька сыночка. Ах как хотелось ей назвать его в честь отца – Натаном! Да кто ж окрестит младенца таким именем! И родители что скажут? А как же назвать? Да вот Иваном и назвать, – присоветовала маменька Варвара Ильинична, приехавшая в Петербург уговаривать дочь вернуться домой и по-людски начать жить. Грех-то – что делать? – покроем. А уж у отца Ивана Афанасьевича есть на примете для Наденьки жених, раскрасавец и человек добрый.
Какой еще жених! Зачем это? Не нужно Наденьке никакого жениха! А что же ей нужно? А вот… как объяснить старой мамаше, что пуще всех женихов стала мила Наденьке ее партийная работа: листовки, прокламации, бомбы да зажигательные речи товарищей Натана! Нет, этого сказать мамаше никак невозможно – с ума, что ли, скажет, дочь сошла?
Смотрит Наденька на своего распрекрасного «революционного» сыночка – не налюбуется. И глазки, и носик, и ротик – всё не Наденькино, всё от отца. Да куда же ей ребеночка-то теперь? В сиротский дом? О-ох!.. Кормит Наденька его грудью, а у самой глазки на мокром месте. От Натана всего одно письмо и получила через товарищей. Живет в Мюнхене, пишет в «Искру» статьи вместе с Лениным и еще этим знаменитым, как его… Парвусом. А она, Наденька, вместо того чтобы быть там, рядом с ним, с ними, помогать сокрушать ненавистный царизм!.. Ах, как несправедлива жизнь! Заплакала.
А мамаша-то, Варвара Ильинична, так и не поняла, отчего дочь рыдает. Поняла по-своему, стала снова увещевать-уговаривать домой вернуться, да ведь и уговорила.
Приехали в Нижний. Дом отцовский – полная чаша, лучший в городе, затейливый, модный, московский знаменитый архитектор строил, что и самому Рябушинскому в Москве. Из окон – вся Волга на высоком берегу, вся ширь ее необъятная, все просторы русские. Но для Наденьки дом родительский – что тюрьма. Тоскует ее душа по утраченному раю – великому смыслу жизни, ох как хочется ей Родине послужить, народу рабочему! Что ж, так теперь весь век сиднем сидеть и в окошко глядеть из папенькиной золоченой клетки?
А Ванечке (Натанчику) уже месяцок исполнился. Дома – мамок да нянек полно, Наденька и не нужна – кормилица кормит, молока у ней, что у дойной коровы, а у Наденьки от переживаний почти и нет ничего. А тут Иван Афанасьевич и жениха ей привел на смотрины, взглянула на него Наденька – такой-то с виду красивый, ладный (управляющий отцовским заводом), да только, Боже мой, зачем же он ей?! Закабалить себя навсегда, обложиться детьми, как ее мать, Варвара Ильинична, фу, мещанство! Разве об этом мечтала Наденька? О такой судьбе? Разве не мерещилась ей в подражание героическая Софья Перовская с петлей на шее? Ох, бежать надо, бежать скорее в свободную, эмансипированную жизнь! Страдала-мучилась Наденька, да и выпалила отцу вдруг:
– Уж вы как хотите, папаша, а возвращаюсь я обратно в Петербург, учиться продолжать, жизнь свою сама строить. Как хочу.
А Иван Афанасьевич и перечить не стал, сам видел: отрезанный дочь ломоть. Как пошло у нее наперекосяк, так уж теперь, видно, и дальше пойдет. Что ж, езжайте, Надежда Ивановна, скатертью дорожка. Иван с нами останется, усыновим. (Это он сразу решил, как только о беременности дочери узнал.) А теперь и души не чаял в первом внуке своем, старшие сыновья не женатые еще, а дочки – мал мала меньше, когда еще до них очередь дойдет! А только уж он теперь их от себя не отпустит. Сперва замуж, а дальше – уж как душеньке твоего супруга будет угодно! Хоть в университет, хоть на курсы, хоть… в бомбистки! Ну, это… так, в сердцах сорвалось, с досады, не приведи Бог дочерей своих верками фигнер да засулич на скамье подсудимых узреть!
Так и укатила Надежда Ивановна в свой Петербург. Матушка поплакала-поплакала о непутевой, да скоро и утешилась свет-Ванечкой. А Ивана Афанасьевича позвали в Москву дела неотложные – сам умнейший и благороднейший Александр Иванович Гучков.
7
Лето тысяча девятьсот пятого выдалось жарким не только по небывало высоким температурам – горели помещичьи усадьбы по всей Руси, что свечечки. И много, много надо было молодых жарких сердец, готовых отдать души свои и приложить руки свои для запаления всей необъятной, в неподвижной дреме лежавшей России.
Вот и золотой август кончается.
* * *
«Бога нет, царя не надо, губернаторов побьем, податей платить не будем, сами в каторгу пойдем», – мурлычет себе под нос революционную частушку Наденька – во рту травинка.
Ах, что это вы поете, барышня?