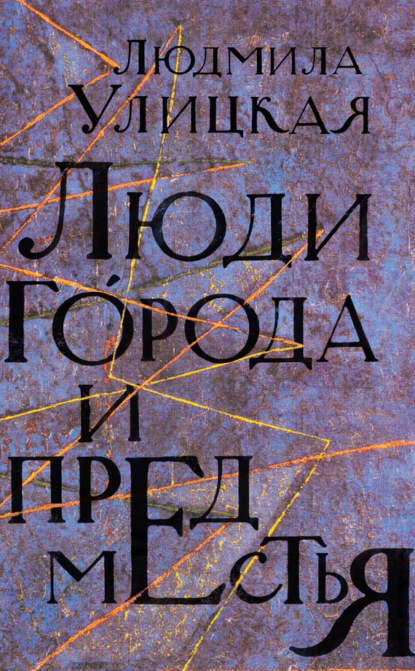По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Люди города и предместья (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Мне до Бога нет никакого дела, я хочу быть как все», – это она так говорит, потому что она девочка еврейская, израильтянка, мечтает поскорее пойти в армию, взять в руки автомат. Она ходила прежде со мной к здешнему ксендзу, он тоже из Польши. С самого начала он говорил: человек всюду должен сознательно принимать решение, а особенно здесь, в Израиле. То, что ты ее крестила, ничего не значит, пока она не вырастет. Говорил, води ее в церковь, пока она маленькая, но в наших сложных условиях надо ждать от человека самостоятельного решения. Он оказался прав: она больше в церковь не ходит. Ясное дело, отрезанный ломоть. Она со мной в Польшу никогда не поедет. А у меня теперь нет никого, кроме нее. Ей семнадцать лет. Я уже мечтала, что она вырастет, выйдет замуж, и я уеду доживать на родину. А теперь, когда я увидела Польшу после стольких лет, поняла, что мне и там будет плохо. Почему так сложилось: нет как будто для меня на земле подходящего места – плохо, очень плохо мне в Израиле, плохо и в Польше. Здесь я всегда устаю от шума, от повышенной экспансивности людей – орут соседи, орут в автобусе, орет хозяйка в мастерской. Арабская музыка вечно. Мне все время хочется выключить звук. Здесь слишком яркое солнце, и тоже хочется немного пригасить. Жара меня изнуряет – а в нашем домике летом невыносимо, у меня от жары такое чувство, что кровь спеклась. Подхожу к окну – из окна виден Табор. Гора Преображения. Нет, лучше новостройки Кельце. А теперь, вернувшись из унылого нашего Кельце, поняла, что и там не смогу. Все, что у меня есть, – две могилы на Святой земле.
Я очень благодарна, Виктория, что ты меня так радушно приняла. Ты мне оказалась ближе сестры, но это не основание, чтобы возвращаться в Польшу. Там все так серо, так бесцветно, и люди слишком уж молчаливы.
Вчера была годовщина смерти Метека. Он умер за два дня до своего пятидесятипятилетия. Анджей погиб за два дня до двадцати. Пришли вчера сослуживцы из музыкальной школы, соседи, принесли и еды, и водки. Так хорошо про него говорили. Хана сначала смеялась до неприличия, потом рыдала. У нее вообще характер истерический. Анджей был полная противоположность – такой светлый, спокойный. Вчера я поняла, какая же была счастливая у нас семья четыре года тому назад. Смириться невозможно. Молиться не могу. Вместо сердца камень. Хана хоть плачет. А у меня слез нет.
Виктория, дорогая, приходят в голову разные темные мысли. Так хочется уснуть и не проснуться. Самое ужасное именно пробуждение. Во сне мне хорошо – снов у меня нет, и меня совсем нет, и это так хорошо, когда расстаешься с собой и своими мыслями. Сначала просыпаешься, как младенец, после сна все смыто, разглажено. Потом удар: приезжают двое военных, полковник и сержант, – сообщают о смерти Анджея. Все как заново обрывается во мне, и за минуту прокручивается вся эта лента – до похорон в закрытом гробу. Такая дыра в сердце.
Потом – опять неожиданно – в мастерскую ко мне пришел директор музыкальной школы и пожилая преподавательница по классу фортепиано, Элишева Зак. Здесь в Израиле свой ритуал сообщения о смерти: редко по телефону звонят – приезжают. И каждое утро заново я проживаю эти смерти, мальчика моего и мужа. А лет мне сорок шесть, и здоровье хорошее, так, как с Метеком, – остановка сердца, и все! – со мной не будет. И просыпаться мне еще сорок, а то и пятьдесят лет вот так каждое утро, а потом тащиться в мастерскую и строчить на машинке занавески, занавески, занавески… А без занавесок этих не могу. Пенсия у меня за сына большая, но если не строчить, я повешусь. Даже не замечу, как это сделаю. Без всяких колебаний, решений, подготовки. Это так просто, слишком просто.
Какая нелепая и странная жизнь: лучшие годы – как теперь вспоминается – годы оккупации, когда я каждую ночь бегала в подвал соседнего разбомбленного дома, по тайной тропочке, через узкий лаз, куда только я одна и могла пронырнуть. И действительно – пронырнуть, потому что трех ступенек не было, и спрыгнуть в темноту. И Метековы руки встречали меня. Зажигали свечечку. Метек не любил меня обнимать в темноте, говорил, что красоту мою хочет видеть. Виктория, Виктория, кругом лютая смерть, убивают и убивают, а мы как в раю. И рай наш длился полтора года. Он одного не знал и никогда не узнал: что сосед Мочульский подсмотрел, выследил, как я по ночам к Метеку ходила, и шантажировал меня. А что у меня было, ничего у меня не было, кроме того, что бабы под юбкой носят. Он старый, он противный, он негодяй – а зовет меня, и я иду. Требовал-то нечасто, силы не было. А я встряхнусь – и к Метеку, очиститься от мерзости. Ну, Господь с Мочульским распорядился по справедливости: он попал к русским в лагеря после войны, тоже по какому-то доносу, и его бандиты зарезали в лагере году в 47-м.
Метек любил меня да музыку, ну, детей еще наших любил. И это весь мир для него, а в центре я. Из-за меня он и карьеру музыкальную не сделал. Ему в Америке место предлагали в Бостонском симфоническом оркестре, в пятьдесят первом году, я сказала – ни за что в Америку не поеду. Ну и поехали в Израиль. Вот тебе судьба! Он всегда поступал так, как я хотела. Ты, говорит, столько горшков с моим дерьмом вынесла, что заслужила золотой памятник. Вот он, памятник мой, – две могилы. А жить мне совсем не хочется, Виктория, милая.
Так подробно я тебе все это описываю, чтобы ты поняла меня, не сердилась и не обижалась, но теперь я окончательно решила в Польшу не возвращаться. Привет передавай Ирэнке, Вячеку, всем нашим, кого увидишь.
Сохрани тебя Бог.
Твоя подруга Гражина.
3
Апрель, 1965 г., Хайфа.
Даниэль Штайн – Владиславу Клеху
Какая невыразимая печаль, дорогой брат, sic transit все на свете… Я погружен в уныние и горечь. Обычно я не знаю, что такое настроение, это слишком большая роскошь для занятого человека иметь настроение. Но последние несколько дней – печаль и горечь. Хоронил одну прихожанку-самоубийцу. Я знал ее с первых дней в Хайфе – тихая полька, скорее деревенского, чем городского облика, но очень приятного. Из породы утренних женщин – которые с утра веселы и нежны, а к вечеру устают и закрываются, как цветы. Я большой знаток женщин, для монаха – исключительно большой. Я вижу твою насмешливую улыбку, дорогой Владек. Я думаю, что мои обеты спасли мир от большого ловеласа, потому что мне очень нравятся женщины, и это большое счастье, что я не женат, потому что я причинял бы много беспокойства жене, заглядываясь на женщин. Тем более что почти все они кажутся мне очень привлекательными. Но Гражина, о которой я пишу, была действительно прелестная женщина, похожая на лисичку, рыжеватая, с узким подбородком и острыми зубками, как у зверька.
Война ужасные вещи проделала с людьми, даже если они уцелели физически, но души у всех покалечены. Кто стал жесток, кто труслив, кто отгородился от Бога и от мира каменной стеной. Гражина с ее мужем Метеком очень много пережили, она прятала его полтора года в подвале, натерпелась страху, родила старшего ребенка еще до освобождения, вынесла тяжелый разрыв с семьей из-за этого ребенка, потом они поженились. Он был сумрачный, артистический человек, не вполне удавшийся скрипач. Первенец их – я знал его совсем немного, потому что он погиб в тот год, когда я сюда приехал, – погиб в последний день военной службы, его машина подорвалась на мине по дороге из расположения части в Иерусалим. Гражина готовила в этот час дома праздничный стол, но до дома сын не доехал. А через несколько лет Метек неожиданно скончался от остановки сердца, и она совсем замкнулась и съежилась. Я несколько раз за это время с Гражиной разговаривал, но разговор всякий раз оказывался вежливым и совершенно бессодержательным. Единственное, что я понял, что очень ослабли те нити, которые связывают человека с жизнью.
Про смерть я знаю еще больше, чем про женщин. И опять – война, война, нет ничего гаже и противоестественней на свете. Как война искажает не то что жизнь, но и смерть. Смерть на войне кровава, полна животного страха, всегда насильственна, а то, что мне приходилось видеть – массовые убийства, казни евреев и партизан, – еще и смертельно разрушительно для исполнителей этого ужаса. О тех, кто убивал, мало знают. А я был близко знаком с такими убийцами, с одним, белорусом Семеновичем, жил под одной крышей и видел, как он напивался и какие жестокие страдания испытывал. Это были не только физические страдания и не только нравственные. Нет, пожалуй, это было неразделимо. Адские страдания.
Уже став священником в польском приходе, я увидел другую сторону смерти – как же умирали после войны деревенские старухи! Меня вызывали к ним для причастия, и бывали такие минуты, когда я отчетливо видел, в чьи руки их передаю. Их встречали Небесные Силы, и они уходили со счастливыми лицами. Не все, не все, но несколько раз я это видел и потому знаю, как это должно быть в мире неискаженном.
Но самоубийство, дорогой Владек, самоубийство! Свидетельство того, что сама душа отказывается от своего бытия. Бедная Гражина! Люди с экстравертным характером обычно не совершают этого поступка, они всегда находят способ вывернуть свое страдание наружу, разделить его с кем-то, дистанцироваться. Мужа своего она спасла, а сама оказалась нежизнеспособна в его отсутствие. Он всегда ее сопровождал. Она никуда не выходила из дому без него. Утром он провожал ее в пошивочную мастерскую, где она работала, вечером встречал. Если у него был вечерний урок, она ждала в мастерской и час, и два, пока он за ней не приходил. Он всегда приводил ее на мессу и терпеливо ждал в садике, пока служба не закончится. Когда я приглашал его зайти посидеть с нами после службы за столом, он чаще отказывался, но иногда и заходил. Сидел молча и никогда ничего не ел. Аскетичное, очень красивое еврейское лицо. Говорят, он был очень хороший преподаватель, к нему возили из окрестных городов маленьких мальчиков с крошечными скрипочками.
Год Гражина терпела, потом устроила поминки, попросила местных евреев собрать миньян, прочитали кадиш. Через неделю ее дочка ушла в армию, а на следующий день она выпила что-то и не проснулась.
Много лет я не сталкивался с самоубийствами. В партизанском отряде, среди евреев гетто самоубийства были нередки. Люди были загнаны в самый темный угол и отвергали дар жизни, предпочитая мучительным испытаниям – голод, страх, гибель и мучения близких и ежеминутное ожидание лютой смерти – самую смерть. Попытка отчаявшегося человека забежать вперед. На меня в свое время произвело ужасное впечатление сообщение о самоубийстве Геббельса вместе с его шестью детьми. Он не доверял Богу, полагал, что ни сам, ни его дети не заслуживают снисхождения. Он вынес приговор и сам привел его в исполнение.
Но – бедная Гражина! Ей нужна была только любовь мужа, а другой любви она не знала. Или мало знала. И о той жестокости, которую проявила к дочери, не подумала. Бедная Хана – брат, отец, теперь мать. Ей дали в армии отпуск на три дня, но она приехала на несколько часов, только на похороны. Не захотела остаться. Не вошла в дом. С какой травмой девочка будет теперь жить!
Похоронили Гражину на местном арабском кладбище. Это небольшое католическое кладбище наших братьев на окраине города. Арабы пустили меня служить в свой храм, я служу мессу на одном с ними алтаре. В Страстной четверг у нас была с ними общая служба. Служили мессу на арабском и на иврите. А в пятницу она не проснулась.
Христианам, дорогой брат, в Израиле трудно жить – по многим причинам. Очень трудно христианам-арабам – недоверие и ненависть евреев, еще большее недоверие и ненависть арабов-мусульман. Но как сложно христианина похоронить, особенно если это не монах, живущий в монастыре со своими садами, землями и кладбищами, и не араб, которые здесь обжились лучше других, а человек не укорененный, более или менее случайный в Израиле и не принадлежащий ни к духовенству, ни к чиновникам.
Сколько здесь трагедий: приезжают иммигранты со смешанными семьями, с ними старушки-матери, часто католички, иногда православные, и когда они умирают, начинается нечто неописуемое: невозможно похоронить. Есть еврейские кладбища, где хоронят только иудеев, есть христианские монастырские, где тоже отказываются хоронить «посторонних» за недостатком места. Из-за дикой дороговизны земли участок на кладбище стоит таких денег, каких нет у бедных людей. Но мы, люди из Польши, прекрасно знаем, сколько людей может вместить земля.
Араб – настоятель храма, в котором мы сослужим, позволяет мне изредка хоронить на здешнем кладбище, и Гражину мы похоронили там. Прошу твоих молитв, дорогой брат Владек.
Я написал тебе такое сумбурное письмо, что, только перечитав, понял, насколько оно жалобное, а вовсе не благодарственное, как я собирался писать. Дело в том, что я получил три книги от тебя, и одна из них оказалась очень нужной, и я тебе благодарен также за полное понимание, которое ты высказываешь в своем письме. Кроме того, должен тебе признаться, что в моем сложном положении поддержка твоя для меня чрезвычайно важна.
Твой брат во Христе Д.
4
Декабрь, 1965 г., Краков.
Из письма Владислава Клеха Даниэлю Штайну
…Ну, Даниэль, ты не перестаешь меня удивлять. Письмо твое и впрямь сумбурное. Горе твое понятно – жалко погибшую женщину. Но самоубийство давно уже определено Церковью как грех, и ты позволяешь себе эмоции, которые только опустошают душу и ослабляют веру.
Все мыслимые вопросы уже давно поставлены, и ответы на них получены. Другое дело, что мы не умеем читать, и там, где нашим предшественникам все было ясно как божий день, нам, в нашем лукавстве, представляется сложным и запутанным. Неужели ты считаешь, что все разделения и схизмы чисто человеческие? А нет ли в них Божественной правды? А может, наоборот: то, что Бог разделил, человеку не соединить?
Нет, даже и слышать не хочу о таком твоем направлении мыслей. Если, как ты говоришь, создать общую литургию всех христиан, куда прикажешь определить тех протестантов, которые вообще отказались в своей практике от евхаристии, как мы ее понимаем? Не знаю, не знаю, дорогой Даниэль. Если такое и будет, то не при нашей жизни. А скорее в Царствии Небесном. Сдается мне, что жизнь в Израиле изрядно мутит твое ясное сознание. Прежде ничего подобного ты не высказывал.
Ты писал мне не однажды, как велики разногласия среди христиан на Святой земле, но каковы, интересно мне, взаимоотношения с иудеями? А уж если христиане между собой не могут договориться, то как разговаривать с евреями? О мусульманах я даже и не упоминаю – еще один неразрешимый вопрос.
Морозы в этом году очень сильные, у меня тут нищий возле костела замерз. Это не у вас, в теплых странах, надо строить приюты для бездомных, а у нас, на севере. Или устроить трансфер – наших нищих вам переправить?
Твой брат в Господе Вл.
5
Сентябрь, 1966 г., Хайфа.
Из письма Хильды матери
Не огорчайся, мама, что я не приеду в этом году. Подумай сама, какой может быть отпуск, когда все строительство на мне. Ты представить себе не можешь, как много мы успели сделать за этот год. Это при том, что со всех сторон – одно противодействие, и со стороны церковных властей, и со стороны государства. Единственная помощь – из Германии. Еще нам подарил один местный араб машину камня. В Германии это стоило бы целое состояние, а в Израиле строительный материал дешевый. В июле приехала целая бригада немецких студентов, они два месяца работали на стройке, вырыли котлован для церковного дома и начали рыть еще один – для приюта. Студенты, которые приехали, почти все из Франкфурта, какие-то особенные ребята. Я таких в Германии просто не встречала. Воду уже отвели из друзской деревни.
А храм какой красивый! Восстановили стены, поставили двери. Есть крыша! Только окон нет. Даниэль говорит, что не надо вставлять рамы, а просто ставни сделать от непогоды, и достаточно будет. Помещение небольшое, – он говорит, – летом без рам обойдемся, а зимой дыханием обогреем. И хотя еще стройка не закончена, мы уже здесь служим. Есть алтарь, есть навес, где можно в тени посидеть. Нашли заваленный источник, восстановили его, не без помощи соседей-друзов. Так что мы теперь называемся храм Илии у Источника. Правда, красиво?
Я готова была сюда совсем перебраться уже сейчас, но Даниэль говорит, что он мне одной здесь жить не разрешит. Пока студенты жили, мы устроили вроде лагеря под открытым небом, даже палаток не ставили, потому что в палатке очень душно. Еду готовили на очаге, а ели раз в день, вечером. Утром чуть-чуть – лепешки с медом и кофе.
Можешь себе представить? Я веду всю бухгалтерию, все расчеты с рабочими, которых пришлось нанимать для работы на крыше. Кровлю сделали черепичную, это дорого, но нам помогли.
Брат Даниэль проводил здесь очень мало времени, так что почти все решения я принимала сама. У него и летом много работы, но основная масса туристов приезжает как раз осенью, на еврейские праздники. Он возит экскурсии по всему Израилю. Мне тоже в этом году удалось с ним поехать, правда, совсем недалеко, в город Зихрон Иаков. Помнишь, в Библии упоминается роза Сарона. Это роза из долины Шарон. Здесь земледелия не было тысячу лет, все заболочено. И вот в конце XIX века приехали десять еврейских семей из Бессарабии, они хотели здешние места снова превратить в сады, но у них ничего не получалось, пока барон Ротшильд не дал им денег и не прислал специалистов. Тогда у них дело пошло, все болота осушили. Начали заново осваивать землю. Даниэль показывал нам эти виноградники и сады. Эти роскошные плантации видны от могилы Ротшильда, потому что он завещал себя здесь похоронить. Вот ведь счастливый человек, как он мудро распорядился деньгами, болота с помощью денег стали садами, и теперь по всему миру фрукты из этих садов продают. Здесь есть генетическая лаборатория, в ней просто чудеса творят. Главное, что Даниэль все это знает, показывал нам разные сорта и рассказывал про цветы. Он точно знает, какие растения здесь с библейских времен, а какие завезли потом. В Зихрон Иакове даже есть маленький ботанический сад с растениями, которые в Библии упомянуты. Нет только кедра ливанского, он почему-то не хочет сам расти. Теперь, чтобы вырастить кедр, надо много усилий приложить. За каждым деревом уход. Даже паспорт заводят на каждое дерево! А в древние времена здесь были кедровые леса и дубравы.
Представляешь, что есть такая наука – библейская палеоботаника, эти ученые восстановили картину здешней природы, какой она была две и три тысячи лет тому назад. Когда мы осматривали этот сад, пришел как раз ботаник, местный араб Муса. Он показал такое растение, с виду ничего особенного, но оно очень похоже на тот куст, из которого с Моисеем говорил Бог. Оказывается, у этого растения очень высокое содержание эфирных масел, и даже, как он сказал, если очень аккуратно зажечь спичку, тогда масла будут выгорать, и вокруг куста будет пламя, а сам куст останется цел. Неопалимая Купина!
Муса происходит из старинной арабской семьи, образование он получил в Англии. У них здесь много земли, и им принадлежал тот участок, на котором сейчас государственная тюрьма для палестинцев, которые воюют с евреями всякими незаконными способами. Это тюрьма Дамун. Но смотреть на эту тюрьму мы не поехали, потому что было мало времени. Зато я успела посмотреть вместе с группой еще одно потрясающее место, в направлении города Шхема. Там пасли скот братья Иосифа, он их сначала не нашел, а потом нашел, и они сбросили его в сухой колодец, разозлившись на него за толкование сна. Даниэль показал нам такой сухой колодец. Возможно, тот самый. Километрах в двадцати есть еще один сухой колодец, и, скорее всего, именно в этом или в очень похожем месте они его вытащили из колодца и отдали проходящим купцам. Неподалеку по дну высохшего русла – вади – проходил караванный путь. То есть вся история, которая описана сначала в Библии, а потом у Томаса Манна, просто буквально вот здесь происходила. Купцы купили Иосифа как раба, это стоило на современные деньги гораздо меньше, чем сегодня стоит овца, и отвезли в Египет. Вот такая история. А эта караванная дорога местами еще видна. Там же, возле сухого колодца, мы встретили двух арабских мальчиков, которые пасли коз.
Муса сказал, что козы – самые вредные для страны животные: они съели всю Древнюю Грецию и Палестину. Я это слушаю, развесив уши, и понимаю, что больше всего на свете хочу пойти учиться в Иерусалимский университет. Даниэль говорит, что это вполне возможно, и он сам об этом думал, но ему будет трудно без меня обходиться. Ты себе не представляешь, как это мне было приятно слышать. Теперь я быстро дописываю письмо и отдаю одной немецкой девушке, которая едет в Германию и опустит его в ящик прямо в Мюнхене. Я надеюсь, что со здоровьем у тебя все в порядке и ты не будешь на меня сердиться, что я не приеду в отпуск.
Если все организуется, как говорит Даниэль, с января у меня начнется учеба в университете. Совершенно не представляю себе, как это я буду успевать. Но очень хочется.
Привет всем домашним.
Твоя Хильда.