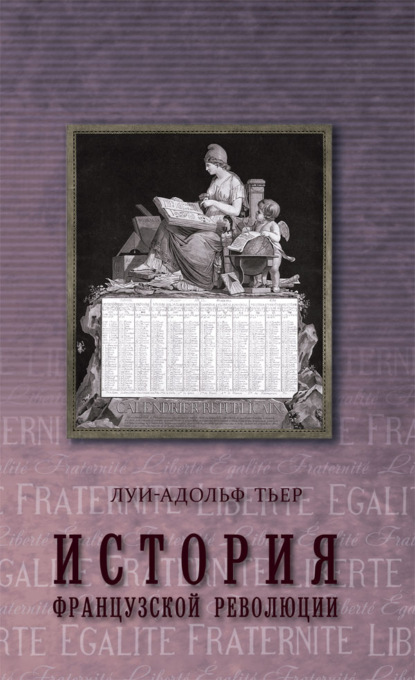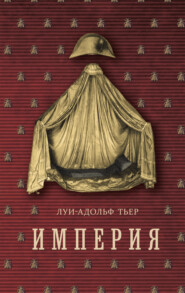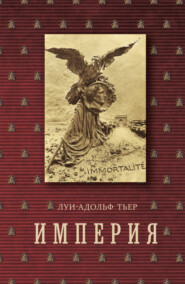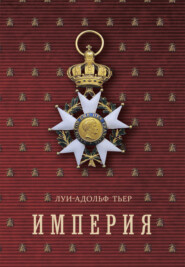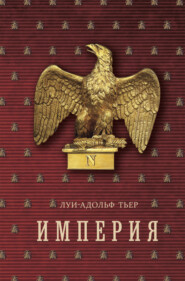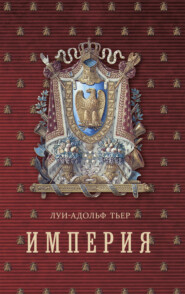По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Французской революции. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Взятие Лиона – Победа при Ватиньи – Бегство вандейцев за Луару – Неудачи на Рейне
Каждая неудача пробуждала революционную энергию, а эта энергия вызывала следующую удачу. Так постоянно происходило во всю эту достопамятную кампанию. С поражения при Неервиндене до половины августа тянулся непрерывный ряд бедствий, который наконец вызвал отчаянные усилия. Уничтожение федерализма, защита Нанта, победа при Ондскоте, снятие блокады Дюнкерка стали плодами этих усилий. Новые неудачи при Менене, Пирмазенсе, в Пиренеях, при Торфу и Короне в Вандее вызвали взрыв энергии, которая должна была привести к благоприятным результатам на всех театрах войны.
Из начатых операций с наибольшим нетерпением ожидался конец осады Лиона. Мы оставили Дюбуа-Кран-се перед этим городом с 5 тысячами регулярного войска и 7–8 тысячами солдат для реквизиции. Он мог вскоре ожидать нападения сардинцев, которых слабая Альпийская армия более не могла остановить. Дюбуа-Крансе стал к северу от города, между Соной и Роной, перед редутами Круа-Русс, а не на высотах Сент-Фуа и Фурвьер, находившихся на западе, с которых и следовало повести атаку. К такому предпочтению побуждала генерала не одна причина. Ему прежде всего важно было сохранить сообщение с альпийской границей, где находился главный корпус республиканской армии и откуда пьемонтцы могли прийти на помощь лионцам. Кроме того, верхнее течение обеих рек было занято, и становился невозможным подвоз съестных припасов водным путем. Запад, правда, в этом случае оставался открытым, и лионцы могли беспрестанно совершать набеги на Сент-Этьен и Монбризон, но каждый день приходили вести о прибытии контингентов из Пюи-де-Дом, и, раз собрав эти новые реквизиционные войска, Дюбуа-Крансе мог замкнуть блокаду с западной стороны и тогда уже выбрать самый подходящий пункт для атаки.
Пока он довольствовался тем, что сильно теснил город, обстреливал Круа-Русс и начинал подводить свои линии с восточной стороны, перед мостом Гийотьера. Перевозка военных припасов производилась с затруднениями и медленно. Требовалась работа пяти тысяч лошадей: надо было привезти в лагерь 14 тысяч бомб, 34 тысячи ядер, 300 тысяч фунтов пороха, 800 тысяч патронов и 130 орудий.
С первых же дней осады начались толки о приближении пьемонтцев через Малый Сен-Бернар и Мон-Сени. Следуя настоятельным просьбам департамента Изер, туда тотчас же отправился Келлерман, оставив вместо себя перед Лионом одного из своих генералов, который, впрочем, заменял его только для вида, потому что Дюбуа-Крансе, депутат и искусный инженер, один заправлял всеми осадными операциями. Чтобы ускорить набор реквизиционных войск в Пюи-де-Дом, он послал туда генерала Николя с небольшим отрядом кавалерии, но отряд этот был перехвачен жителями Фореза и выдан лионцам. Тогда Дюбуа-Крансе послал туда тысячу человек с представителем Жавоном. На этот раз успех был полным: Жавон усмирил аристократов в Сент-Этьене и Монбризоне, набрал 7–8 тысяч поселян и привел их к Лиону.
Дюбуа-Крансе поставил их у моста Уллена, к северо-западу от Лиона, так чтобы препятствовать сношениям города с Форезом. Он призвал депутата Ревершона, который набрал несколько тысяч реквизиционных войск и поставил их на Сону. Таким образом, блокада становилась строже, но операции шли медленно, энергичные атаки оставались невозможными.
Укрепления Круа-Русс, между Роной и Соной, перед которыми находился главный осадный корпус, невозможно было взять приступом. С восточной стороны и с левого берега Роны мост у Морана был защищен редутом в форме подковы, построенным очень искусно. На западе высоты Сент-Фуа и Фурвьер могли быть взяты лишь сильной армией, и в ту минуту следовало думать только о том, как перехватить транспорты с провиантом, плотнее заблокировать город и поджечь его.
С начала августа до половины сентября Дюбуа-Кран-се не мог делать ничего другого, и в Париже его уже бранили за медлительность, не вникая в причины таковой. Между тем он уже нанес большие повреждения несчастному городу. Пожары уничтожили великолепную площадь Белькур, арсенал, квартал Сен-Клер и пристань и сильно повредили прекрасное здание больницы, величественно возвышавшееся на берегу Роны. Тем не менее лионцы продолжали защищаться с большим упорством. Был пущен слух, будто 50 тысяч пьемонтцев в самом скором времени явятся выручать их; эмиграция сулила им золотые горы, однако не шла на помощь, и все эти честные буржуа, в душе искренне преданные Республике, были поставлены в ложное положение и должны были желать пагубной и позорной помощи эмиграции и иноземцев. Настоящие их чувства не раз высказывались слишком недвусмысленно. Комендант Преси хотел бы поднять белое знамя, но должен был сознаться, что это невозможно. Лионцы были республиканцами; но страх мщения Конвента, лживые обещания из Марселя, Бордо, Кана и особенно от эмиграции вовлекли их в бездну ошибок и несчастий.
Пока лионцы утешали себя надеждой на прибытие сардинцев, Конвент приказал представителям Кутону, Менье и Шатонёф-Рандону отправиться в Овернь и окрестные департаменты, чтобы распорядиться там ополчением, а Келлерман спешил навстречу пьемонтцам в альпийские долины.
Пьемонтцам опять представлялся прекрасный случай совершить смелую попытку, которая не могла не удаться: им надо было собрать свои главные силы на Малом Сен-Бернаре и действительно выйти к Лиону. Известно, что три долины Салланш, Тарантез и Морьенн, прилегающие одна к другой, заворачиваются улиткой и, выходя из Малого Сен-Бернара, открываются к Женеве, Шамбери, Лиону и Греноблю. Небольшие французские отряды уже были разбросаны по этим долинам. Быстро спустившись по одной из них и став у выхода, пьемонтцы по всем правилам военного искусства неизбежно захватили бы эти отряды и заставили бы их сложить оружие. Они не имели причин бояться привязанности савойцев к Франции, потому что по милости ассигнаций и реквизиций из даров свободы те познакомились ближе только с разорением и строгостями. Герцог Монферратский, напротив, взял 20–25 тысяч человек, отправил один отряд направо в долину Салланш, сам спустился с главным корпусом в долину Тарантез и послал генерала Гордона в долину Морьенн с левым крылом. Движение, начатое 14 августа, не было окончено еще и в сентябре. Французы, хоть и гораздо меньшим числом, сопротивлялись энергично и растянули свое отступление на восемнадцать дней. Придя в Мустье, герцог Монферратский постарался объединиться с Гордоном на хребте, разделяющем долины Тарантез и Морьенн, и нисколько не думал о том, чтобы быстро идти на Конфлан, точку слияния долин. Эта медлительность и самая численность его армии – 25 тысяч человек – достаточно доказывают, как мало ему хотелось идти на Лион.
Между тем Келлерман поднял на ноги национальные гвардии Изера и других окрестных департаментов. Он ободрил савойцев, которые начинали побаиваться мщения пьемонтского правительства, успел собрать около двенадцати тысяч человек и послал подкрепление отряду, стоявшему в долине Салланш, а сам двинулся на Конфлан, к выходу из обеих долин. Эго случилось около 10 сентября. В это время герцог Монферратский получил приказ двинуться вперед. Но Келлерман предупредил пьемонтцев и имел смелость атаковать позицию Эпьер, занятую ими на хребте, чтобы проложить сообщение между долинами. Не будучи в состоянии приступить к этой позиции с фронта, он послал отряд обогнуть ее. Отряд этот совершил героическое усилие и на руках поднял орудия на почти неприступные высоты. Французская артиллерия внезапно загремела над головами пьемонтцев, которые пришли от этого в ужас. Гордон немедленно отступил из долины Морьенн в Сен-Мишель, а герцог Монферратский возвратился в долину Тарантез. Келлерман беспокоил его с флангов и скоро заставил уйти в Сен-Морис и Сен-Жермен, а 4 октября наконец отбросил назад за Альпы. Так и эта кампания, которая могла бы закончиться для пьемонтцев счастливо, не удалась по тем же причинам, по каким не удавались все прочие попытки союзников.
Пока сардинцы были вынуждены отступить за Альпы, три депутата, посланные в Пюи-де-Дом распорядиться ополчением, поднимали там селения, проповедуя что-то вроде крестового похода и уверяя народ, что Лион не только не защищает Республику, но сделался сборным пунктом эмиграции и иноземцев. Разбитый параличом Кутон, исполненный деятельной энергии, ни на минуту не ослабевшей от телесных недугов, вызвал всеобщее движение. Он отправил Менье и Шатонёфа с первой колонной в 12 тысяч ополченцев, а сам остался, собираясь привести другую, в 25 тысяч, но сначала решил запастись провиантом.
Дюбуа-Крансе поставил новобранцев с западной стороны, к Сент-Фуа, и этим сомкнул блокаду. В то же время он получил отряд валансьенского гарнизона, который, по условиям капитуляции, мог служить только внутри Франции, как и майнцский. Дюбуа-Крансе поставил регулярные войска впереди реквизиционных, так чтобы у колонн составились сильные авангарды. Армия его теперь состояла приблизительно из 25 тысяч реквизиционных войск и 8—10 тысяч войск регулярных, то есть еще и опытных солдат.
В полночь 24 октября был взят редут моста у городка Уллен, ведущий к подножию высот Сент-Фуа. На другой день генерал Доппе, савоец, отличившийся под началом Карто в войне против марсельцев, прибыл, чтобы сменить Келлермана, которого отстранили за малое усердие и оставили на несколько лишних дней только затем, чтобы довести до конца экспедицию. Генерал Доппе тотчас условился с Дюбуа-Крансе атаковать высоты Сент-Фуа.
Всё было приготовлено к ночи на 29 сентября. Приступ начался в одно время с севера против Круа-Русс, с востока против моста Моран, с юга с моста Мюратьер, находившегося пониже города, на месте слияния Соны и Роны. Главный приступ предполагалось повести с моста Уллена против высот Сент-Фуа. Приступ начался только 29-го, в пять утра, двумя часами позже других. Доппе, вдохновляя своих солдат, с необыкновенным увлечением бросился с ними на первый редут, потом на второй. Между тем южная колонна, взяв мост Мюратьера, вступила на перешеек, у оконечности которого сливаются обе реки. Эта колонна уже чуть не пробралась в Лион, но вовремя подоспел Преси со своей кавалерией и отбросил колонну. Начальник артиллерии Вобуа, со своей стороны атаковав мост Моран, пробился к редуту, имевшему форму подковы, но вынужден был опять уйти из него.
Из этих приступов вполне удался только один – приступ Сент-Фуа, зато он был главным. Оставалось перейти отсюда на высоты Фурвьер, укрепленные гораздо грамотнее и представлявшие гораздо большую трудность. Дюбуа-Крансе, действовавший систематически, как искусный тактик, считал, что не следует рисковать новым приступом по следующим причинам: он знал, что лионцы уже едят гороховую муку, имеют провианта всего на несколько дней и необходимость заставит их вот-вот сдаться. Он нашел в них весьма храбрых противников во время защиты мостов и опасался, чтобы атака против высот Фурвьер не вышла неудачной: это расстроило бы всю армию и принудило ее снять осаду. «Самое лучшее, что можно сделать для осажденных, когда они храбры и доведены до отчаяния, – говорил он, – это дать им случай спастись с помощью сражения. Дадим им погибнуть от последствий голода».
Кутон прибыл из Оверня 2 октября с 25 тысячами ополченцев. «Иду, – писал он, – с моими овернскими молодцами и сразу брошу их на предместье Вез». Он застал Дюбуа-Крансе среди армии, безусловным начальником которой был, в которой постановил все правила военной субординации и чаще начинал свой день в военном мундире, нежели в костюме народного представителя. Кутон раздражился тем, что один из представителей заменил равенство военной иерархией и в особенности слышать не хотел о регулярной войне. «Я ничего не смыслю в тактике. Я пришел с народом: его святой гнев всё снесет. Надо наводнить Лион нашими войсками и взять его силой. Притом я обещал моим поселянам дать отпуск на понедельник – им надо идти домой, собирать свой виноград». Дюбуа-Крансе, привыкший к регулярным войскам, выказал некоторое пренебрежение к этому беспорядочно набранному мужичью, не имевшему даже порядочного оружия. Он предложил отобрать тех, кто моложе, принять их в организованные батальоны, а остальных отпустить. Кутон не стал слушать эти благоразумные советы и решил немедленно атаковать Лион со всех сторон, со всеми 60 тысячами, которыми мог теперь располагать. В то же время он написал в Комитет общественного спасения, чтобы Дюбуа-Крансе отозвали. На военном совете решили начать приступ 8 октября.
Еще до этого дня Дюбуа-Крансе и его товарищ Готье были отозваны. Лионцы ужасно боялись Дюбуа-Крансе, видя, как он в продолжение двух месяцев трудился против них, и говорили, что ни за что ему не сдадутся. Седьмого октября Кутон в последний раз предложил им сдаться и написал, что теперь он, Кутон, с представителями Менье и Лапортом и по поручению Конвента заправляет осадой. Пальба была прекращена до 4 часов пополудни, но возобновилась с крайней яростью. Собирались уже начать приступ, когда явилась депутация для переговоров. Главной целью этой депутации, кажется, было дать Преси и двум тысячам наиболее скомпрометированных жителей уйти из города, сомкнувшись в колонну. Они действительно воспользовались моментом и вышли через предместье Вез, думая уйти в Швейцарию.
Переговоры едва начались, когда одна из республиканских колонн проникла в предместье Сен-Жюст. Теперь уже не время было заключать условия, притом Конвент не хотел никаких условий. Девятого числа армия во главе с представителями вступила в Лион. Жители попрятались, но монтаньяры, терпевшие гонения, толпой вышли встречать победителей и устроили нечто вроде народного триумфа. Генерал Доппе заставил войска соблюдать строжайшую дисциплину и предоставил депутатам самим распоряжаться революционным мщением, на которое несчастный город был обречен.
Преси, между тем, со своими двумя тысячами беглецов шел по направлению к Швейцарии. Но Дюбуа-Крансе, предвидя, что это их единственный выход, давно уже занял все проходы. Несчастные были разогнаны и перебиты ополченцами; только восемьдесят человек и сам Преси добрались до швейцарской границы.
Едва вступив в город, Кутон снова водворил в должности прежний муниципалитет, состоявший из монтаньяров, и велел ему разыскивать инсургентов, потом снарядил комиссию для суда над ними. Он написал в Париж о том, что в Лионе есть три разряда жителей: 1) богачи-преступники; 2) богачи-эгоисты; 3) невежественный рабочий люд, ничему и никому не преданный, не способный ни к добру, ни к злу. Первых надо гильотинировать; у вторых – отобрать всё состояние, третьих перевезти в другое место и заменить республиканской колонией.
Взятие Лиона вызвало в Париже живейшую радость и вознаградило за дурные известия конца сентября. Однако, несмотря на успех, там остались недовольны медлительностью Дюбуа-Крансе; его обвинили в бегстве лионцев, несмотря на то, что окончательно спаслось только восемьдесят человек. Кутон в особенности нападал на него за то, что он сделался в своей армии деспотическим начальником, что чаще являлся в офицерском мундире, нежели в костюме народного представителя, что чванился своим знанием тактики и, наконец, что отдавал предпочтение системе осады перед системой атаки большими силами. Якобинцы тотчас же начали над Дюбуа-Крансе следствие, невзирая на то, что его деятельность и энергия оказали столько услуг в Гренобле, на юге и перед Лионом. В то же время Комитет общественного спасения приготовил несколько громоподобных декретов, чтобы внушить больше страха и повиновения.
Вот текст одного из декретов, внесенного Барером и немедленно изданного:
«Ст. 1. Национальным конвентом, по представлению Комитета общественного спасения, будет назначена комиссия из пяти народных представителей, которые безотлагательно отправятся в Лион, чтобы захватить и предать военному суду всех контрреволюционеров, взявшихся в этом городе за оружие.
Ст. 2. У всех жителей Лиона оружие будет отобрано и отдано тем, кто будет признан не участвовавшим в восстании, и защитникам отечества.
Ст. 3. Город Лион будет разрушен.
Ст. 4. Будут сохранены лишь дома бедных, мануфактуры, промышленные мастерские, госпитали, публичные здания учебных заведений.
Ст. 5. Этот город больше не будет называться Лионом. Названием его станет Освобожденная коммуна.
Ст. 6. На развалинах Лиона будет воздвигнут памятник, на котором начертают слова: “Лион воевал против свободы – Лиона более не существует”.
Этот декрет был дан 18-го дня 1-го месяца года II Республики».
Известие о взятии Лиона было тотчас же сообщено двум армиям – Северной и Вандейской, – собиравшимся нанести решительные удары, и вышла прокламация, приглашавшая их подражать Лионской армии. Вот что говорилось Северной армии: «Знамя свободы развевается на стенах Лиона и очищает их. Вот предзнаменование победы; победа принадлежит мужеству! Она ваша; бейте, истребляйте служителей тиранов! Отечество следит за вами, Конвент поддерживает вашу благородную преданность. Еще несколько дней – и тиранов больше не будет, и Республика будет вам обязана своим счастьем и своею славою!» Солдатам Вандеи говорили: «И вы также, храбрые воины, и вы одержите победу. Довольно уже Вандея изнуряет Республику: идите, разите, убивайте! Все наши враги должны пасть разом: армия победит! Ужели вы последние пожнете лавры, заслужите славу истреблением мятежников и спасением Отечества?»
Комитет, как видно, ничего не упускал из виду, чтобы извлечь возможно большую пользу из взятия Лиона. Это событие действительно имело огромное значение. Оно освобождало восток Франции от последних остатков восстания, отнимало всякую надежду у эмигрантов, интриговавших в Швейцарии, и у пьемонтцев, которые уже не могли рассчитывать ни на какую диверсию. Оно сдерживало Юру, обеспечивало тылы Рейнской армии, дозволяло послать в Тулон и Пиренеи необходимую помощь людьми и военными припасами; наконец, взятие Лиона запугало все города, склонные к восстанию, и заставило их окончательно покориться.
На Севере комитет хотел проявить наибольшую энергию и таковой же требовал от солдат и начальников. Пока Ктостин всходил на эшафот, Гушар, за то только, что не сделал под Дюнкерком всего, что можно было бы сделать, отправился в Революционный трибунал. Неудовольствие, выраженное против комитета в сентябре, заставило его обновить состав главных штабов. В этой перетасовке простые офицеры получили самые высокие чины. Гушар, бывший полковником в начале кампании и до конца ее сделавшийся главнокомандующим, а теперь ставший подсудимым; Гош, простой офицер при осаде Дюнкерка, а теперь назначенный начальником Мозельской армии; Журдан, батальонный командир, потом командующий центром в деле при Ондскоте и наконец назначенный главнокомандующим Северной армией, – вот несколько разительных примеров быстрых перемен и перестановок в этих республиканских армиях. Эти скоропостижные повышения не оставляли генералам и солдатам времени узнать друг друга и приобрести взаимное доверие, но давали страшное представление о той высшей воле, которая распоряжалась так полновластно всеми жизнями и уничтожала не только в случае доказанной измены, но по одному подозрению, за недостаток усердия, за неполную победу; отсюда проистекали безусловная преданность со стороны армий и беспредельные надежды в головах, настолько смелых, чтобы не бояться опасной чести попасть в начальники той или другой армии.
К этому времени следует отнести первые успехи военного искусства. Конечно, основные начала этого искусства знали во все времена и применяли полководцы, соединявшие смелый ум со смелым характером. Еще в самое недавнее время Фридрих Великий подавал пример великолепнейших стратегических комбинаций. Но как только гениальный человек исчезает и уступает место обычным людям, военное искусство снова впадает в малодушную осторожность и рутину. Эти люди вечно хлопочут о защите или атаке какой-нибудь одной линии, изощряются в искусстве вычислять все выгоды ландшафта, приспосабливать к нему то или другое оружие, но, со всеми этими средствами, целые годы возятся из-за какой-нибудь провинции, которую смелый полководец взял бы в один прием; и эта осмотрительность, свойственная посредственности, в конце концов убивает больше людей, чем гениальная отвага, потому что убивает их без результата, и конца этому не видно. Так поступали ученые тактики союзников. Против каждого батальона они выставляли такой же; они стерегли все дороги, угрожаемые неприятелем, и в то время как одним смелым походом могли бы уничтожить революцию, боялись сделать шаг, чтобы не открыть себя.
В военном искусстве был необходим переворот. Составить плотную силу, вдохнуть в нее смелость и доверие, быстро перекинуть войска за реку, за цепь гор, нагрянуть на неприятеля, когда он этого не ожидает, дробя его силы, отрезая его от помощи и всяких средств, отнимая у него столицу, – это было великое искусство, требовавшее гения, искусство, которое могло развиться только среди революционного брожения.
Революция, расшевелив умы, подготовила эпоху обширных военных комбинаций. Прежде всего, она подняла на ноги громадные массы людей, каких никогда не поднимали короли. Она возбудила непомерное, нетерпеливое желание победы, внушила отвращение к медленным и методическим военным действиям и подала мысль о внезапных вторжениях больших войск в одну точку. Со всех сторон только и слышалось: «Надо драться большими армиями!» Это был общий голос солдат на всех границах, якобинцев во всех клубах. Кутон по прибытии под Лион на все рассуждения Дюбуа-Крансе отвечал одно – что атакует всеми силами. Наконец, Барер написал ловкий и глубокомысленный отчет, в котором доказывал, что причина всех неудач – манера сражаться малыми силами. Так Революция постепенно подготовила возрождение военного дела.
Эта перемена не могла совершиться без некоторого беспорядка. Поселяне, рабочие, перенесенные прямо на поле битвы, в первые дни несли туда лишь свое невежество, своеволие, панику – естественные последствия плохой организации. Представители, приезжавшие в лагеря, чтобы раздувать в солдатах революционные страсти, часто требовали невозможного и поступали с заслуженными людьми жестоко. Дюмурье, Кюстин, Гушар, Брюнэ, Канкло, Журдан погибли или отступились от дела перед этим потоком. Но однажды эти рабочие из якобинцев-горлодеров делались храбрыми и послушными солдатами; эти представители сообщали армиям необычайную смелость и силу воли и своей требовательностью и беспрестанными перетасовками находили отважные умы, подходившие к обстоятельствам.
Наконец явился человек, который внес правильность в это обширное движение: это был Карно. Этот бывший офицер инженерных войск, сделавшись членом Конвента, а потом Комитета общественного спасения, то есть до известной степени пользуясь неприкосновенностью, мог безнаказанно внести порядок в бессвязные операции, а главное – придать им единство и цельность, каких до него не мог бы добиться ни один министр, потому что министров не слушались. Одна из главных причин неудач заключалась в той неразберихе, которой всегда сопровождаются сильные потрясения. Когда комитет утвердился и сделался всесильным, а Карно выступил, облеченный всей властью этого комитета, тогда мысль этого мудрого человека, который предписывал движения, строго согласованные между собою и устремленные к одной цели, была понята и встретила повиновение. Отдельные военачальники теперь уже не могли, как в свое время Дюмурье и Кюстин, действовать каждый по-своему, привлекая каждый к себе всю войну и все средства. Представители, с другой стороны, тоже не могли более распоряжаться, устраивать или расстраивать маневры, отступая от приказов, данных свыше. Надо было повиноваться верховной воле комитета и сообразоваться с его предначертаниями. Поставленный в центре всего, носясь над всеми границами, ум Карно мог возвыситься, расшириться; генерал задумал обширные планы, в которых осторожность совмещалась со смелостью. Инструкция, посланная Гушару, служит тому доказательством.
Конечно, планы Карно иногда обладали недостатками кабинетных планов: его приказания не всегда оказывались приспособленными к местности или удобоисполнимыми в данную минуту; но недостатки деталей искупались стройностью замысла, и этим планам Франция была обязана повсеместными победами в следующем году.
Карно сам поспешил на северную границу, к Журдану. Перед тем было решено смело напасть на неприятеля, хоть он и казался очень сильным. Карно просил генерала составить свой план, чтобы судить о его взглядах и согласовать их со взглядами комитета, то есть со своими. Союзники, возвратившись от Дюнкерка к середине линии, собрались между Шельдой и Маасом и могли нанести решительные удары. Мы уже познакомили читателей с театром войны. Несколько линий разделяют пространство между Маасом и морем: реки Лис, Скарп, Шельда и Самбра. Союзники, взяв Конде и Валансьен, обеспечили себе два важных пункта на Шельде. Только что взятый Ле-Кенуа служил опорой между Шельдой и Самброй, но на самой Самбре у них не было ни одного пункта. Выбор пал на Мобёж, так как эта крепость своим местоположением сделала бы союзников почти полными хозяевами на пространстве между Самброй и Маасом. При открытии следующей кампании Валансьен и Мобёж послужили бы превосходной базой для операций, и кампания 1793 года прошла бы не совсем бесполезно. Итак, союзники на этом и остановились – следовало занять Мобёж.
Французы, у которых начинал развиваться вкус к комбинациям, решили двигаться на Лилль и Мобёж, то есть на оба неприятельских фланга, в надежде расстроить центр. Таким образом, правда, французы рисковали навлечь на себя все неприятельские силы на том или другом фланге, но в этом замысле было уже много меньше рутины, чем в предыдущих. Однако самым безотлагательным делом было выручить Мобёж. Журдан, оставив около 50 тысяч человек в лагерях при Гавреле, Лилле и Касселе, чтобы образовать сильное левое крыло, собирал в Гизе как можно больше народа. Он уже образовал армию в 45 тысяч и наскоро размещал по полкам новобранцев, доставляемых ополчением. Но эти новобранцы создавали такой беспорядок, что надо было оставить несколько отрядов линейных войск только затем, чтобы присматривать за ними. Журдан назначил Гиз сборным пунктом для всех ополченцев и пятью колоннами двинулся на помощь Мобёжу.
Неприятель уже окружил этот город. Подобно Валансьену и Лиллю, он поддерживался укрепленным лагерем, находившимся на правом берегу Самбры, с той самой стороны, с которой подходили французы. Две дивизии – Дежардена и Мейе – охраняли течение Самбры, одна выше, другая ниже Мобёжа. Неприятель, вместо того чтобы подойти двумя плотными колоннами, Дежардена оттеснить к Мобёжу, а Мейе отбросить назад за Шарлеруа, перешел Самбру небольшими отрядами и дал обеим дивизиям соединиться в укрепленном лагере. Отделив Дежардена от Журдана и помешав ему тем самым увеличить действующую армию, союзники поступили умно; но позволив Мейе присоединиться к Дежардену, они разрешили этим генералам образовать 20-тысячное войско, которое легко могло выйти из роли простого гарнизона, особенно при приближении Журдана с большой армией. Впрочем, необходимость прокормить такое множество людей была неудобством, крайне обременительным для Мобёжа, и могла до известной степени служить извинением оплошности союзных генералов.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: