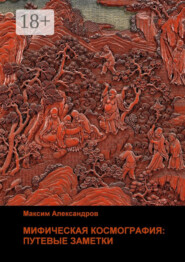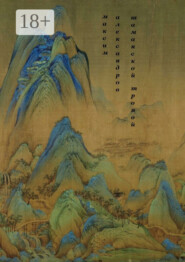По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сеть Индры. Сеть Индры, Мистерия о Геракле, рассказы, стихи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И отошёл на своих костылях, оставив Егора в недоверчивом раздумье.
Несколько раз потом приходил Егор к своему окошку, но днём пламя было незаметно. Было это окошко почти у земли в глухой кирпичной стене дома без вывесок, вахтёр на проходной смотрел угрюмо и подозрительно. И Егор робел.
Наконец, в ту самую ночь, когда Егор решил кинуть в окошко завёрнутое в газету полено, чтобы посмотреть, загорится али нет, его и сцапал отец Пахомий и, накостыляв хорошенько, объяснил, что дело это духовное и мирских людей никак не касается.
С тех пор Егор стал молчаливым, перестал верить в гласность и подружился с краеведом Бесштановым.
От Бесштанова я эту историю и услышал.
Фрагмент 2
– Признайся, Самуил, ты еврей! – сказал трактирщик Гершензон.
– Все мы евреи по благодати – смиренно ответил монах, уплетая фаршированную рыбу, приготовленную служанкой Мотей.
– Нет, признайся, Самуил, ты настоящий еврей – настаивал Гершензон, – иначе, откуда ты знаешь по-еврейски? Ха! Я тоже учился в хедере, но ты знаешь лучше! Скажи, ты знаешь Талмуд?
– Знаю, – кивнул Самуил.
– Ха, и после этого ты говоришь мне всякие глупости? Ты думаешь, Гершензон – совсем невежественный человек и не сможет узнать учёного еврея? Нет, я тоже учился в хедере, а сестра моей бабушки Цили была замужем за раввином Иехиалем Гальпериным из Минска. Скажи, ты знаешь про раввина Гальперина из Минска?
– Учёный был человек, – кивнул Самуил – «Седер Гадарот» написал.
– Вот! – возликовал трактирщик, – теперь ты можешь одеваться русским попом!
На столе в маленькой комнате горела единственная свеча, и казалось удивительным, что два человека отбрасывают столько теней.
– Ты не знаешь, какие люди здесь останавливались! – горячился Гершензон, – Здесь бывали сам Натан Гановер и Мардохей Франк! И сам рабби Лёв оставил моему деду на сохранение тайную книгу о Машиахе. Может, ты мне не веришь?
– Всякое бывает, но вряд ли – задумчиво произнёс инок, пряча руки под стол, чтобы хозяин не увидел, как они задрожали от волнения, – его путешествие было предпринято не напрасно. За окном светало, и ни хвастливый хозяин, ни замерший от страха упустить удачу гость не услышали тихого смешка судьбы, смеявшейся над человеком, достигшим цели своих исканий.
Фрагмент 3
Всю свою сознательную жизнь Исаак Абрамович Исраэль мечтал переехать в Малахутовку, где была синагога и полчаса езды до Москвы. Однако всю свою сознательную жизнь Исааку Абрамовичу пришлось прожить в Галутвине, а это, знаете ли, 101-й километр. В этом Галутвине было много заводов, некрасивые двухэтажные дома и река Ока. И ещё там ходил трамвай. Этим трамваем и рекой Окой все положительные стороны Галутвина исчерпывались. Если, конечно, не считать развалин монастыря. Но Исаака Абрамовича развалины монастыря совершенно не интересовали. Что же касается реки Оки, то его сосед, который был родом из Мордовии, уверял, что самая лучшая река – это Мокша, и Исаак Абрамович верил ему на слово. Но сам он мечтал о Малахутовке. Каждое утро он ходил на работу, а вечером читал Тору.
Однажды к нему пришёл человек и принёс старинную рукопись, писанную еврейскими письменами. В первый момент Исааку Абрамовичу показалось, что это книга Ibbur, но он быстро понял свою ошибку.
– Мой прадедушка был книжный человек, – сказал посетитель, – и он купил этот свиток у одного трактирщика за 50 рублей. Тех рублей. Теперь один человек предлагает мне за неё 600 долларов. Вы – учёный человек. Может, она стоит дороже?
– Молодой человек, – сказал Исаак Абрамович, – у меня есть русский племянник и его зовут Ипа. Он журналист. Каждый раз, когда этот Ипа приезжает ко мне, он говорит: «Дядя Изя, у Вас много старых книг, и можно их продать за хорошую цену и купить себе квартиру в Москве или дом в Малахутовке, а себе купить новые». Но я не даю ему продать мои книги, потому что мне их жалко. Если Вы не боитесь, то я скажу про Ваш свиток Ипе и спрошу, за сколько можно его продать. Я так думаю, что если его увезти в Америку, то за него дадут больше 600 долларов, но только на таможне его у Вас отберут.
Тогда человек дал Исааку Абрамовичу 500 рублей и попросил прочитать, что написано в рукописи. И Исаак Абрамович прочитал, а потом рассказал о том, что прочитал племяннику Ипе, а Ипа стал бегать по комнате и громко кричать, что надо было удержать рукопись у себя и спокойненько её перевести. И что он, Ипа, сам бы не пожалел за такую рукопись 600 долларов. Но Исаак Абрамович знал, что Ипа врёт, потому что у него нет 600 долларов, а если бы они и появились, то Ипа всё равно бы их потратил на что-нибудь другое, и поэтому сказал: «Ипа, когда ты доживёшь до моего возраста, то тоже не будешь хранить у себя чужие рукописи, потому что никогда не знаешь, кто за ними придёт». Так он сказал, потому что он был старый и мудрый человек и всю свою сознательную жизнь прожил в Галутвине.
Текст 3
Величайшие открытия совершаются порой по поводу совершенно ничтожному и незаметному.
Изучая только что купленную новую крупномасштабную карту области (вещь, для краеведа совершено необходимую), Матвей Савельевич Бесштанов вдруг понял, что если соединить на карте одной линий все деревни, названия которых начинаются на букву «У», то получится изображение этой самой буквы. Вначале Матвей Савельевич даже усомнился, не шутка ли? Потом попробовал с буквой «Х» и опять получилось.
В другой раз понадобилась ему в энциклопедии статья про Швейцарию. И бросил он беглый взгляд на список их швейцарских президентов и что-то не то увидел. Почитал внимательно, так и есть: если столбиком вторые буквы в фамилиях читать получается по-украински. Матвей Савельевич так и сел. Это что же получается? Тут в черепе у Бесштанова что-то щёлкнуло и открылось у него второе зрение. Взял он отпуск и засел в библиотеку. И пока он там сидел, остатки волос у него вставали дыбом, сами собой шевелились и заплетались узлами. Какой бы справочник он не взял: по метеорологии, космологии, хронологии, генеалогии… – все таблицы оказывались составлены по одному шаблону. Высота величайших горных вершин соотносилась с фамилиями грузинских эриставов, в порядке убывания знатности, диаметры планет с продолжительностью правления китайских династий и датами съездов КПСС. А уж когда ему попался указатель звёздных величин…
– Так! – сказал, наконец, краевед преисполненный праведного негодования, – значит, всё враньё?
– Враньё! – подтвердил внутренний голос. И Матвей Савельевич застыл, потрясённый грандиозностью космической аферы.
– Какая же скотина всё это понаписала? – с возмущением подумал патриот Бесштанов.
– А интересно всё-таки, а что это она там понаписала? – спустя минуту 15 секунд подумал учёный Бесштанов.
То, что за всеми цифрами и отношениями прячется написанный буквами текст, он догадался давно, ещё по карте, оставалось только вытащить его на солнышко. С яростью зарывшись в справочники, переводя числа и отношения в буквы кабалистическим способом, начал он его выуживать буква за буквой, вытаскивая их из карт и таблиц как рыб из проруби и складывая стопочкой как блины, пока они не собирались в слоги и не начинали набухать смыслом. Тогда он раскладывал их на столе и под его суровым взглядом они съёживались и расползались по словам и предложениям. Перед его мысленным взором уже виделся первотекст, послуживший космическим шарлатанам шаблоном и расплодившийся их стараниями на бесчисленное, хотя и иллюзорное множество других текстов, из которых была соткана смирительная рубаха, надетая на русского человека.
Но задача оказалась не столь уж простой. Надёрганные им слова зажили какой-то странной жизнью. Едва занесённые на лист бумаги, они тут же пытались воплотиться в его, Матвей Савельича, реальной жизни. Слог «вав» отозвался собачьими концертами. Громадные кобели стали стягиваться со всей округи, чтобы выяснять у подъезда Матвей Савельевича отношения. «Хохма» явилась в виде непутёвого художника Рудика, который мало того, что хохмил по поводу теорий Матвей Савельича, ещё и просил потом денег взаймы. От слова «берия» Бесштанов вздрогнул и стал шарахаться от невесть откуда расплодившихся лиц кавказской национальности. Слово «ацилут» его доконало. Что такое «ацилут», Матвей Савельич не знал. Но оно явно что-то обозначало и наверняка какую-то гадость, вроде ацетона, а то ещё и похуже.
Хуже того, найденные слова лезли из всех щелей. Матвей Савельич брал газету: журналисты писали исключительно «его» словами или прятали их внутри предложений. Даже соседка начала их вворачивать в разговоре.
Но самое ужасное подозрение закралось у него касательно букв. Ему стало казаться, что все слова составлены не из обычных букв, а из тех самых, ещё не оприходованных.
Теперь Матвей Савельич уже и сам был не рад, что ввязался в это дело. Всегда жизнерадостного, многозначительного и таинственного Бесштанова было не узнать. Походка у него стала неровная, дёргающаяся, взгляд застывший. Он нервно оглядывался по сторонам и что-то бормотал себе под нос. И главное, он не мог остановиться: Текст продолжал вылезать на свет помимо его воли. Идёт по улице дворняга, а Матвей Савельич с ужасом замечать, что это буква «Ё». Поглядит Матвей Савельич на небо, а это не облака ползут, а целый абзац надвигается. С кем заговорит, а тот вместо ответа заглянет в глаза и целые куски из Текста шпарит. А Матвей Савельич видит, что тот не сам по себе говорит, а это Текст через него выползает, а тот и не замечает, скажет себе спокойненько и пойдёт восвояси. Тошно стало Матвей Савельичу, уже и думать боится. Только что-нибудь подумает, а это Он.
Тогда вот что он надумал: как запишет большой кусок Текста, так возьмёт ножницы и «чирик-чирик», на кусочки разрежет и по-новому склеит, и как будто полегче станет. И кусочки эти он по ночам как листовки расклеивал, с несвойственным ему ранее злобным хихиканьем. А однажды пришёл к нему человек с целой стопочкой и спрашивает: «Ваша, Матвей Савельич, работа? А то тут один поэт их собирает и по своим стихам рассовывает». А Матвей Савельич руками замахал: «Нет, говорит, я тут не причём, это он сам, а я помер давно, знаете ли». А человек не поверил и говорит: «Очень здорово Вы это Матвей Савельич придумали. Мы это всё оприходуем».
А Матвей Савельич видит, что это и не человек вовсе, а Вельзевул. Закричал он от испуга страшным голосом. А тут пришёл старец Аполлоний Симонович, да как вдарит ему промеж глаз костылём.
Тут Матвей Савельич и проснулся.
Бесштанов похлопал глазами и уставился на лежащий перед ним на столе старинный свиток, потом взял лупу и попытался сосредоточиться. «Четверг, – пробормотал он, взглянув на отрывной календарь. – Со мной всё в порядке».
Но проклятый сон всё не шёл из памяти. Краеведу начало казаться, что рукопись это и есть тот самый Текст из его кошмара, да и сон был не совсем сон. Матвей Савельич напомнил себе, что сам подобрал свиток в зарослях бузины, рядом с битыми кирпичами и бутылкой из-под портвейна. Но это воспоминание теперь показалось ему каким-то неубедительным.
За окном светало и пело третьими петухами. Подумав, Бесштанов свернул рукопись и, воровски оглянувшись, сунул её в щель между шкафом и стеной, туда, где, как он подозревал, давно уже поселилась маленькая чёрная дыра, кушающая без разбора, всё, что проваливалось со шкафа.
Затем, невинно насвистывая, учёный муж вернулся к письменному столу.
На столе, выпучив печальные глаза-плошки, сидел Ацилут. Посмотрев на него с ненавистью, Бесштанов яростно ударил по клавишам печатной машинки. Он знал, что Ацилута необходимо оприходовать вместе с не пойми откуда взявшейся в голове препротивной Ехидой. И Матвей Савельич уже догадывался куда. Что-то пело в его душе тоненьким голосом, и опытным ухом Бесштанов распознал комариный писк вдохновения. Вдохновенье пело на одну из излюбленных тем Матвея Савельича: оно пело о конце света.
Фрагмент 4
По бесшумному, похожему на трубу коридору Центра, с синими окнами-иллюминаторами, крался Марк Аронович Одинштейн. Крался он к себе в кабинет. Все думали, что Одинштейн на конференции. Пускай думают.
Сквозь синие иллюминаторы было видно, как глубоко внизу в огромном зале у мониторов сидит множество людей. Они глядят на свои мониторы, подключенные к величайшему в мире компьютеру, и думают, что они самые умные. Пускай думают.
На цыпочках Марк Ароныч добрался до нужной двери и перекрестился. Тут вы вправе удивиться и спросить: зачем он это сделал? Но Марк Ароныч знал, что делал, потому что не перекрестись он перед тем, как открыть дверь, он оказался бы в совсем другом кабинете. А этот кабинет, в который он попал, был оборудован специально для тех случаев, когда Марк Ароныч не хотел, чтобы его нашёл кто попало.
В этом кабинет тоже был монитор. Но на полочке за занавесочкой лежали пыльные пергаментные фолианты, съёжившиеся папирусы, шелковые свитки и глиняные таблички, испещрённые загадочными письменами.
Если бы сюда забрался кто-нибудь посторонний, он бы, конечно, побежал к монитору, потому что современный человек никогда не подумает, что можно взять книгу и всё там прочитать.
Человек, который ждал Одинштейна, был не посторонний, а доверенный человек. Увидев Марка Ароныча, он подскочил со стула, а Марк Ароныч, наоборот, упал в кресло и стал утирать пот.