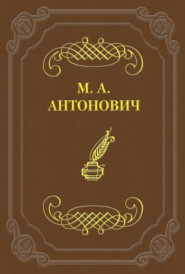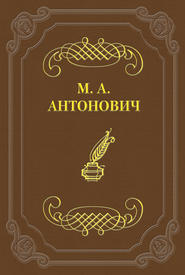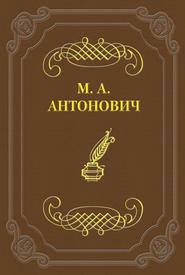По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Суемудрие «Дня»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Максим Алексеевич Антонович
«Люди, желающие иметь обо всех окружающих их предметах точное и определенное понятие, желают иметь такое понятие и о славянофильском „Дне“, и потому спрашивают: „Что такое „День“? Есть ли это газета с основательными или, по крайней мере, с определенными систематическими убеждениями, или просто склад неясных и неопределенных представлений, неосмысленных патриотических выходок и восточно-русского самохвальства, разведение водою посмертного наследства Киреевских, Хомякова и К. Аксакова?“…»
Максим Алексеевич Антонович
Суемудрие «Дня»
Люди, желающие иметь обо всех окружающих их предметах точное и определенное понятие, желают иметь такое понятие и о славянофильском «Дне», и потому спрашивают: «Что такое „День“? Есть ли это газета с основательными или, по крайней мере, с определенными систематическими убеждениями, или просто склад неясных и неопределенных представлений, неосмысленных патриотических выходок и восточно-русского самохвальства, разведение водою посмертного наследства Киреевских, Хомякова и К. Аксакова?» Такие вопросы кажутся странными людям, составившим себе ясные и твердые понятия о «Дне», и тем более странными, что они предлагаются уже после того, как г. Чернышевский несколько лет тому назад доказал в «Современнике», что «День» служит лучшим и неподдельным выражением «народной бестолковости». Но эти вопросы и недоумения, выражающиеся в них, при своей странности понятны и извинительны. В последнее время «День» как будто изменился, стал бравировать сильнее прежнего и чаще повторять мнимо красные выходки и подложно радикальные возгласы, которые одних привели в легкий ужас и некоторое смущение, так что они даже прозвали редактора «Дня» русским Мирабо, а других расположили к снисходительности и примирительному расположению к «Дню», или, по крайней мере, вызвали раздумье, обнаружившееся вышеприведенными вопросами, с присовокуплением еще следующих: что такое эти возгласы «Дня»? выражается ли в них серьезное, продуманное, систематическое и потому плодотворное недовольство настоящим и такое же желание лучшего будущего, или же они просто, хоть и шумные, но невинные фразы, сильно хлопающие, но никого не поражающие и не поучающие, выражающие не столько серьезное, из убеждения вытекающее чувство, сколько легкую, поверхностную прихотливость, недовольную только верхушками и мелочами, но вполне неразборчивую и довольную относительно корня и сущности; или же в этих возгласах обнаруживается желание просто порисоваться, побудировать и поворчать для красоты речи и для удовлетворения какому-то суетному и хвастливому зуду?
В видах разрешения этих вопросов и устранения этих затруднений, мы и решаемся рассмотреть новейшие произведения «Дня», т. е. собственно его передовые статьи; потому что все остальное в «Дне» составляет только случайную обстановку или мебель передовых статей.
У всех славянофилов, так же как и у «Дня», нет точки опоры в голове; все они весьма слабы в мыслительном отношении, и в своих суждениях руководствуются больше чувствительностью или, точнее, сентиментальностью. Главный их принцип составляет поэтическое пристрастие к почтенной старине, к седой древности, которая кажется им лучше настоящего. Такое пристрастие к древности есть общее качество слабомысленных и сентиментальных людей, неразвитых и мало цивилизованных обществ и первобытных периодов в истории развития человечества. В ранние периоды истории повсюду существовали мечты о золотом веке, о первобытном невинном и счастливом состоянии, в котором некогда находился человек и которое потом изменилось к худшему. Затем всегда бывали школы и направления, пристрастные к старине и нерасположенные к современности, смотревшие с большею любовью назад, чем вперед. В новой истории классицизм обожал и стремился воскресить классическую греко-римскую древность; явившийся на смену классицизма романтизм был привязан и пристрастен к средним векам, которые он ставил выше XIX века во всех отношениях. Вообще в старине есть стороны привлекательные для наивных людей, которым она и нравится именно наивностью, патриархальностью и простотою; тех же недостатков, которые скрываются в изобилии за этими поэтическими качествами, они умышленно или неумышленно не замечают. – К этому разряду людей принадлежат и славянофилы; и они тоже пристрастились к старине. Из новейших немецких философов они любят, например, только Шеллинга и именно за то, что он искал откровения высоких истин в древнейших первобытных мифах, сказаниях, преданиях и баснях. Хомяков тоже отыскивал истины в этом же источнике и вообще находил высшее развитие и движение идей в I–IX веках, чем в Х-XIX; по его понятиям все умственное движение, начавшееся после появления протестантства и продолжавшееся до настоящего времени, привело только к умственному растлению и бессилию. – Так как славянофилам ближе всего была русская старина, которая на каждом шагу бросается им в глаза в Москве, то они и обратили свое пристрастие преимущественно на русскую старину.
Но, вероятно, и сами славянофилы понимали, что неловко и неблагопристойно проповедывать прямо возвращение к старине и ставить принципом своих воззрений историческую древность, и потому они свое пристрастие к старине старались скрасить народностью и утверждали, будто бы главный принцип их есть народность, – чему многие и поверили. Однако на самом деле главным пунктом в учении славянофилов была не народность, а именно старина или старинность, древность. Под народностью они понимают не современную народность, осязательно существующую как данный факт, а народность археологическую, некогда в старину существовавшую, а теперь испорченную и погибшую, которую поэтому нужно реставрировать по старым образцам; по их понятиям, – не люди, живущие теперь, с своими свойствами и качествами и со всем своим моральным достоянием составляют народность, а люди, жившие в старину, которым должны уподобляться нынешние люди, если они хотят быть народными; у них нет в мыслях народности в разумном значении этого слова, а есть фантастическая недействительная народность; идею народности они совершенно подчиняют идее стародавности. Поэтому они не славянофилы, а староверы, отрицающие и не признающие народным все, чего не было в старину, и особенно все, что случилось после Петра I, подобно тому как церковные староверы отвергают и признают нечестивым все, что случилось после Никона. По убеждениям славянофилов то, что существовало в старину, должно нерушимо храниться во веки веков, потому что только старинное и народно; Россия теперь уже не народна, потому что была народною только древняя Русь. Что есть у нас отличного от древней Руси, то должно быть уничтожено, и мы во всем должны сравняться с нею. Вот несколько изречений славянофилов для подтверждения высказанных нами замечаний.
«Противоречие основных начал двух спорящих между собою образованностей (т. е. одной чисто русской и другой, сложившейся под влиянием Запада) есть главнейшая, если не единственная причина всех зол и недостатков, которые могут быть замечены в русской земле. Потому примирение обеих образованностей возможно в таком мышлении, которого основание заключало бы в себе самый корень древнерусской образованности, а развитие состояло бы в сознании всей образованности западной и в подчинении ее выводов господствующему духу православно-христианского любомудрия» (Киреевский). – «Мы должны подвергать науку своей собственной критике, просвещенной теми высшими началами, которые нам исстари завещаны православием наших предков». – «Восстановление наших умственных сил зависит вполне от живого соединения с стародавнею и все-таки нам современною русскою жизнью, и это соединение возможно только посредством искренней любви и общения (?)». – «Русская земля предлагает своим чадам, чтобы пребывать в истине, средство простое и легкое неиспорченному сердцу: полюбить ее, ее прошлую жизнь и ее истинную» (Хомяков). – «Образованная часть России пошла по пути Запада… Но надо воротиться к началам родной земли, надо возвратить (т. е. реставрировать) самый образ жизни, во всех его подробностях, на началах этих оснований, и, следовательно, надо совершенно освободиться от Запада и т. д. и т. д., надо быть русскими, надо быть необходимо вместе с тем верующими и смиренными» (К. Аксаков).
Как видно из этого, для славянофилов вся суть заключается в старине, а не в народности; им желалось бы все ныне существующее привести в тот вид, какой имела древняя Русь, и тысячелетнего детину превратить в младенца, т. е. перевернуть вверх дном историю. К. Аксаков изображал русскую старину в таком розовом и привлекательном свете, что она выходила у него совершенно идеальною, и современной России не оставалось ничего более, как превратиться в старую до-петровскую Русь. – Кроме русской старины, славянофилы, особенно Хомяков, сильно превозносили еще старину византийскую и не за какие-нибудь ее действительные и существенные качества, а за тот случайный факт, что древняя Русь, заимствовала из Византии свое православие, которое славянофилы тоже глубоко уважают единственно за то, что оно древне, существует издавна и несколько тысячелетий сохраняется без изменений и без движения. То время, когда Византия, по общему и совершенно справедливому представлению, гнила и продуктами своего разложения заражала все соприкасавшееся с нею, Хомяков считает блестящим и плодотворнейшим периодом в истории; схоластические споры того времени кажутся ему выражением высшей мудрости и истинною философией. По его словам, «защитники икон защищали в них право человеческой свободы (?); они победили, и их победа спасла веру в живую мысль». Совершенно нельзя разобрать, что хотел Хомяков сказать этими словами; вероятно, он и сам не понимал, как эта победа защитников икон поддержала веру в живую мысль.
Как сильно у славянофилов пристрастие к старине русской и византийской, так же ожесточенна их вражда к Западу, имеющая чисто фанатический характер, потому что она возбуждается религиозными интересами. Славянофилы ненавидят Запад потому, почему древняя Русь ненавидела и считала нехристями, басурманами всех неправославных, именно потому, что Запад придерживается католичества и протестантства. В своих сочинениях, желая уязвить Запад, славянофилы ничего не могут сказать, кроме того, что он неправославен, исповедует неправую веру. Запад гниет, потому что он отделился от православия; Запад обезумел, потому что он обратился к неправой вере; западная философия пала, потому что она основана на протестантстве, выродившемся из католичества; – эти мысли составляют постоянный мотив в славянофильских сочинениях. «Жаль, очень жаль, – говорил Киреевский, – что западное безумие стеснило теперь и нашу мысль, именно теперь, когда, кажется, настоящая пора для России сказать свое слово в философии, показать им, еретикам, что истина науки только в истине православия». – «Западная Европа, – говорил Хомяков, – развивалась не под влиянием христианства, но под влиянием латинства, односторонне понятого христианства». – «Односторонность латинства вызвала противодействие, и наступил период протестантства, тоже одностороннего». – «Гегель пал, и – нет более философии на Западе. Гегелизм в своем падении показал всю глубину духовной бездны, над которой уже давно, сама того не замечая, стояла философствующая Германия». – «Англия еще крепка; не верится, чтобы она могла погибнуть; а гибель неизбежна, разве примет она новое духовное начало (т. е. православие), которое притупило бы острие протестантского топора (?); но будет ли это?» – «Очевидно, – говорит тот же Хомяков, – то основание, на котором воздвигнется прочное здание русского просвещения, – это вера, вера православная, которой, слава богу, и по особенному чувству правды (?) никто еще не называл религией (ибо религия может соединять людей, но только вера связует людей не только друг с другом, но еще и с ангелами и с самим творцом людей и ангелов), – вера, со всею ее животворною и строительною силою, мысленною свободою и терпеливою любовью». – «Материализм, – говорил г. Юрий Самарин, – призван покончить со всеми попытками – на чем-нибудь утвердить идею нравственности вне православия, разумея под этим словом не одну доктрину, но церковь, как живой организм».
Все свои воззрения, так же как всю историю и жизнь, славянофилы строят на религиозном или, лучше сказать, на конфессиональном основании, на долговременной давности известного вероисповедания. О Западе, его истории, умственном и общественном его развитии они судят с религиозной точки зрения, занимаются только западными вероисповеданиями и не замечают других более обширных и существенных сторон западной жизни потому, конечно, что они или вовсе не знают, или не понимают их. В самом деле, выводить всю историю и все умственные движения на Западе, совершавшиеся в XVIII и в настоящем веке, из религиозных оснований, из католичества и протестантства – значит обнаруживать крайнее невежество в истории, или же слепой фанатизм, взваливающий все дурное по его понятию на еретические вероисповедания. Славянофилы твердо знают о Западе только то, что он еретик, католик или протестант; а о других сторонах его знают так же мало, как мало знала о них древняя Русь, и потому, совершенно в духе древней Руси, обо всем Западе заключают по его вероисповеданиям; если Запад еретичен, то может ли быть у него что-либо хорошее? может ли жить его философия, когда она не основана на правой вере? может ли существовать Англия, если она не очистится от ереси, не раскается и не оживится правою верою? Судьба всех еретиков и раскольников известна: им грозит временная и вечная погибель. Такую же участь пророчат славянофилы и всему Западу, отщепенцу от правой древней веры. – Ослепленные конфессиональным фанатизмом, славянофилы сузили свой умственный кругозор, притупили свое зрение и не замечают тех светлых элементов на Западе, в которых выражается ход и развитие истории, которые составляют прогресс человечества, тех приобретений ума и улучшений жизни, которыми в праве гордиться западный человек.
Любопытным примером того, как перед величием Запада не могла устоять даже славянофильская тупость, как свет Запада мог просветить даже славянофильскую тьму, служит И. Киреевский, один из первых, если не самый первый, основателей настоящего славянофильства, Все основные воззрения и даже фразы, которыми пробавлялись и доселе пробавляются славянофилы, в первый раз высказаны были И. Киреевским; неизвестно только, сам ли он собственным умом дошел до них, или же заимствовал у своего брата, П. Киреевского. С самой ранней юности И. Киреевский был сильно пропитан славянофильством и по собственному сознанию поставил для себя такую задачу: «я буду иметь вес в литературе и дам ей свое направление. Все те, которые совпадают со мною в образе мыслей, будут моими сообщниками. Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов, и чистоту жизни возвысим над чистотою слога». Такая задача занимала Киреевского в 20-х годах, и в объяснение ее нужно сказать, что в то время везде в Европе, так же как и у нас, господствовала реакция против французского вольнодумства и безбожия, т. е. вообще против умственного и политического движения, охватившего Францию и всю Европу в конце XVIII века. Французская революция поколебала прежние основания власти и создала новый взгляд на общественные права, поколебала религию, уничтожила церковные религиозные предания, ханжество, иезуитизм и т. д., одним словом, как выражались реакционеры, разрушила алтари и троны, убила уважение к религии и законам. Поэтому реакция, вошедшая в полную силу после 1815 г., т. е. после победы всей Европы над Францией, считала своею обязанностью и задачей восстановлять прежние основания власти и прежние ограниченные общественные права, реставрировать старую веру со всеми ее атрибутами, с ханжеством, бездушною внешностью и иезуитизмом, или, как она выражалась, восстановлять алтари и троны, уничтожать глупый либерализм и возбуждать уважение к религии и к закону. Очень естественно, что такое реакционное движение охватило и Киреевского, и он с юношеским жаром готовился к реакционной задаче. Чтобы изучить глупый либерализм и безбожие на самом месте их происхождения, он отправился путешествовать за границу. Как он ни был предубежден против Запада, против движений XVIII века, против либералов и безбожников, однако, увидавши Запад вблизи, он уже не мог оставаться при своих прежних убеждениях; увидавши западную жизнь, он понял сущность движения, против которого восставала реакция, увидал, какие деспотические и омрачающие идеи она отстаивала под именем алтарей и тронов, религии и законов, и вследствие этого ему стало ясно, против чего направлялись движения прошлого века, стало ясно и то, как они были благодетельны и законны и как нужно ценить европейское просвещение, породившее их. Вследствие этого он отступился от прежней своей реакционной задачи и вместо нее принял другую задачу – пересадить на русскую почву европейское просвещение и именно просвещение XVIII века. Отправившись в Европу славянофилом, И. Киреевский возвратился из нее западником, европейцем, и начал издавать журнал «Европеец» с направлением, радикально противоположным славянофильству, просто называл «сумасшествием» славянофильское возвращение «к старому русскому» и вообще все славянофильство. Он не обращал внимания на то, что Запад еретичен, и называл его учителем и образцом для России, которая стала просвещаться только со времени своего сближения с Западом, начавшегося реформой Петра. В статье под заглавием «XIX век» Киреевский довольно подробно развил свой взгляд на отношения России к Европе. По его понятиям, европейское просвещение разделяется на два периода: старое просвещение, существовавшее до половины XVIII века и разрушенное в это время, и новое, начавшееся умственными и политическими движениями во второй половине этого века. России, по его понятию, нет надобности переживать старую жизнь Запада и усвоивать его старое просвещение; она может начать свое учение и подражание Западу прямо со второй половины XVIII века, она должна усвоять себе новое европейское просвещение и новую жизнь, развившуюся с этого времени. «Новое просвещение, – говорит он, – противоположно старому и существует самобытно. Потому народ, начинающий образовываться, может заимствовать его прямо и водворить у себя без предыдущего, непосредственно применяя его к своему настоящему быту. Вот почему и в России, и в Америке просвещение начало приметно распространяться не прежде восемнадцатого и особенно в девятнадцатом веке». – За эту статью «Европеец» был запрещен, так как запретившим показалось, будто Киреевский под именем «нового просвещения» Европы разумеет и рекомендует России революцию. Но Киреевский не удержался на новой точке зрения. Через жену свою, как рассказывает г. Кошелев, Киреевский «познакомился с схимником Новоспасского монастыря, отцом Филаретом, и когда впоследствии короче узнал его, стал глубоко ценить и уважать его беседы. Конечно, это короткое знакомство и беседы схимника не остались без влияния на его образ мыслей и содействовали утверждению его в том новом направлении, которым были проникнуты его позднейшие статьи (т. е. в славянофильстве)». Подле имения Киреевского находилась Козельская Оптина пустынь. – «Сюда, – тоже рассказывает г. Кошелев, – уезжал Киреевский и проводил здесь целые недели, духовно уважая многих старцев святой обители и особенно отца Макария, беседы которого он высоко ценил. Здесь же он занимался приготовлением к изданию разных душеспасительных сочинений, переводимых в обители монашествующими братьями». Таким образом отцы Филарет и Макарий отвратили Киреевского от западничества, и снова обратили в славянофильство, и наложили свою печать на его убеждения.
На основании примера Киреевского, мы думаем, что если бы и другие славянофилы посмотрели вблизи Запад и узнали его, то также, подобно Киреевскому, хоть на время прозрели бы и увидели свое славянофильское безумие. Даже, может быть, сам западоненавистник г. Касьянов смягчил бы свою ненависть к Западу и не стал бы оплакивать, как погибших, всех русских, путешествующих за границей, если бы хоть немножко понимал, что такое Запад и европейская жизнь. Этот же пример показывает, что на славянофильство в самом его источнике сильно влияли отцы Филареты и Макарий, и потому естественно, что оно имеет по преимуществу религиозный или конфессиональный оттенок.
Таким образом мы нашли в славянофильстве две существенные черты: во-первых, историческое невежество или невежественную наивность, воображающую, что всякая старина лучше новизны, что ее потому нужно сохранять вовеки нерушимо и восстановлять там, где она разрушена, и, во-вторых, ограниченность, не выходящую из конфессионального круга, фанатическую и не допускающую ничего доброго и хорошего в еретике и во всем, что не вытекает из религиозных оснований или даже из оснований известного частного вероисповедания. Этими же чертами обладает и «День». И он силится поворотить современную Россию к древней Руси и воскресить те религиозные представления, какие она имела. Уже по этому наперед можно угадать, какое превратное отношение имеет «День» к современности и как дики и устарелы должны быть его взгляды на действительную, ныне совершающуюся жизнь. Ни за один современный вопрос он не берется просто, а непременно наперед погрузит его в прах древности и решает его не на основании интересов и нужд настоящего, а по своим представлениям о старине или по своим конфессиональным убеждениям. Понятно, какие нелепости должны происходить из этого; теперь возникают вопросы, о которых старина не имела ни малейшего представления, а «День» именно от нее и допытывается решения этих вопросов и, разумеется, получает от нее решения, какие вообще получаются от человека, физически не могущего понимать вопроса; извольте, например, решать на основании древней Руси, как делает «День», вопрос о печати и ее отношении к правительству? С другой стороны, в старину бывали вещи, которые физически невозможны при настоящем порядке вещей, бесконечно отличном от старинного; а «День» все-таки старается воскресить их, как рекомендует, например, для настоящего времени политический строй древней Руси. Все воззрения «Дня», даже, по-видимому, резонные и благовидные, непременно в самом корню заражены ядом старины или религиозного фанатизма. Поэтому даже с виду хорошее в «Дне» нужно принимать с опасением и осторожностью. Иногда он заявляет требования, с которыми нельзя не соглашаться и которые бы заслуживали поддержки, но он мотивирует эти требования такими основаниями, от которых вы невольно отшатнетесь, потому что именно на этих и при этих основаниях совершенно невозможно исполнение заявляемых требований. Иногда он предлагает меры для устранения какого-нибудь действительного зла, но эти меры сами по себе составляют еще большее зло и вообще такого рода, что ими и не стоит покупать устранение меньшего зла. Иногда он рекомендует что-нибудь в видах общественной пользы, а между тем в основании этой рекомендации скрывается религиозный фанатизм, весьма далекий от общественной пользы. Для примера разберем несколько передовых статей «Дня».
В передовой статье № 34 «День» рассуждает о свободе слова и желает этой свободы. Желание прекрасное, и кто не согласится с ним? Но г. Аксаков все делает не спроста, и желание свободы слова сопровождается у него двумя неизбежными славянофильскими спутниками, ненавистью к Западу и желанием восстановить древле-русскую старину. Запад, рассуждает г. Аксаков, не имеет правильного понятия о свободе слова, и потому не имеет и самой свободы, находится под «невыносимейшим деспотизмом» своих парламентов; Русь же совершенно правильно понимает свободу слова, не подчиняется деспотизму парламентов и имеет «неограниченную свободу мнения, или критики, т. е. мысли и слова». – Беда России только в том, что образованные классы ее знают европейские языки и заменяют ими свой; они свои понятия о русской жизни исказили примесью европейских понятий, сходные русские и западные явления совершенно смешивают, – отчего происходит положительный вред. Таким образом, говорит г. Аксаков, искажено у нас понятие о свободе слова, на которую многие русские смотрят с западной точки зрения и потому утверждают, что свобода слова у нас невозможна при существующей форме правления, непохожей на западные формы.
«Вследствие недоумений, вызванных нашими словами, сказанными в № 31, мы убедились, что, в силу тех же (т. е. западных) подобий, в большом еще ходу у нас мнение, ни на чем, кроме подобия, не основанное и повторяемое у нас с ветру людьми, пробавляющимися весь свой век готовыми афоризмами: что свобода печати несовместна с существующею у нас политическою формою правления, т. е. с самодержавием. Мы с этим совершенно не согласны. Конечно, если смотреть на русское самодержавие как на немецкий абсолютизм или азиатский деспотизм, то свобода слова с ним несовместна; но русское самодержавие, по коренному народному идеалу, не есть слава богу, ни то, ни другое. Прежде всего – свобода речи сама по себе не есть (как думает Запад) свобода политическая… Мысль, слово! Это не „прерогатива“, а неотъемлемая принадлежность человека, без которой он не человек, а животное. Бессмысленны и бессловесны только скоты. Посягать на жизнь разума и слова в человеке – значит не только совершать святотатство божьих даров, но посягать на божественную сторону человека, на самый дух божий, пребывающий в человеке, на то, чем человек – человек, и без чего человек – не человек! Свобода жизни разума и слова, как мы уже не однажды выражались, такая свобода, которую даже странно формулировать юридически или называть правом: это такое же право, повторяем, как быть человеком, дышать воздухом, двигаться. Эта свобода есть необходимое условие самого человеческого бытия, вне которого невозможно и требовать от человека никаких правильных отправлений человеческого духа, а тем менее гражданских доблестей; умерщвление жизни мысли и слова не только самое страшное из всех душегубств, но и самое опасное по своим последствиям для судьбы царств и народов».
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Конечно, свобода слова то же для человека, что пища или воздух, и без свободы слова человек «есть бессмысленный и бессловесный» скот; об этом можно говорить много, горячо и красноречиво; только, к сожалению, все эти слова далеки от действительности, от фактического положения дела. Признавая свободу слова «политической свободой и прерогативой», Запад ближе к действительности и потому ближе к достижению этой свободы. Человек от природы имеет дар мысли и слова и может пользоваться этими дарами, как всеми остальными своими дарами, свойствами и членами; по естественному побуждению он мыслит и говорит, подобно тому, как дышит и принимает пищу. Никто, кроме слепой физической невозможности, не может воспретить человеку действовать по своим естественным стремлениям; личностью человека может распоряжаться только он сам, только сама эта личность. Все люди по природе своей равны, и ни один человек в сущности своей природы не имеет никаких оснований для того, чтобы ограничивать другого и делать насилия его личности. Каждый человек имеет право мыслить и высказывать свои мысли, как каждая птица имеет право летать или каждая рыба плавать в воде. Все эти истины Запад понимает еще лучше «Дня»; Запад ясно сознал и высказал эти истины в разных торжественных объявлениях «прав человека» еще в то время, когда славянофилов и на свете не было и когда их предки по направлению ратовали против «либерализма», возбуждали уважение к религии и закону. Но при этом Запад знал еще историю, которой славянофилы и «День» не знают и не понимают. А история говорит, что в человеческих еще не развитых обществах одна часть общества посредством большей ловкости, богатства и особенно посредством религиозных суеверий и басен приобретает перевес и власть над другою; эта другая часть доводится первою до совершенного рабства, в котором люди уже не могли свободно пользоваться своими естественными способностями и удовлетворять своим стремлениям, не могли свободно действовать, работать, выбирать для себя цели, не могли свободно мыслить и говорить; не только все принадлежащее им, все продукты их труда, не только их мысли, но вообще вся их личность, самая жизнь находилась в полном распоряжении у людей, приобревших власть над ними и свободно лишавших их даже жизни. В подобном порабощении одну из главных ролей играл мистический элемент, который составляет сущность и подкладку славянофильских воззрений; языческая религия укрепляла силу власти, освящала ее действия, вообще ограждала ее неприкосновенность и для этого внушала подвластным убеждение, что люди, облеченные властью, или происходят от богов, или воспитаны богами, или получили власть от богов, или же, как, например, жрецы, служат посредниками между богами и людьми. Кроме того, религия еще прямо и для своих целей ограничивала свободу мысли и слова, требовала безусловного подчинения ума своему авторитету и жестоко преследовала всякое выражение мнений, несогласных с нею.
Только слепота славянофилов препятствует им видеть, что основной принцип, на котором они основываются, всегда противодействовал свободе мысли и слова и по самом характеру своему составляет неизбежное ограничение этой свободы, потому что дает уму известное определенное содержание и предписывает известные границы с строгим запрещением переступать их.
Таким образом в неразвитом обществе только власть и жрецы пользовались свободой мысли и слова, могли говорить свободно все, что им угодно и нужно; остальная же часть общества не имела такой свободы и могла мыслить и говорить только то, что дозволяли ей власть и жрецы. Значит, свобода мысли и слова из естественной неотъемлемой принадлежности человека фактически превратилась в прерогативу, в привилегию, которою не пользовалась бо?льшая часть общества; и эта часть была поэтому, говоря словами «Дня», «бессмысленным и бессловесным скотом». Так было приблизительно и в новых европейских обществах и почти со всеми естественными принадлежностями, потребностями и деятельностями человека. Например, что может быть естественнее и неотъемлемее права вступать в брак? Однако и это право фактически было прерогативой, привилегией, которою пользовались не все; одним она не дозволялась совсем, другим дозволялась только по особенному разрешению власти и религии. Вообще в неразвитых обществах у людей отнимаются самые неотъемлемые права их и самые естественные принадлежности.
Но по мере того как развивались новые европейские общества, они постоянно освобождались от оков, наложенных на них властью и суеверием; с величайшим трудом и усилиями им удавалось добиться участия в прерогативе мысленной и словесной свободы; каждый шаг на этом пути они брали с кровавого бою; поэтому каждое свободное движение, раз сделанное ими, они считали своим приобретенным достоянием и отстаивали его как свое приобретенное право. Таким образом, хотя и правда то, что свобода мысли и слова есть естественная неотъемлемая принадлежность человека, однако прав и Запад, считая эту свободу приобретенным политическим правом, потому что оно действительно было приобретено его собственными трудами, как всякое другое приобретение; он прав, думая, что это право он должен защищать и отстаивать как свою прерогативу, потому что в противном случае могут и отнять у него это право. И действительно, благодаря своим усилиям и мужественному отстаиванию приобретенных прав, Запад пользуется если не совершенною свободою мысли и слова, то, по крайней мере значительною долею ее, превосходящею русскую свободу мысли и слова. Вопреки еретическому Западу, мы смотрим на эту свободу не как на политическую прерогативу или на право, а считаем ее даром божиим, отражением духа божия в человеке, неотъемлемою принадлежностью человека, без которой он есть «скот бессмысленный и бессловесный»; и, несмотря на это, все-таки мы не имеем этой свободы и должны считать себя «скотами бессмысленными и бессловесными». «День» говорит, что по русскому, антизападному воззрению свобода мысли и слова то же; что пища или воздух; и все-таки мы жили же долго без этой свободы и еще можем прожить столько же. Тот же самый «День», который изображает столь возвышенными русские понятия о свободе, выходил же в свет с пустыми пробелами на месте передовых статей, – что обозначало, что передовые статьи эти не могли быть напечатаны вследствие цензурного запрещения. Но даже и эта жалкая свобода оставлять пустые пробелы на месте запрещенных статей была прерогативой и привилегией одного только «Дня», потому что другие журналы не имели права печатать даже несколько точек взамен запрещенных цензурою мест. Вообще, как вероятно согласится и сам «День», существует самый резкий контраст между высказанными им русскими идеями о свободе и между фактическим положением этой свободы, и чем резче этот контраст, тем комичнее наше хвастовство русскими идеями и заносчивость перед Западом. Не лучше ли нам смириться перед Западом и признать, что он хотя не считает свободу слова неотъемлемым даром божиим и духом божиим, однако понимает ее лучше нас, потому что и на деле пользуется ею? И ужели в самом деле правда, что по русским понятиям свобода так возвышенна и необходима, как изображает ее «День»? Нельзя ли назвать этих изображений просто хвастливыми фразами, придуманными для самообольщения, для услаждения хоть на словах тем, чего нет на деле? И в самом деле, если бы свобода слова была столь драгоценна и неизбежна по русским понятиям, если бы она была столь сообразна с общим строем и идеалом русской политической жизни, как заверяет г. Аксаков в «Дне», то отчего же она не могла произрастать на русской почве, отчего же она вообще растет у нас несравненно хуже, чем на Западе? Нет, весьма вероятно, что русская идея, русский строй и русское общество относятся к свободе слова точно так же, как и сам «День», т. е. на словах превозносят эту свободу до небес, как неприкосновенный дар божий, и на словах дают ей самые широкие размеры, на деле же до бесконечности унижают и ограничивают ее. В самом деле, кто так красноречиво восхваляет свободу слова и свободу вообще, как славянофилы и «День», и чье направление в сущности столь враждебно свободе, как направление тех же славянофилов и того же «Дня»? Они требуют свободы слова и мысли, и в то же время всякую мысль стараются подчинить безусловному авторитету религиозного принципа; они допускают свободу для ума, но только с тем, чтобы он всегда признавал религиозные и политические положения, разделяемые славянофилами, и сам не выдумывал никаких положений; они желают, чтобы свободный ум всегда ходил на помочах и находился под ферулою раз навсегда установленных тезисов предания, т. е. совершенно ограничивают свободу ума. Как узка свобода, предоставляемая славянофилами уму, видно из следующих рассуждений Хомякова. «Предоставим, – говорит он, – отчаянию некоторых западных людей, испуганных самоубийственным развитием рационализма, тупое и отчасти притворное презрение к науке. Мы должны принимать, сохранять и развивать ее во всем том умственном просторе, которого она требует; но в то же время постоянно подвергать ее своей собственной критике, просвещенной теми высшими началами, которые нам исстари завещаны православием наших предков». Итак, ум должен постоянно подчиняться авторитету предания, критика его не должна быть критикою чистого разума, а критикою, подчиненною высшим началам, обязанною держаться принципов, исстари завещанных предками. Уму предоставляется свобода только до тех пор, пока он покорен и предан этим началам и принципам; если же он вместо старорусских начал выработает свои самостоятельные начала и если он, исходя из этих начал, дойдет свободно до каких-нибудь западных еретических убеждений, то свободу его надо пресечь, самого же его нужно, во что бы ни стало, обратить на правый путь. И действительно, славянофилы преследуют ненавистью и проклятиями, как изменников и отщепенцев, униатов и других славян, обратившихся на путь Запада и не разделяющих начал, исстари бывших в Руси. Славянофилы в этих случаях одобряют даже энергические внешние меры, употребляемые для наказания и вразумления еретиков и отступников от древле-славянских начал.
Доказавши, что Запад не понимает свободы мысли и слова, не имеет ее, «День» усиливается далее доказать, что Запад даже не может иметь этой свободы, потому что она подавляется деспотизмом парламентов.
«Неограниченность есть принадлежность, необходимое свойство всякой власти в области ей свойственных отправлений, без чего она не есть власть, а какой-то призрак, фикция. Власть ограниченная – то же, что ограниченная собственность – два понятия, исключающие одно другое. Государь-демос (народ), государь-совет десяти, государь-конвент, государь-парламент, государь-царь, – это все та же верховная самодержавная власть, с тою разницей, что в последнем случае она сосредоточивается в одном лице, а в первых случаях переносится на народные массы, на грубую чернь, или же на образованное меньшинство, ничем никогда в размере своем вполне разумно не определенное. Вопрос о том – что лучше: коронованный ли народ, коронованное ли общественное мнение, или коронованный человек, один единый, ничем не огражденный, кроме права, за ним всенародно признанного, бессильный, как личная одинокая сила, но могучий лишь идеею, которой он представитель, и этою идеею освящаемый, – этот вопрос решается в каждой стране сообразно ее местным потребностям и историческим особенностям развития. В нашей стране он разрешен так резко и положительно всей историей и всем духовным строем народа, что и толковать о каком-либо другом разрешении было бы бессмысленно. Скажем только, что по мнению русского народа, как мы его понимаем, лучше видеть власть, – без которой, по немощи человеческой, обойтись гражданскому обществу невозможно, – наделенною человеческой душой и сердцем, облеченною в святейшее звание „человека“, нежели обратить ее в какой-нибудь бездушный механический снаряд, называемый парламентским большинством, и затем это большинство (представляющее меньшинство относительно всего населения), определяемое по необходимости количественно, а не качественно, составляющееся случайно, – признать единственным правильным выразителем общественного мнения, на которое уже нет апелляций, дальше которого итти уже некуда, которое приходится принять уже как свое мнение. Самодержавие парламента в таком случае может превратиться в невыносимейший деспотизм, особенно если дать силу принципу, что свобода мнения вообще несовместна с принципом самодержавия. Так и было во Франции, во времена республиканских конвентов и террора, когда никакая критика действий самодержавной республиканской власти не была терпима. Поползновение к тому же видим мы и теперь во многих конституционных государствах Европы, кроме Англии. Нельзя не согласиться, что такое поползновение совершенно логично: представительство, – юридически и формально, по праву, являющееся выразителем общественного мнения, облеченным самодержавною властью, – не может затем признать существование какого-либо иного, вне себя, несогласного с собой общественного мнения, ибо только одно звание – выразителя общественного мнения – и дает конституционной палате право на политическую власть. Англия, тем не менее, если не de jure, то de facto, допустила свободу мнения и слова, т. е. свободу критики при самодержавии парламента, и тем спасла у себя свободное развитие общественного мнения вне парламента».
Таким образом свобода выражения общественного мнения невозможна на Западе, потому что ее не терпит парламентское большинство, этот «бездушный механический снаряд», как его называет г. Аксаков. Такое доказательство очень странно, – чтобы не сказать более: теоретически оно фальшиво, фактически неверно. Теоретически оно основывается на фразе; г. Аксакову угодно было назвать парламент «бездушным механическим снарядом», и вышло доказательство. Но ведь подобных фраз и pro и contra можно наговорить сколько угодно и с равною основательностью; можно назвать парламентское большинство живым организмом, целительным бальзамом, советом мудрейших граждан и т. д.; и все эти фразы будут опровержением фразы г. Аксакова. Можно даже прибрать для этого старинные или народные фразы, которые должны иметь особенную силу для славянофилов; можно было бы наговорить: парламентское большинство – это вече, столь любимое исстари русским народом; парламентское большинство – это земский собор, к которому в важных случаях прибегала старинная Русь; парламентское большинство – это мир, который, по воззрениям простого, не зараженного западным ядом народа, представляется решителем всяких дел, это громада, это славянская рада, это плоть и кровь славянства, это всезиждущий дух его, неотъемлемая принадлежность и т. д. и т. д. Из всего этого г. Аксаков должен видеть, что одними фразами ничего нельзя доказывать, что против его самого можно наговорить сколько угодно фраз. Поэтому обратимся к фактической стороне дела.
«День» говорит, что на Западе парламентское большинство не терпит свободы слова и стесняет общественное мнение, что оно деспотично, и такое положение он называет «совершенно логичным». Может быть, оно и логично в голове г. Аксакова, но не логично на деле. Вероятно, сам г. Аксаков сознавал нелепость своей клеветы на западные парламенты и потому для выражения ее употребил слово очень неопределенное и нерешительное, именно «поползновение»; парламент, говорит он, может превратиться в невыносимейший деспотизм; так было во Франции; «поползновение к тому же видим и во многих государствах». Как прикажете понимать это выражение, – так ли, что парламенты уже стесняют свободу слова, или что они только стремятся стеснить ее, или только обнаруживают к этому слабое желание или «поползновение»? Но какой бы смысл мы ни придавали «поползновению» во всяком случае слова г. Аксакова покажутся нелепыми всякому, кто хоть немного знает положение Запада. Только в одной Англии парламент имеет силы настолько, чтобы стеснить свободу слова; но сам же г. Аксаков говорит, что в Англии существует полная свобода слова. В других же странах парламенты не имеют достаточной силы, и уж никак не они стесняют свободу слова. Во Франции, например, стесняет печать вовсе не парламент, напротив, он сам сильно стеснен; в Пруссии то же самое, – парламент стеснен, а сам никого не стесняет, в Австрии то же, в Италии то же, в Испании то же, в Бельгии, Голландии, Дании, Швеции и т. д. то же и то же, везде то же. – Видите, как ничтожны доказательства «Дня», будто бы на Западе невозможна свобода слова. Ничтожность их видна уже и из того, что на Западе не только возможна свобода слова, но и действительно существует значительная доля этой свободы, которой по всей справедливости нам можно позавидовать.
Что же после этого значат все выходки «Дня» против Запада, эти фанфаронские упреки, будто он не понимает свободы слова, не пользуется ею и не может пользоваться? А это просто заносчивая голь, самоуслаждающаяся мизерность и нелепая славянофильская причуда, не желающая признать ничего хорошего в еретическом Западе!
Поломавшись и поиздевавшись над Западом, «День» начинает уже прямо самохвальствовать, выхвалять русский народ за то, что он так разумно устроил свои дела, что ему досталась в награду за это неограниченная свобода слова.
«Русский народ, образуя русское государство, признал за последним полнейшую свободу правительственного действия, неограниченную свободу государственной власти, а сам, отказавшись от всяких властолюбивых (sic) притязаний, от всякого властительного вмешательства в область государства или верховного правительствования, свободно подчинил, – в сфере внешнего формального действия и правительства, – слепую волю свою, как массы, и разнообразие частных ошибочных волей в отдельных своих единицах – единоличной воле одного им избранного (с его преемниками) человека, вовсе не потому, чтобы считал ее безошибочною и человека этого безгрешным, а потому, что эта форма, как бы ни были велики ее несовершенства, представляется ему наилучшим залогом внутреннего мира. Для восполнения же недостаточности единоличной неограниченной власти в разумении нужд и потребностей народных, он признает за землею, в своем идеале (пусть отгадает кто-нибудь, что значит это „в своем идеале“, к чему оно относится и какой смысл имеет?), – полную свободу бытовой и духовной жизни, неограниченную свободу мнения, или критики, т. е. мысли и слова. „Такова наша мысль и сказка, – говорили на соборах наши предки своим царям, – а впрочем, государь, пусть решит твоя воля, мы ей повиноваться готовы“».
Итак, свобода слова, которую выше г. Аксаков называл неотъемлемою принадлежностью человека, даром божиим и духом божиим, является теперь платою, которую русский народ получил за то, что отказался «от всяких властолюбивых притязаний», от всякого вмешательства в государственные дела, так что, если он снова получит возможность вмешиваться в государственные дела, то у него следует отнять свободу слова. В этом рассуждении уже видна непоследовательность г. Аксакова и видно славянофильское благоговение к старине и возведение ее в идеал. В самом деле, откуда г. Аксаков узнал, что политический идеал русского народа есть покорность и смирение, по которым он отказался от всякого участия в государственных делах, и себе предоставил только неограниченную свободу мысли и слова? Это он узнал из древней истории, или, лучше сказать, от своего брата К. Аксакова, который слыл у славянофилов за знатока русской истории и который тоже прославлял необыкновенную покорность, непритязательность и невластолюбие русского народа. Приведенная выше тирада «Дня» есть почти буквальное повторение следующей тирады К. Аксакова, брата редактора «Дня».
«Все европейские государства основаны завоеванием. Вражда есть их начало. Русское государство, напротив, было основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. Итак, в основании государства западного: насилие, рабство и вражда. В основании государства русского: добровольность, свобода и мир. Запад, из состояния рабства переходя в состояние бунта, принимает бунт за свободу, хвалится ею и видит рабство в России. Россия же постоянно хранит у себя признанную ею самою власть, хранит ее добровольно, свободно, и поэтому в бунтовщике видит только раба с другой стороны. – Народ призывает власть добровольно, призывает ее в лице князя-монарха, как в лучшем ее выражении, и становится с нею в приязненные отношения. Князей стало много, они спорили между собою и часто перемещались. Многие думают о Новгороде, как о наиболее менявшем князей, что он был республика: совершенно ложно! Новгород не мог оставаться без князя. Несмотря на перемещение князей, даже на изгнание их, вы видите, что вся Россия и все города ее и Новгород оставались верны монархическому началу и никогда не говорили: устроим правительство без князя. Время княжьих междоусобий прошло. Явился великий князь и потом царь московский и всея Руси, наследственный и самодержавный. Подобно тому как князь созывал вече, царь созывал земскую думу или земский собор. Народ не требовал, чтобы государь спрашивал его мнения. Государь не опасался спрашивать мнения народа. Спрашивали выборных от всех сословий; они говорили: мысль наша такова, а там как будет угодно государю. Не личное самолюбие, не гордость западной свободы была здесь, а обоюдное искреннее желание пользы. Один только Иоанн IV вдруг установил опричину, но потом опять и уничтожил. – Любопытно взглянуть на эти отношения между властью и народом, отношения свободные, разумные, не рабские и потому обеспеченные от всякой революции. Земля или народ пахал, промышлял и торговал; государство поддерживал он деньгами и становился под знамена. Государство или государь блюл тихую жизнь земли. Вся администрация была в его руках. Постоянное войско было его заботой. Сношения политические ведал он один».
Таким образом оба Аксакова согласно свидетельствуют, что у русского народа не было политической гордости, властолюбия и желания вмешиваться в государственные дела. Тот же исторический факт, что русский народ за свое смирение пользовался неограниченной свободой слова, открыт редактором «Дня» и свидетельствует об основательности его исторических знаний. Но, как видите, редактор «Дня» зашел в славянофильский лес гораздо дальше своего брата. Этот брат говорил, что русский народ в старину был смиренным и неохочим к политическим делам, а редактор «Дня» заключает из этого, что русский народ должен быть таким и всегда, до скончания века, что невмешательство в государственные дела есть идеал русского народа. Вот до чего может извратиться человеческий смысл, раз вступивши на нелепый путь идеализации старины. Во-первых, исторически совершенно неверно, будто бы русский народ никогда не принимал участия в государственных делах; и первая же страница русской истории, та самая страница, на которую славянофилы указывают, как на доказательство политического смирения Руси, гласит следующее: «изгнаша Варяги за море и не даша им дани». Но согласимся, что русский народ был в старину безучастен к своим политическим государственным делам; следует ли из этого, что он навеки должен оставаться таким, что такое безучастие есть его идеал? Г. Аксаков воображает себе русский народ окаменевшей глыбой, на которую не действует и которую не изменяет время. Но даже неодушевленные массы и глыбы изменяются от действия времени и видоизменяющихся условий их существования; все лицо земли изменяется, выветриваются и рассыпаются гранитные скалы, возвышаются и понижаются материки, изменяются моря, реки и озера; ужели же может оставаться вечно неизменным народ, живой организм, очень восприимчивый и чувствительный ко всяким внешним влияниям, ужели он в течение целого тысячелетия может пребывать неподвижным в то время, когда до бесконечности менялась его обстановка, его историческая судьба? Ужели может сохраниться неизменно, как окаменелость, такой подвижный предмет, как народное расположение и чувство? Славянофилы должны согласиться, что даже внешний вид Москвы существенно и всецело изменился против того, каков он был при Калите или при Грозном; ужели можно думать что нынешние москвичи питают такие же мысли и чувства, такие же политические стремления, какие были у их предков, живших при Калите или Грозном? Политические стремления и политический строй народа не принадлежат к числу постоянных качеств и принадлежностей народа; есть другие качества, более постоянные и теснее сродные с духовной натурой народа, но и те изменяются от действия времени. Возьмите, например, язык; в языке выражается умственная сущность народа, его психический строй. И, однако, посмотрите, каким важным изменениям подвергается язык, сколько в нем является новых слов, форм и оборотов и сколько уничтожается старых. Если же подвергается переменам такое коренное качество, как язык, то ужели могут оставаться неизменными в течение тысячелетия такие предметы, как политический строй и идеал народа? Сами славянофилы поняли бы нелепость своих теорий, если бы каждый раз делали из них применение к языку. В самом деле, кто усумнился бы в нелепости человека, который бы стал проповедывать, что язык, которым говорили при Рюрике и Синеусе, есть идеальный неизменный русский язык, что наш нынешний есть извращение его, есть порча, внесенная в него зловредными иноземными примесями, что нам для того, чтобы быть истинно русскими, нужно отказаться от нынешнего нашего языка, а говорить и писать на языке Остромирова евангелия или Слова о полку Игореве? Такого проповедника всякий назвал бы помешанным. А ведь славянофильство в самом принципе заключает подобную нелепую проповедь; оно говорит: все бывшее в старину идеально и должно сохраняться неизменным, а что изменено, то нужно оставить и всецело возвратиться к первобытной старине. Если славянофилы не применяют этот принцип к языку, то только потому, что нелепость его была бы очевидна в этом применении. Они воображают, что в других применениях нелепость их принципа незаметна. Напрасное самообольщение: к чему бы вы ни приложили нелепый принцип, нелепость его всегда блестит ярко и очень заметно. В политическом применении, какое делает иэ этого принципа «День», нелепость его еще поразительнее, чем относительно языка.
Если русский народ действительно не принимал участия в своих государственных делах, то это происходило не от того, что политическая безучастность и апатия была национальным качеством, что древняя Русь не имела западной гордости и властолюбия и проникнута была смирением, а просто от неразвитости, от непонимания своих дел. Г. Аксаков прошлым летом ездил по России и нашел, что народ вовсе не занимается теми вопросами, которые более или менее занимают образованных людей и дебатируются в прессе, и из этого заключил, что образованные люди не национальны, что пресса разошлась с народом, что мы вообще идем не туда, куда желает народ. Между тем дело объясняется проще: народ не занимается вопросами, интересующими образованное меньшинство, потому, что не сознает этих вопросов, что ум его неразвит, что он неспособен подняться выше сферы, непосредственно его окружающей, неспособен понять, кто настоящие враги его и кто истинные друзья. Конечно, народ ничего не слыхивал ни о «Дне», ни о славянофилах; но из этого же не следует, будто славянофильство не национально, и «День» ни за что не согласится, что он «рознит с народом». Просветите народ, и он станет заниматься всем, что интересует образованных людей и что вы называете не народным; когда народ разовьется политически, тогда он станет принимать большее участие в государственных делах, несмотря на свое смирение. Выставлять же невежественную апатию и ограниченное безучастие к общим делам отечества как добродетель и как национальный идеал, как делают гг. Аксаковы и славянофилы, – это по меньшей мере нелепо.
Русский народ, как говорит «День», отказался от властительного и властолюбивого вмешательства в государственные дела и взамен этого получил неограниченную свободу мысли и слова. Это неправда самая беззастенчивая, и, вероятно, сам г. Аксаков краснел, написавши ее. В самом деле, г. Аксаков, не стыдно ли вам так бесцеремонно извращать историю в угоду своей нелепой теории? Укажите хоть один миг в русской истории, когда бы русский народ пользовался не то что неограниченной, а хоть ограниченной свободой мысли и слова? Было у нас очень свободное и нестесняемое «слово и дело», но русский народ был не рад свободе такого слова. Вы скажете, что в древней Руси было лучше, была настоящая свобода? Но это будет просто смешно для всякого, кто знает хоть один учебник древней русской истории и в нем видал непрерывный ряд преследований, которым подвергалась всякая новая мысль, новое слово, какой-нибудь новый обычай, выходившие из ряда московской рутины. Свободой слова пользовались разве одни только юродивые, да и те нередко дорого платились за эту свободу. Г. Аксаков может сказать, что русский народ, отказавшись от властолюбивых политических притязаний, только «предоставил себе» неограниченную свободу слова, но по разным причинам эта свобода не досталась ему. Но в таком случае славянофильский панегирик русскому народу превращается в горькую иронию: русский народ отказался от активного участия в государственных делах с тем, чтобы получить свободу слова; однако и этой свободы не получил и остался отстраненным от государственных дел. И, следовательно, все рассуждения г. Аксакова оказываются вздорной фантазией.
К чему же, спрашиваем мы после этого еще раз, «День» издевался над Западом, к чему эти панегирики русскому народу, будто бы во всем превосходящему Запад, понимающему свободу и будто бы всегда имевшему ее? Нет, господа славянофилы: нам еще далеко до Запада, далеко даже до той доли свободы, которую он уже давно познал и теоретически и практически. И не стыдно вам, г. Аксаков, издеваться над Францией так, как вы это делаете в конце вашей разобранной нами статьи о свободе слова? Вы видите сучок у других и не замечаете собственного бревна; посмотрите лучше на себя, взгляните в зеркало, и у вас, может быть, пропадет охота гордиться пред другими тем, чего у вас нет и чего во всяком случае у других больше, чем у вас.
Рассмотрим теперь другую передовую статью «Дня» № 39; здесь мы еще яснее увидим, как странно понимают славянофилы свободу. В этой статье г. Аксаков, по наружности и на словах такой приверженец и любитель всякой свободы, вооружается против свободы совести, выражает неудовольствие на правительство за то, что оно не только руководствуется в своих действиях веротерпимостью, но еще постепенно расширяет ее пределы, отменяет разные стеснения русских католиков и протестантов. Странно это слышать от г. Аксакова, который только что уверял, что в русском государстве внутренняя, духовно-нравственная жизнь, жизнь мысли и совести, пользуется неограниченной свободой и совершенно не зависит от государства. Это неудовольствие г. Аксакова на веротерпимость служит новым доказательством того, как ограничена свобода, проповедываемая славянофилами, что она есть свобода только для одного славянофильского принципа и деспотизм для всех других возможных принципов. «Русское государство, – жалуется „День“, – с необыкновенным усердием издерживает государственные деньги, употребляет в дело свои могучие средства – все для того, чтобы на русском языке проповедывалась ложь папства, славился по-русски Магомет, по-русски же отрицалась истина христианства». – «Вместо того, чтобы воспользоваться той минутой (подавлением восстания в Польше и Западном крае), когда латинство было так скомпрометировано полонизмом в глазах самих католиков, и дать как можно более простора для живой, деятельной пропаганды православия, государство изыскивает для католических жителей Западного края способы оставаться в мире латинством, посредством компромисса с идеей русской народности». Подумаешь, бог знает, что случилось, невесть какие привилегии даны католикам; а оказывается, что это г. Аксаков жалуется на то, что правительство повелело в Северо-Западном и Юго-Западном крае преподавать в учебных заведениях закон божий римско-католического вероисповедания на русском языке. По свободному мнению г. Аксакова, в казенных заведениях должен преподаваться только православный катехизис и не может быть терпим никакой другой еретический, потому что иначе если в казенном заведении учат, например, католическому катехизису, то это значит, что казна или государство распространяет ересь. «Как нам кажется, – так мудрствует г. Аксаков, – русскому государству вовсе нет ни дела, ни обязанности об обучении кого бы то ни было папизму на казенный счет, как бы ни происходило обучение – по-русски ли, по-польски, или по-латыни». Удивительно, до какой степени вы отупели, г. Аксаков; несмотря на ваше нерасположение к иезуитам, вы рассуждаете как настоящий иезуит-инквизитор и прикрываетесь «казенным счетом», надеясь по вашему обыкновению выехать на фразе. Ужели вы не можете понять, что такое «казенный счет», ужели вы думаете, что он сваливается с неба, или составляется исключительно только из славянофильских приношений? «Казенный счет» есть сумма, которую подданные под видом податей, налогов и под другими формами платят государству для того, чтобы оно на счет этой суммы удовлетворяло их нуждам и потребностям, в числе которых находится и воспитание. Государство приняло воспитание на свое попечение и для этого берет с подданных известную сумму; католики, протестанты, татары и т. д. так же исправно платят казне деньги на воспитание, как и православные, и потому имеют право желать, чтобы государство и их детям давало воспитание и между прочим религиозное воспитание, какого желают родители и их дети. И правительство поступает совершенно справедливо, вводя в казенных заведениях преподавание неправославных катехизисов, потому что на это преподавание дают деньги и неправославные подданные. Стало быть, католики учатся в казенных заведениях на свой счет или, лучше, на казенный счет, оплачиваемый католиками, протестанты – на казенный, оплачиваемый протестантами, татары – татарами и т. д. После этого и вы, г. Аксаков, конечно, увидите, как бессмысленна ваша жалоба на государство за то, что оно будто бы с «необыкновенным усердием, с тратою государственных денег и со своими могучими средствами» заботится о распространении лжи папства, магометанства и иудейства. Как в самом деле слепы эти славянофилы в своем фанатизме! Вопрос не в том, на казенный или не на казенный счет нужно учить папизму, магометанству и т. д., а в том, должно ли государство заботиться о религиозном воспитании учеников казенных заведений. Если да, то оно должно учить всякого его вероисповеданию, католика – папизму, магометанина – магометанству и т. д.; если же нет, то оно не должно на казенный счет учить ни одному вероисповеданию, предоставляя это частной заботливости самих вероисповеданий; пусть себе каждый обучается своей религии, как хочет и как знает. Требовать же, чтобы одно вероисповедание распространялось на казенный счет, т. е. на сумму, собранную с последователей всех существующих в государстве вероисповеданий, а чтобы эти другие вероисповедания не были терпимы в школах, – несправедливо и нелепо, и нужно одобрять государство за то, что оно не исполняет такого нелепого требования, а не порицать его, как делает г. Аксаков.
Столь же нелепо сетует г. Аксаков на государство и за то, что оно отменило, впрочем, только для остзейского края, постановление, по которому дети от браков православных лиц с протестантами непременно должны были принадлежать православию. «Таковою отменою, – мудрствует г. Аксаков, – государство упускает теперь из своих рук могучее средство обрусения, создавшееся, так сказать, органически из самого строя русской жизни». Если бы вы, г. Аксаков, были человек искренний, если бы в вас, кроме болтовни и фразерства, была хоть капля истинного убеждения, вы бы, конечно, не стали проповедывать подобного вопиющего иезуитизма. Отчего вы не предполагаете, что остзейцам так же дорога ихняя остзейская национальность, как вам, по вашим словам, дорога московская национальность? И какое право вы имеете обрусивать остзейцев? Вы скажете, в русском государстве больше русских, и все должно быть русское. Но по-вашему же количественное большинство не всегда означает качественное превосходство, и зачем же вы тогда так злобствуете про немцев-австрийцев и пруссаков за то, что они хотят онемечивать славян в немецких государствах? зачем призываете все строгости и жестокости наказаний против поляков, которые хотят ополячивать русских? Подобно тому как вы хотите обрусивать других, и другие хотят онемечивать, ополячивать, офранцуживать русских. Вы ратуете против того, что делаете сами; вы тоже хотите уничтожать чужие национальности, как делают ваши противники. – Из этого между прочим видно, как несправедливо ходячее мнение, будто славянофилы держатся принципа национальностей; нет, их принцип есть фанатическая нетерпимость к национальностям и безумная страсть – пожирать национальности.
Разобравши две указанные меры терпимости, «День» выводит из них такое заключение: «Нельзя не видеть во всем этом, – независимо от весьма понятного и сочувственного (sic) духа либерализма, – некоторого безразличного отношения к жизненнейшему принципу русской народности». Этот принцип есть православие, защитником которого выставляет себя «День». «В какое бы смущение, – говорит „День“, – пришел, например, Обервек, проповедующий и в Англии и в Германии, что русская народность и церковь сливаются вместе, что Россия зиждется на вере, – оттого и великою будет ее будущность, – в какое смущение пришел бы он, если бы знал, что все русские светские журналы, за исключением „Дня“, всеми мерами усиливаются доказать, что в России православие есть только количественная, а не качественная сила, что оно есть только религия большинства, что необходимо выделить совсем идею православия из идеи русской народности и положить в основание русской народности безразличное отношение к вере». Но еще в большее смущение пришел бы тот же Обервек, если бы узнал, что этот самый «День», так гордо выставляющий себя единственным светским представителем православия, сам не понимает православия, не понимает его основной идеи. В самом деле, ведь это очень курьезная вещь, что ни один славянофил не догадался до сих пор, что славянофильство в своих рассуждениях совсем неправославно; а между тем это так. Существенная идея православия состоит в том, что оно есть вера кафолическая, вселенская, предназначенная для всего мира, вера, так сказать, общечеловеческая.
И вдруг славянофилы утверждают, что православие есть вера национальная, что она свойственна одному только русскому народу, составляет отличительный индивидуальный признак русской народности, что она есть вера не вселенская, а народно-русская. Таким образом, называя православие элементом русской народности, славянофилы суживают обширную идею православия, как оно само себя понимает и представляет. Православие стремится к тому, чтобы все народы объединить одною верою, и верит, что это сбудется, что все народы примут правую веру и будут православны. По представлениям же славянофилов это невозможно, потому что православие есть особенность русской народности, которою русские отличаются от других народностей; следовательно, другие народы не могут сделаться православными, потому что по природе своей не могут превратиться в русских. Славянофилы, называя православие основным элементом русской народности, забывают, что есть и другие народы, даже не славянского племени, исповедующие православие, например, греки, и что уже по одному этому православие нельзя назвать признаком русской народности. Возьмем действительную, настоящую черту русской народности, например, русский язык; он составляет исключительную принадлежность только русского народа, и ею он отличается от всех других народов; другие народы никаким образом не могут принять русского языка, не свойственного их натуре; французский народ, оставаясь французским, никогда не будет говорить по-русски; грек, хоть он и православный, не принадлежит к русской народности и отличается от нее своим языком, и вы никогда не достигнете того, чтобы греческая нация приняла русский язык. Если и православие составляет такую же исключительную принадлежность одних русских, как русский язык, тогда его, конечно, можно называть элементом русской народности; в таком случае, значит, все другие народы осуждены на неправоверие, на невозможность обратиться к единой правой вере. Одно из двух: или православие есть черта русской народности, и в таком случае оно не есть вера кафолическая, вселенская; или же оно есть вера вселенская, и в таком случае его нельзя называть принадлежностью русской национальности. По истинному православном учению православие есть вера кафолическая, вселенская, долженствующая утвердить всю вселенную, как и говорится во всех символических книгах православной церкви, в «Чине Православия», в катехизисах и т. д.; ссылаемся в этом на всех отцов, учителей и ученых богословов православной церкви. Следовательно, славянофилы не понимают православия, называя его национальною верою и исключительною принадлежностью русской народности, как вообще они не понимают ничего из того, что они исповедуют и что на словах разделяют. Под именем свободы они проповедуют крайнее стеснение, под именем принципа национальностей – национальный фанатизм, под именем православия – религиозно-национальную исключительность и нетерпимость, под именем русского духа – возвращение к отжившей старине и обскурантизму.