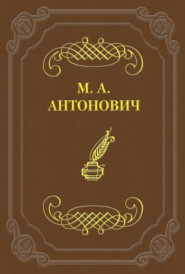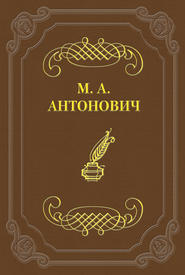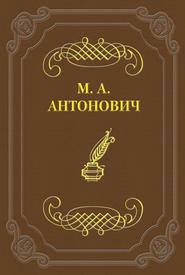По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С самоотверженной душой
Он, под огнем врагов опасных,
Для нас дорогу пролагал
И в Лету груды самовластных
Авторитетов побросал.
Исполнен прямоты и силы,
Бесстрашно шел он до могилы
Стезею правды и добра,
В его нещадном отрицанье
Виднелась новая пора,
Пора действительного знанья,
И, умирая, думал он,
Что путь его уже свершен,
Что молодые поколенья
По им открытому пути
Пойдут без страха и сомненья,
Чтоб к цели наконец дойти.
Но молодые поколенья,
Полны и страха и сомненья, —
Там, где он пал, на месте том
В смущенье рабском суетятся
И им проложенным путем
Умеют только любоваться.
Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире поднимал
И думал: «Только! Только этим
Мы можем помянуть его!
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!»
Пока мы трезвы, в нашей лени
Боимся мы великой тени…
Мы согласились уж давно,
Что мы…………[37 - Продолжение этого стихотворения (Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1939, т. 6, с. 684; СсД, т. 8, с. 622–623) таково:Что мы г…, и этим утешаемСебя лишь тем, что составляемВсе ж не вонючее г…]
Понятно, какое впечатление эта выходка должна была произвести на молодое поколение времени Белинского, сделавшееся теперь уже старшим поколением, на почтенных литераторов, учеников и друзей Белинского, и как они должны были отнестись к мальчишке самоновейшего поколения, который вздумал поучать и даже обличать и бранить их, и в то же время был чуть не первым лицом в редакции журнала, издаваемого их сверстниками, такими же, как и они, учениками и друзьями Белинского. Это, конечно, переполнило чашу их терпения, и они, вероятно, поставили решительный ультиматум редакторам «Современника»: выбирайте: или он, или мы, а вместе с ним мы не можем. Как ни старался Некрасов примирить враждующие стороны и предупредить разрыв, но ничего не мог добиться, и сам он, увлеченный личностью Добролюбова, стал на его сторону, чем окончательно оттолкнул от себя старых литературных друзей. Поэтому могло казаться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочтительностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора и главным виновником раскола между старым и молодым поколением литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это совсем неверно. Причины раскола лежали гораздо глубже и были гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был изысканно любезен и преданнически почтителен со старшими литераторами.
Дело в том, что около начала 60-х годов особенно резко выразилась и окончательно установилась дифференцировка как между литераторами, так и вообще между интеллигентными людьми. В прежние, патриархальные времена, времена аркадской невинности или наивности, литераторы и интеллигентные люди составляли почти одну только общую группу, или хоть и несколько, но весьма немного групп, объединявшихся слишком отвлеченною и широкою общностью понятий, интересов, стремлений и вкусов; согласие в общем и в отвлеченностих не нарушалось за разногласием в конкретных частностях и подробностях, особенно практических, которым даже не придавалось особенного значения. Человек сочиняет и печатается – значит, он наш брат литератор; с ним можно вести знакомство, приятельство и дружбу. Появляется человек интеллигентный; он хоть не литератор, но интересуется литературой и серьезными отвлеченными вопросами; он тоже наш брат и тоже может быть в нашей компании. И вот люди сходились, сближались, дружили, собирались вместе, разговаривали разговоры, вели академические беседы о важных отвлеченных вопросах, ни к чему не обязываясь, ничем не смущаясь, ничего не боясь и никого не остерегаясь, – словом, «не предвидя от сего никаких последствий»[38 - Цитата из популярной песни XIX в.:Ходит птичка веселоПо тропинке бедствий,Не предвидя от сегоНикаких последствий…], как невинные птички. Славянофилы и западники враждовали между собою только академически, и эта вражда не имела практического значения, практической жгучести. Да и они составляли только две подгруппы одной группы; противоположную группу составляли только, так сказать, уроды литературной семьи: Сенковский, Греч да Булгарин.
Но в начале 60-х годов в моральной и общественной атмосфере совершилось что-то такое, вследствие чего у литераторов и интеллигентных людей открылись глаза на многое, чего они прежде совсем не замечали, – подобно тому как первозданные люди, прежде не замечавшие, что они нагие, после грехопадения вдруг почувствовали и увидели свою наготу. Члены прежних больших приятельских групп увидели, что общие вопросы философии, этики и эстетики почему-то теряют первенствующее значение, а на место их выступают, даже, может быть, не гласно и не открыто, «проклятые» вопросы внутренней политики; ближе разглядели, что хотя все они одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, но представления их об этих улучшениях весьма различны. Приятели литераторы и интеллигенты вдруг почувствовали, что разговоры разговариваются не для одного времяпрепровождения, а для чего-то более серьезного, для того, чтобы из разговоров выходило какое-нибудь дело, что сочувствующий известным разговорам как будто принимает некоторое обязательство действовать согласно с этим разговором, что вообще разговоры могут иметь «последствия», так что от иных разговоров благоразумнее совсем устраниться. Одновременно с этим и в окружающей внешней, но властной среде произошла соответствующая перемена. В этой среде оживилось и усилилось опасение, что чтение может служить не только для развлечения и увеселения, но и для чего-нибудь более серьезного, и ей действительно показалось, как будто печать не только развлекает читателей, но и пытается поучать их стремиться к тому, чтобы из чтения выносили что-нибудь и вносили его в жизнь, чтобы они и поступали сообразно с тем, что они вычитали в печати. Это стремление, действительное или только подозреваемое, послужило поводом к тому, что за печатью стали наблюдать не только с одной технической, цензурной стороны, но и со стороны действия и влияния ее на читателей, что было неуловимо для цензуры, но уловимо для особо призванных людей, обладающих особым чутьем. И вот это-то чутье и решало репутацию и судьбу и отдельных литераторов и целых органов печати. И, таким образом, в понятиях указанной сферы печать разделена была на два сорта: на овец и козлищ; и один сорт признан был не имеющим права претендовать попасть под сень того, что называется покровительством печати или даже терпимостью ее; что одной части печати нужно покровительствовать и поощрять ее, а другой нет, – что, в свою очередь, имело влияние на дифференцировку как писателей, так и читателей.
Вследствие указанных перемен прежние большие и общие группы литераторов и интеллигентов распались, и из них образовались более частные, но более определенные и резкие группы, более требовательные и строгие относительно своих членов. И это распадение произошло совершенно естественно, без всяких личных враждебных поводов. Каждому пришлось пересмотреть свои отношения к окружающим, свои знакомства с новой точки зрения, более специальной и определенной. При этом не один мог прийти к такому заключению, что от некоторых сношений и знакомств лучше совсем отказаться, хотя от них нет никаких личных неприятностей, обид и оскорблений; лучше уйти от греха, чтобы не давать повода судить о себе по таким рискованным знакомствам.
Я имел случай видеть воочию, наглядно, разительный пример такого естественного раскола, такой резкой дифференцировки. Зимою конца 1860 и начала 1861 года у Чернышевского собиралось по вечерам многочисленное и очень разнообразное общество: старые и молодые литераторы, старые и молодые профессора университета, старые академики, профессора Военной академии, сделавшиеся впоследствии очень высокопоставленными лицами, офицеры генерального штаба, молодые и старые врачи и другие интеллигентные лица. Они все мирно и весело проводили время в приятных академических беседах и непринужденных разговорах; хорошо помню, что однажды был даже продолжительный разговор и спор о Краледворской рукописи[39 - Несомненно, предметом возникшего спора был вопрос о подлинности «Краледворской рукописи» – рукописного сборника древнечешских песен, якобы найденного В. Ганкой в 1817 г., в действительности же, как окончательно выяснилось в 80-е годы XIX в., оказавшегося подделкой, сделанной им из патриотических соображений.]. Сам хозяин беззаботно острил и шутил, хохотал и веселился, кажется, больше всех. Весною же и летом 1861 года все это отрезалось, как ножом. Почти вся компания отшатнулась от Чернышевского и от его тесной, интимной компании, и Добролюбов был тут решительно ни при чем; его даже в Петербурге не было в это время, и потому никак нельзя было сказать, что он отпугнул эту компанию. Зимою конца 1861 года к Чернышевскому в гости не являлись уже профессора – ни штатские, ни военные, не являлись ни старые литераторы, ни академики, ни офицеры генерального штаба, за исключением одного или двух, да и то польского происхождения. Обширный круг знакомых и приятелей Чернышевского сузился в тесный кружок, в котором были только молодые, начинающие литераторы, а из старых – только издатели «Современника» да несколько интересовавшихся литературой интеллигентных лиц.
Вспыхнула опасная, заразительная болезнь нигилизма, хотя кличка эта еще не был пущена в ход, и все принимали меры, чтобы предохранить себя от заражения этой болезнью или же чтобы противодействовать этой заразе и истребить ее.
Чернышевский в своих письмах к Добролюбову за границу много писал ему об этой «изумительной», как он выражался, перемене[40 - Речь идет о письме Чернышевского к Добролюбову от 3/15 мая 1861 г. и ответном письме Добролюбова от 12/24 июня 1861 г. (ПссЧ, т. 15, с. 428–429; СсД, т. 9, с. 473).], происшедшей в русском обществе в его отсутствие. Добролюбов тоже с изумлением признавался, что он не может понять и представить себе, что это за перемена, как она произошла и чем вызвана. Но, возвратившись из-за границы, он воочию увидел ее и понял.
Добролюбов пробыл за границей больше года; но здоровье его не только не поправилось, а еще ухудшилось. Он ехал туда, чтобы забыть все и отдохнуть душою. Но он ничего не мог забыть и не отдохнул. Он продолжал много работать и писать для «Современника», что, конечно, постоянно напоминало ему о русских делах и растравляло его раны. Большую часть времени за границей, конец 1860 года, и всю первую половину 1861 года, он провел в Италии и тоже в постоянной работе. Помимо журнальной работы, он изучал политические движения объединявшейся тогда Италии и написал около десяти печатных листов об итальянских делах[41 - Добролюбову принадлежит пять больших статей на «итальянские» темы: «Непостижимая странность», «Два графа», «Из Турина», «Отец Александр Гавацци и его проповеди», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (СсД, т. 7).]. Но итальянские дела не до такой степени увлекали его, чтобы из-за них он мог хоть на минуту забыть об отечественных делах, и в его статьях об итальянских сюжетах (особенно в статьях «Отец Александр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая странность») заметны даже довольно прозрачные кивания на домашние дела[42 - Первая половина статьи Добролюбова «Непостижимая странность» была напечатана в Совр. (1860, № 11) с рядом цензурных искажений. Ряд намеков и параллелей, допущенных в статье, вызвал запрещение второй части: Чернышевскому удалось поместить статью полностью в т. 4 посмертного издания сочинений (СПб., 1862).], и он как бы хотел сказать при отрадных явлениях: «Вот если бы и у нас так!», а при безотрадных: «Точь-в-точь как у нас!»
Его болезненное состояние, поддерживаемое нравственными муками недовольства и негодования, еще более ухудшалось вследствие материальных забот. Он должен был помогать своим сестрам и содержать в Петербурге двух младших братьев; его постоянно мучила мысль, что он не заработает столько денег, чтобы покрыть все расходы, и он должен будет прибегать к неприятным авансам из кассы «Современника». Под влиянием этого опасения он, с одной стороны, много и усиленно работал, а с другой стороны – соблюдал большую экономию и отказывал себе во многом, что для больного человека было, конечно, небезвредно. У меня сохранилась памятная книжечка Добролюбова[43 - Эта книжечка не сохранилась.], составлявшая его приходо-расходный журнал, веденный во время путешествия за границей. Оказывается, что он аккуратно, точно ответственный кассир, записывал все, даже мелочные, расходы, каждую истраченную копейку. В книжке есть, например, такие записи: «В Праге – бифштекс и черносецкое вино – 60 крейцеров; шарманщику – 2 крейц. В Теплице Lese-zimmer entree[44 - Вход в читальный зал (нем., фр.). – Ред.] – 15 крейц. В Интерлакене – нищей девочке – два раза по 10 сантимов; певицам на пароходе – 30 сант., девочке за ягоды – 10 сант.». Тут же записывался и приход, и через известные промежутки выводился остаток, как у настоящего, форменного кассира. Очевидно, это делалось с тою целью, чтобы во всякое время знать состояние своих финансов, чтобы как-нибудь не сделать перерасхода и не выйти из бюджета, – забота очень беспокойная, особенно для больного человека.
Говорят, – хотя я сам не слышал от него об этом, – будто в Италии у него начинался роман, будто он влюбился в какую-то итальянку, ухаживал за нею и даже думал жениться на ней. Но почему-то роман кончился ничем, итальянская сирена не удержала его в Италии; и он рвался домой, несмотря на убеждения друзей остаться за границей подольше и серьезно лечиться. На все их уговоры он отвечал одно: «У вас там черт знает что такое делается, какие безобразия творятся: вы же сами пишете о каких-то зловещих „переменах“. Нужно быть на месте и что-нибудь делать; нельзя же сидеть сложа руки и любоваться отечественными безобразиями из прекрасного далека». Кроме того, он рвался домой еще и потому, что считал необходимым сменить Чернышевского, на котором лежала вся тяжесть работы по «Современнику», и дать ему возможность хоть немного отдохнуть. И он возвратился через Одессу в июле 1861 года, побывав по дороге в Афинах. Здоровье его за границей не поправилось, а даже ухудшилось. Едва он вступил на русскую почву, как это сказалось недобрым симптомом: у него хлынула кровь горлом. Доктор советовал ему подольше отдохнуть в Одессе, ввиду предстоящего ему трудного путешествия на лошадях до Харькова. Но он не послушался доктора, помчался в Петербург и прибыл в августе. По приезде в Петербург он увидел и понял изумительную перемену, происшедшую в русском обществе. Друзья и знакомые встретили его нерадостными новостями. Цензура, и до того строгая, стала еще строже, и притом особенно была нетерпима в одном определенном направлении – именно против усмотренной в воздухе заразы нигилизма, хотя это слово еще не было произнесено и не стало лозунгом и боевым кличем, каким оно сделалось уже в следующем году[45 - В 1862 г. с выходом романа Тургенева «Отцы и дети» (Русский вестник, 1862, № 2) слово «нигилизм» приобрело исключительную популярность.]. Действию этой заразы были приписываемы даже такие вещи, как пожар Апраксина рынка с окружающими зданиями[46 - Пожар произошел в мае 1862 г., т. е. уже после смерти Добролюбова.], студенческие волнения и всякие другие волнения. Постоянная мучительница Добролюбова – русская самодовольная печать – приготовила для него новую муку; она с своим обличительным отделом тоже выступила в поход против нигилистической язвы, которою, по ее мнению, был заражен и Добролюбов и весь «Современник», и во главе этого похода стояли со знаменем и с лозунгом заслуженные литераторы, поклонники и друзья Белинского, которых он и прежде сильно недолюбливал. В близких к Добролюбову кругах был переполох и царствовало уныние. Распространялись самые нерадостные вести: запрещение статей, смена снисходительных цензоров, заподозривания, обыски, аресты, ссылки и т. п. Его лихорадочное негодование повысилось еще на несколько градусов, и, таким образом, его в два кнута истязали две болезни: моральная и физическая. Но он крепился, бодрился и работал не покладая рук. По его возвращении Чернышевский немедленно уехал в Саратов к отцу, и на Добролюбова легла вся тяжесть журнальной работы, причем тоже раздражали его и бесили – конечно, против воли и против всякого желания – сотрудники «Современника», в том числе и я грешный.
Однажды, придя к нему, я застал его за чтением корректуры моей рецензии о логике Гегеля, к которой я пристегнул и логику какого-то Поморцева[47 - Имеется в виду сводная рецензия на вышедшие в 1884 г. три книги по логике: Гегеля, П. А. Коробцева и А. И. Поморцева (Совр. 1861, № 8).]. Едва поздоровавшись, он накинулся на меня и распушил в пух и прах. «Ужасно хорошую рецензию вы написали, – заговорил он, – и как многое провели в ней?! Не могли вы найти что-нибудь получше и поучительнее?! Даже логика Гегеля сама по себе не представляет ничего поучительного, а вы еще приплели какую-то дрянь Поморцева, которого трогать не стоило… А кроме того, фразерство-то какое, – и он прочитал несколько фраз из рецензии, – чистейшая риторика!» Переконфуженный и смущенный, я сказал: «Так я ее поправлю и сокращу; а то лучше всего ее совсем бросить». Эти слова еще больше рассердили его, и он резко заметил: «Мы вовсе не так богаты, чтобы бросать и швырять готовые рецензии; у нас печатается многое, что еще хуже этого». И рецензия действительно была напечатана без всяких изменений и сокращений. Из слов Добролюбова я вывел приятное для моего самолюбия, но неприятное вообще заключение, что ему портили кровь не одни только мои рецензии, но и статьи других сотрудников, не вполне его удовлетворявшие. Литературный горизонт омрачался все более и более, общественная атмосфера становилась все удушливее и губительно действовала на болезненную чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова. Носились мрачные, зловещие слухи, часто неверные или по крайней мере преждевременные. Уверяли, например, положительно, что Чернышевский уже не возвратится из Саратова в С.-Петербург, что ему запрещен будет въезд в столицу или даже он будет арестован. Этот слух доконал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, задыхающимся голосом он в отчаянье воскликнул: «Что же это такое? До чего мы дожили? Что нам делать? И ниоткуда нам нельзя ожидать ни помощи, ни защиты, а сами мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его; он слег в постель, чтобы уже не встать с нее, хотя и тут еще порывался писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его и не усиливать его негодования, окружающие его скрыли от него довольно настойчивый слух такого же рода, какой ходил относительно Чернышевского, будто бы только благодаря безнадежному положению он оставлен был в покое.
Умер Добролюбов 17 ноября 1861 года.
Так угас этот блестящий литературный светоч, так, сгорел огнем физических и нравственных страданий этот; постоянный мученик во всю свою короткую жизнь; умирая, он с полным правом мог сказать своему другу:
Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен.
.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою…
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею!
Друг пошел тою же стезею, и кончил так же, сгорел тем же, но медленным и потому еще более мучительным, убийственным огнем.
<1901>
notes
Примечания
1
Из стихотворения Добролюбова «Памяти отца» (СсД, т. 8, с, 60).
2
Данная статья Добролюбова была напечатана в «Современнике» (1858, № 9; СсД, т. 3, с. 244–254).
3
Это письмо неизвестно.
4
Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утверждение соответствует действительности, сказать трудно.
5
«Сущность религии» и «Сущность христианства» (меж.). – Ред.
6
Эти строки воспоминаний Антоновича почти в точности восходят к строкам письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. (СсД, т. 9, с. 248).
Он, под огнем врагов опасных,
Для нас дорогу пролагал
И в Лету груды самовластных
Авторитетов побросал.
Исполнен прямоты и силы,
Бесстрашно шел он до могилы
Стезею правды и добра,
В его нещадном отрицанье
Виднелась новая пора,
Пора действительного знанья,
И, умирая, думал он,
Что путь его уже свершен,
Что молодые поколенья
По им открытому пути
Пойдут без страха и сомненья,
Чтоб к цели наконец дойти.
Но молодые поколенья,
Полны и страха и сомненья, —
Там, где он пал, на месте том
В смущенье рабском суетятся
И им проложенным путем
Умеют только любоваться.
Не раз я в честь его бокал
На пьяном пире поднимал
И думал: «Только! Только этим
Мы можем помянуть его!
Лишь пошлым тостом мы ответим
На мысли светлые его!»
Пока мы трезвы, в нашей лени
Боимся мы великой тени…
Мы согласились уж давно,
Что мы…………[37 - Продолжение этого стихотворения (Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1939, т. 6, с. 684; СсД, т. 8, с. 622–623) таково:Что мы г…, и этим утешаемСебя лишь тем, что составляемВсе ж не вонючее г…]
Понятно, какое впечатление эта выходка должна была произвести на молодое поколение времени Белинского, сделавшееся теперь уже старшим поколением, на почтенных литераторов, учеников и друзей Белинского, и как они должны были отнестись к мальчишке самоновейшего поколения, который вздумал поучать и даже обличать и бранить их, и в то же время был чуть не первым лицом в редакции журнала, издаваемого их сверстниками, такими же, как и они, учениками и друзьями Белинского. Это, конечно, переполнило чашу их терпения, и они, вероятно, поставили решительный ультиматум редакторам «Современника»: выбирайте: или он, или мы, а вместе с ним мы не можем. Как ни старался Некрасов примирить враждующие стороны и предупредить разрыв, но ничего не мог добиться, и сам он, увлеченный личностью Добролюбова, стал на его сторону, чем окончательно оттолкнул от себя старых литературных друзей. Поэтому могло казаться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочтительностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора и главным виновником раскола между старым и молодым поколением литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это совсем неверно. Причины раскола лежали гораздо глубже и были гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был изысканно любезен и преданнически почтителен со старшими литераторами.
Дело в том, что около начала 60-х годов особенно резко выразилась и окончательно установилась дифференцировка как между литераторами, так и вообще между интеллигентными людьми. В прежние, патриархальные времена, времена аркадской невинности или наивности, литераторы и интеллигентные люди составляли почти одну только общую группу, или хоть и несколько, но весьма немного групп, объединявшихся слишком отвлеченною и широкою общностью понятий, интересов, стремлений и вкусов; согласие в общем и в отвлеченностих не нарушалось за разногласием в конкретных частностях и подробностях, особенно практических, которым даже не придавалось особенного значения. Человек сочиняет и печатается – значит, он наш брат литератор; с ним можно вести знакомство, приятельство и дружбу. Появляется человек интеллигентный; он хоть не литератор, но интересуется литературой и серьезными отвлеченными вопросами; он тоже наш брат и тоже может быть в нашей компании. И вот люди сходились, сближались, дружили, собирались вместе, разговаривали разговоры, вели академические беседы о важных отвлеченных вопросах, ни к чему не обязываясь, ничем не смущаясь, ничего не боясь и никого не остерегаясь, – словом, «не предвидя от сего никаких последствий»[38 - Цитата из популярной песни XIX в.:Ходит птичка веселоПо тропинке бедствий,Не предвидя от сегоНикаких последствий…], как невинные птички. Славянофилы и западники враждовали между собою только академически, и эта вражда не имела практического значения, практической жгучести. Да и они составляли только две подгруппы одной группы; противоположную группу составляли только, так сказать, уроды литературной семьи: Сенковский, Греч да Булгарин.
Но в начале 60-х годов в моральной и общественной атмосфере совершилось что-то такое, вследствие чего у литераторов и интеллигентных людей открылись глаза на многое, чего они прежде совсем не замечали, – подобно тому как первозданные люди, прежде не замечавшие, что они нагие, после грехопадения вдруг почувствовали и увидели свою наготу. Члены прежних больших приятельских групп увидели, что общие вопросы философии, этики и эстетики почему-то теряют первенствующее значение, а на место их выступают, даже, может быть, не гласно и не открыто, «проклятые» вопросы внутренней политики; ближе разглядели, что хотя все они одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, но представления их об этих улучшениях весьма различны. Приятели литераторы и интеллигенты вдруг почувствовали, что разговоры разговариваются не для одного времяпрепровождения, а для чего-то более серьезного, для того, чтобы из разговоров выходило какое-нибудь дело, что сочувствующий известным разговорам как будто принимает некоторое обязательство действовать согласно с этим разговором, что вообще разговоры могут иметь «последствия», так что от иных разговоров благоразумнее совсем устраниться. Одновременно с этим и в окружающей внешней, но властной среде произошла соответствующая перемена. В этой среде оживилось и усилилось опасение, что чтение может служить не только для развлечения и увеселения, но и для чего-нибудь более серьезного, и ей действительно показалось, как будто печать не только развлекает читателей, но и пытается поучать их стремиться к тому, чтобы из чтения выносили что-нибудь и вносили его в жизнь, чтобы они и поступали сообразно с тем, что они вычитали в печати. Это стремление, действительное или только подозреваемое, послужило поводом к тому, что за печатью стали наблюдать не только с одной технической, цензурной стороны, но и со стороны действия и влияния ее на читателей, что было неуловимо для цензуры, но уловимо для особо призванных людей, обладающих особым чутьем. И вот это-то чутье и решало репутацию и судьбу и отдельных литераторов и целых органов печати. И, таким образом, в понятиях указанной сферы печать разделена была на два сорта: на овец и козлищ; и один сорт признан был не имеющим права претендовать попасть под сень того, что называется покровительством печати или даже терпимостью ее; что одной части печати нужно покровительствовать и поощрять ее, а другой нет, – что, в свою очередь, имело влияние на дифференцировку как писателей, так и читателей.
Вследствие указанных перемен прежние большие и общие группы литераторов и интеллигентов распались, и из них образовались более частные, но более определенные и резкие группы, более требовательные и строгие относительно своих членов. И это распадение произошло совершенно естественно, без всяких личных враждебных поводов. Каждому пришлось пересмотреть свои отношения к окружающим, свои знакомства с новой точки зрения, более специальной и определенной. При этом не один мог прийти к такому заключению, что от некоторых сношений и знакомств лучше совсем отказаться, хотя от них нет никаких личных неприятностей, обид и оскорблений; лучше уйти от греха, чтобы не давать повода судить о себе по таким рискованным знакомствам.
Я имел случай видеть воочию, наглядно, разительный пример такого естественного раскола, такой резкой дифференцировки. Зимою конца 1860 и начала 1861 года у Чернышевского собиралось по вечерам многочисленное и очень разнообразное общество: старые и молодые литераторы, старые и молодые профессора университета, старые академики, профессора Военной академии, сделавшиеся впоследствии очень высокопоставленными лицами, офицеры генерального штаба, молодые и старые врачи и другие интеллигентные лица. Они все мирно и весело проводили время в приятных академических беседах и непринужденных разговорах; хорошо помню, что однажды был даже продолжительный разговор и спор о Краледворской рукописи[39 - Несомненно, предметом возникшего спора был вопрос о подлинности «Краледворской рукописи» – рукописного сборника древнечешских песен, якобы найденного В. Ганкой в 1817 г., в действительности же, как окончательно выяснилось в 80-е годы XIX в., оказавшегося подделкой, сделанной им из патриотических соображений.]. Сам хозяин беззаботно острил и шутил, хохотал и веселился, кажется, больше всех. Весною же и летом 1861 года все это отрезалось, как ножом. Почти вся компания отшатнулась от Чернышевского и от его тесной, интимной компании, и Добролюбов был тут решительно ни при чем; его даже в Петербурге не было в это время, и потому никак нельзя было сказать, что он отпугнул эту компанию. Зимою конца 1861 года к Чернышевскому в гости не являлись уже профессора – ни штатские, ни военные, не являлись ни старые литераторы, ни академики, ни офицеры генерального штаба, за исключением одного или двух, да и то польского происхождения. Обширный круг знакомых и приятелей Чернышевского сузился в тесный кружок, в котором были только молодые, начинающие литераторы, а из старых – только издатели «Современника» да несколько интересовавшихся литературой интеллигентных лиц.
Вспыхнула опасная, заразительная болезнь нигилизма, хотя кличка эта еще не был пущена в ход, и все принимали меры, чтобы предохранить себя от заражения этой болезнью или же чтобы противодействовать этой заразе и истребить ее.
Чернышевский в своих письмах к Добролюбову за границу много писал ему об этой «изумительной», как он выражался, перемене[40 - Речь идет о письме Чернышевского к Добролюбову от 3/15 мая 1861 г. и ответном письме Добролюбова от 12/24 июня 1861 г. (ПссЧ, т. 15, с. 428–429; СсД, т. 9, с. 473).], происшедшей в русском обществе в его отсутствие. Добролюбов тоже с изумлением признавался, что он не может понять и представить себе, что это за перемена, как она произошла и чем вызвана. Но, возвратившись из-за границы, он воочию увидел ее и понял.
Добролюбов пробыл за границей больше года; но здоровье его не только не поправилось, а еще ухудшилось. Он ехал туда, чтобы забыть все и отдохнуть душою. Но он ничего не мог забыть и не отдохнул. Он продолжал много работать и писать для «Современника», что, конечно, постоянно напоминало ему о русских делах и растравляло его раны. Большую часть времени за границей, конец 1860 года, и всю первую половину 1861 года, он провел в Италии и тоже в постоянной работе. Помимо журнальной работы, он изучал политические движения объединявшейся тогда Италии и написал около десяти печатных листов об итальянских делах[41 - Добролюбову принадлежит пять больших статей на «итальянские» темы: «Непостижимая странность», «Два графа», «Из Турина», «Отец Александр Гавацци и его проповеди», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (СсД, т. 7).]. Но итальянские дела не до такой степени увлекали его, чтобы из-за них он мог хоть на минуту забыть об отечественных делах, и в его статьях об итальянских сюжетах (особенно в статьях «Отец Александр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая странность») заметны даже довольно прозрачные кивания на домашние дела[42 - Первая половина статьи Добролюбова «Непостижимая странность» была напечатана в Совр. (1860, № 11) с рядом цензурных искажений. Ряд намеков и параллелей, допущенных в статье, вызвал запрещение второй части: Чернышевскому удалось поместить статью полностью в т. 4 посмертного издания сочинений (СПб., 1862).], и он как бы хотел сказать при отрадных явлениях: «Вот если бы и у нас так!», а при безотрадных: «Точь-в-точь как у нас!»
Его болезненное состояние, поддерживаемое нравственными муками недовольства и негодования, еще более ухудшалось вследствие материальных забот. Он должен был помогать своим сестрам и содержать в Петербурге двух младших братьев; его постоянно мучила мысль, что он не заработает столько денег, чтобы покрыть все расходы, и он должен будет прибегать к неприятным авансам из кассы «Современника». Под влиянием этого опасения он, с одной стороны, много и усиленно работал, а с другой стороны – соблюдал большую экономию и отказывал себе во многом, что для больного человека было, конечно, небезвредно. У меня сохранилась памятная книжечка Добролюбова[43 - Эта книжечка не сохранилась.], составлявшая его приходо-расходный журнал, веденный во время путешествия за границей. Оказывается, что он аккуратно, точно ответственный кассир, записывал все, даже мелочные, расходы, каждую истраченную копейку. В книжке есть, например, такие записи: «В Праге – бифштекс и черносецкое вино – 60 крейцеров; шарманщику – 2 крейц. В Теплице Lese-zimmer entree[44 - Вход в читальный зал (нем., фр.). – Ред.] – 15 крейц. В Интерлакене – нищей девочке – два раза по 10 сантимов; певицам на пароходе – 30 сант., девочке за ягоды – 10 сант.». Тут же записывался и приход, и через известные промежутки выводился остаток, как у настоящего, форменного кассира. Очевидно, это делалось с тою целью, чтобы во всякое время знать состояние своих финансов, чтобы как-нибудь не сделать перерасхода и не выйти из бюджета, – забота очень беспокойная, особенно для больного человека.
Говорят, – хотя я сам не слышал от него об этом, – будто в Италии у него начинался роман, будто он влюбился в какую-то итальянку, ухаживал за нею и даже думал жениться на ней. Но почему-то роман кончился ничем, итальянская сирена не удержала его в Италии; и он рвался домой, несмотря на убеждения друзей остаться за границей подольше и серьезно лечиться. На все их уговоры он отвечал одно: «У вас там черт знает что такое делается, какие безобразия творятся: вы же сами пишете о каких-то зловещих „переменах“. Нужно быть на месте и что-нибудь делать; нельзя же сидеть сложа руки и любоваться отечественными безобразиями из прекрасного далека». Кроме того, он рвался домой еще и потому, что считал необходимым сменить Чернышевского, на котором лежала вся тяжесть работы по «Современнику», и дать ему возможность хоть немного отдохнуть. И он возвратился через Одессу в июле 1861 года, побывав по дороге в Афинах. Здоровье его за границей не поправилось, а даже ухудшилось. Едва он вступил на русскую почву, как это сказалось недобрым симптомом: у него хлынула кровь горлом. Доктор советовал ему подольше отдохнуть в Одессе, ввиду предстоящего ему трудного путешествия на лошадях до Харькова. Но он не послушался доктора, помчался в Петербург и прибыл в августе. По приезде в Петербург он увидел и понял изумительную перемену, происшедшую в русском обществе. Друзья и знакомые встретили его нерадостными новостями. Цензура, и до того строгая, стала еще строже, и притом особенно была нетерпима в одном определенном направлении – именно против усмотренной в воздухе заразы нигилизма, хотя это слово еще не было произнесено и не стало лозунгом и боевым кличем, каким оно сделалось уже в следующем году[45 - В 1862 г. с выходом романа Тургенева «Отцы и дети» (Русский вестник, 1862, № 2) слово «нигилизм» приобрело исключительную популярность.]. Действию этой заразы были приписываемы даже такие вещи, как пожар Апраксина рынка с окружающими зданиями[46 - Пожар произошел в мае 1862 г., т. е. уже после смерти Добролюбова.], студенческие волнения и всякие другие волнения. Постоянная мучительница Добролюбова – русская самодовольная печать – приготовила для него новую муку; она с своим обличительным отделом тоже выступила в поход против нигилистической язвы, которою, по ее мнению, был заражен и Добролюбов и весь «Современник», и во главе этого похода стояли со знаменем и с лозунгом заслуженные литераторы, поклонники и друзья Белинского, которых он и прежде сильно недолюбливал. В близких к Добролюбову кругах был переполох и царствовало уныние. Распространялись самые нерадостные вести: запрещение статей, смена снисходительных цензоров, заподозривания, обыски, аресты, ссылки и т. п. Его лихорадочное негодование повысилось еще на несколько градусов, и, таким образом, его в два кнута истязали две болезни: моральная и физическая. Но он крепился, бодрился и работал не покладая рук. По его возвращении Чернышевский немедленно уехал в Саратов к отцу, и на Добролюбова легла вся тяжесть журнальной работы, причем тоже раздражали его и бесили – конечно, против воли и против всякого желания – сотрудники «Современника», в том числе и я грешный.
Однажды, придя к нему, я застал его за чтением корректуры моей рецензии о логике Гегеля, к которой я пристегнул и логику какого-то Поморцева[47 - Имеется в виду сводная рецензия на вышедшие в 1884 г. три книги по логике: Гегеля, П. А. Коробцева и А. И. Поморцева (Совр. 1861, № 8).]. Едва поздоровавшись, он накинулся на меня и распушил в пух и прах. «Ужасно хорошую рецензию вы написали, – заговорил он, – и как многое провели в ней?! Не могли вы найти что-нибудь получше и поучительнее?! Даже логика Гегеля сама по себе не представляет ничего поучительного, а вы еще приплели какую-то дрянь Поморцева, которого трогать не стоило… А кроме того, фразерство-то какое, – и он прочитал несколько фраз из рецензии, – чистейшая риторика!» Переконфуженный и смущенный, я сказал: «Так я ее поправлю и сокращу; а то лучше всего ее совсем бросить». Эти слова еще больше рассердили его, и он резко заметил: «Мы вовсе не так богаты, чтобы бросать и швырять готовые рецензии; у нас печатается многое, что еще хуже этого». И рецензия действительно была напечатана без всяких изменений и сокращений. Из слов Добролюбова я вывел приятное для моего самолюбия, но неприятное вообще заключение, что ему портили кровь не одни только мои рецензии, но и статьи других сотрудников, не вполне его удовлетворявшие. Литературный горизонт омрачался все более и более, общественная атмосфера становилась все удушливее и губительно действовала на болезненную чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова. Носились мрачные, зловещие слухи, часто неверные или по крайней мере преждевременные. Уверяли, например, положительно, что Чернышевский уже не возвратится из Саратова в С.-Петербург, что ему запрещен будет въезд в столицу или даже он будет арестован. Этот слух доконал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, задыхающимся голосом он в отчаянье воскликнул: «Что же это такое? До чего мы дожили? Что нам делать? И ниоткуда нам нельзя ожидать ни помощи, ни защиты, а сами мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его; он слег в постель, чтобы уже не встать с нее, хотя и тут еще порывался писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его и не усиливать его негодования, окружающие его скрыли от него довольно настойчивый слух такого же рода, какой ходил относительно Чернышевского, будто бы только благодаря безнадежному положению он оставлен был в покое.
Умер Добролюбов 17 ноября 1861 года.
Так угас этот блестящий литературный светоч, так, сгорел огнем физических и нравственных страданий этот; постоянный мученик во всю свою короткую жизнь; умирая, он с полным правом мог сказать своему другу:
Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен.
.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою…
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею!
Друг пошел тою же стезею, и кончил так же, сгорел тем же, но медленным и потому еще более мучительным, убийственным огнем.
<1901>
notes
Примечания
1
Из стихотворения Добролюбова «Памяти отца» (СсД, т. 8, с, 60).
2
Данная статья Добролюбова была напечатана в «Современнике» (1858, № 9; СсД, т. 3, с. 244–254).
3
Это письмо неизвестно.
4
Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утверждение соответствует действительности, сказать трудно.
5
«Сущность религии» и «Сущность христианства» (меж.). – Ред.
6
Эти строки воспоминаний Антоновича почти в точности восходят к строкам письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. (СсД, т. 9, с. 248).