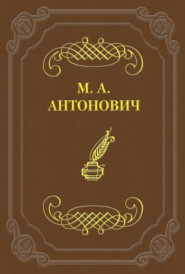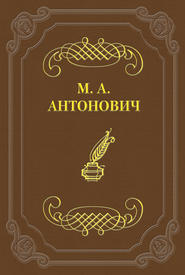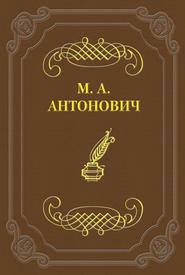По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове
Максим Алексеевич Антонович
«В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать…»
Максим Алексеевич Антонович
Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове
И делал я благое дело
Среди царюющего зла[1 - Из стихотворения Добролюбова «Памяти отца» (СсД, т. 8, с, 60).].
Добролюбов
В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать.
Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие на издание сатирических листков, которые натуживались забавлять и смешить читателей. Во главе их и как образец для подражания стоял «Весельчак», в котором подвизались пресловутый барон Брамбеус (Сенковский) и Львов, автор нашумевшей тогда драмы «Предубеждение». Этот журнал приобрел себе известность только следующим четверостишием-эпиграммой на Панаева, писавшего в «Современнике» фельетоны под рубрикой «Заметки Нового поэта»:
Близ селенья речка,
А на речке мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост.
Автором четверостишия подписался «Новый поэт», который просил не смешивать его с Новым поэтом в «Современнике». На это Панаев отвечал таким тоже четверостишием:
Близ селения кабак,
В кабаке же «Весельчак»
Бранит всех без исключенья,
Не пришедших в умиленье
От его «Предубежденья».
Вслед за «Весельчаком» появилось множество подобных увеселительных листков, и периодических и разовых: «Смех», «Смех под хреном», «Смех и горе» и т. п. Некоторые из этих листков даже не назначали себе цены, а печатали: «Что пожалуете бедному издателю», – что хотите, то и опустите в кружку продавца листка. Довольно полный список этих листков приведен в статье Добролюбова «Уличные листки»[2 - Данная статья Добролюбова была напечатана в «Современнике» (1858, № 9; СсД, т. 3, с. 244–254).]. Как будто нарочно и для контраста, в прессе той сферы, в которой я учился и вращался, господствовало противоположное, плаксивое настроение: здесь и в устных проповедях и в писаниях были постоянные разглагольствования об оскудении в последнее время веры и упадке нравственности и о том, что нужно непрестанно каяться во грехах, сокрушаться и плакать.
Вот я и вздумал изобразить эти два противоположные течения, эти два типа смеющихся и плачущих: сделал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы между ними, привел множество выдержек об одинаковых сюжетах, но с противоположным содержанием. Одни говорили: постоянно нужно смеяться, а другие проповедовали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая статья, листа на три печатных. Со страхом и трепетом я понес ее в контору «Современника» для передачи в редакцию. В лихорадке и с замиранием сердца, которое, вероятно, испытывал всякий пробовавший выступать в печать, я ждал рокового для меня ответа, от которого зависела моя судьба. И вот ответ пришел. Не читая его, я прежде всего бросился на подпись; оказалось, ответ подписан Добролюбовым, и я так и замер от опасений и страха; такой неумолимо строгий судья, такой беспощадный критик, – наверное, погибло мое первое писательское создание! Мои опасения оправдались: Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, которыми можно было бы воспользоваться в статье совсем другого типа и характера, чем моя, и в заключение приглашал меня явиться к нему и назначал место и время свидания[3 - Это письмо неизвестно.]. Все пропало, думал я в отчаянии: моя проба оказалась неудачной, и меня приглашают только затем, чтобы возвратить статью. Но, с другой стороны, мелькал и некоторый луч надежды, так как все-таки хоть некоторые места в статье признаны были достойными печати, хотя, может быть, и это написано только для моего утешения.
В лихорадочном волнении и колебании между страхом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым добродушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех печатных листов, что ее могут осилить и вполне понять и оценить только читатели моего круга, академисты и семинаристы, а обыкновенным, заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна, но некоторыми местами статьи можно было бы воспользоваться[4 - Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утверждение соответствует действительности, сказать трудно.], и если я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им совершенно другую обстановку. Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях, о том, к чему я чувствую особенное влечение, и какая отрасль знания мне нравится и более известна. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати. «Только бросьте, – говорил он, – ваших плачущих и смеющихся, а берите какие-нибудь более серьезные и более общие темы и пишите о них, и я уверен, что следующие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае, – сказал он в заключение нашего свидания, – непременно приходите ко мне вечером в такие-то дни». Темы для статьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил неупустительно в назначенные дни. Он вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических и практических и на темы из самых разнообразных областей знания и жизни. Очевидно, что эти разговоры были для меня чем-то вроде экзамена.
У Добролюбова была небольшая библиотека, но состояла из самых избранных книг. Узнав от меня, что я питаю некоторую слабость к философии, а между тем мало знаком с крайней левой гегелианства и знаю Фейербаха только понаслышке, он дал мне его сочинения и настоятельно рекомендовал проштудировать его два сочинения; «Das Wesen der Religion» и «Das Wesen des Christentums»[5 - «Сущность религии» и «Сущность христианства» (меж.). – Ред.]. «А знаете ли, – сказал он при этом, – кто меня учил философии, да и не одной только философии? Н. Г. Чернышевский, – как будто для довершения полной параллели и аналогии с тем, что у нас бывало прежде: Герцен и Бакунин учили философии Белинского, Белинский учил уму-разуму Некрасова и Панаева, а Грановский был учителем Забелина. А меня вон кто учил»[6 - Эти строки воспоминаний Антоновича почти в точности восходят к строкам письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. (СсД, т. 9, с. 248).].
Давал Добролюбов мне, между прочим, сочинение Прудона, «Systeme des contradictions economiques»[7 - «Система экономических противоречий» (фр.). – Ред.]. Когда я, возвращая ему книгу, пожаловался, что в ней нет никаких положительных выводов, что в ней представлены две противоположные системы воззрений, все pro и contra[8 - За и против (лат.). – Ред.], но вовсе не указано, как их примирить и что из них вытекает, то он сказал, что это-то и хорошо, что догматичность везде нехороша, что нужно самому думать и самому решать для себя, на какую из противоположностей следует становиться и какие выводы делать из них.
Темы для второй пробной статьи, несмотря на все мое желание и на все усилия, я так-таки и не мог найти. Наконец Добролюбов сжалился надо мною и сам дал мне темы. Он предложил мне для разбора две книги о русском расколе[9 - Имеется в виду рецензия «Что иногда открывается в либеральных фразах!» (Русский раскоп старообрядства <…> А. Щапова. Казань, 1859), начальные страницы которой написаны Добролюбовым (Совр., 1859, № 9; СсД, т. 5, с. 286–288). Рецензия «Материалы для истории простонародных суеверий (Об антихристе… соч. Никольского. 1859. Le raskol <…>)» появилась в № 6 за 1860 г.], одну Щапова, а другую на французском языке неизвестного автора. Написанный мною разбор книги Щапова он признал сносным: нашел только, что этот разбор не имеет начала или начинается ex abrupto[10 - Неожиданно (лат.). – Ред.], и потому сам написал к нему начало, или вступление. Разбор же французского сочинения он признал довольно удовлетворительным. И этот разбор был напечатан в следующем, 1860 году, без всяких редакторских изменений и дополнений. И таким образом, мой экзамен на сотрудничество в «Современнике», на скромную роль его библиографа, сошел благополучно. После этого Добролюбов в разговорах со мною часто высказывал свои взгляды на библиографию в общем журнале и на те требования, которым она должна удовлетворять. По его мнению, журнал должен брать для библиографии только такие сочинения, которые или не согласны, или же согласны с его направлением; в первом случае он имеет возможность опровергать враждебные мысли, подрывать, осмеивать, унижать их, во втором же случае ему предоставляется предлог повторить свои собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или усилить их. Сочинения же индифферентные в смысле направления, хотя бы серьезные и интересные сами по себе, не должны попадать в библиографию общего журнала; им место в специальных библиографических журналах. Все эти мысли я принимал, конечно, как указания и наставления для меня лично, хотя они высказывались безлично и в общей форме.
С течением времени и мало-помалу у меня установились довольно близкие отношения к Добролюбову, но я, кажется, не имею права назвать их дружескими. Он был со мною совсем запросто, и я бывал у него как дома; он высказывался при мне непринужденно, вполне откровенно, без той сдержанности, которая невольно является при разговорах с людьми, неблизкими между собою; иногда он посвящал меня в свои задушевные мысли и планы. И чем больше я его узнавал, тем сильнее поражала и увлекала меня эта необыкновенная личность. Я не считаю нужным говорить здесь о прекрасных, но обыкновенных и, так сказать, заурядных качествах, свойственных всякому порядочному и более или менее выдающемуся человеку, каковы, например, гуманность, великодушие, преданность своему делу и своим людям, самоотвержение, бескорыстие, готовность помочь всякому. Этими качествами Добролюбов был одарен в высшей степени. Но что особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми, что составляло его характерную отличительную особенность, что возбуждало во мне удивление, почти даже благоговение к нему, – это страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что заграждало путь к осуществлению его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществление. Каждая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось неудержимо осуществиться на деле, что при данных условиях было невозможно; и эта невозможность служила для него источником нервных страданий и нравственных мук. И потому этот человек во все короткое время своей литературной деятельности был истинным страдальцем и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства, негодования, а иногда даже и отчаяния. В письме к одному из своих школьных товарищей он писал: «До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны создать эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что, будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой и Ваней, да решись эти люди и согласись между собою окончательно, – деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов»[11 - Цитата из письма к М. И. Шемановскому от 24 мая 1859 г. (СсД, т. 9, с. 357–358).].
В другом письме тому же товарищу он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем, – но и умрем все-таки не даром»[12 - Цитата из письма от 6 августа 1859 г. (там же, с. 378).]. И он действительно принялся за создание этой деятельности и за эту деятельность.
Его глубоко, до болезненности, возмущала окружавшая его действительность, понятая и прочувствованная им; он видел, как властно царствует зло в житейском темном царстве. И он в душе, в мыслях, в мечтах порывался бороться с этим царствующим злом, искал и придумывал возможные, действительные и быстрые способы изменить или хоть несколько улучшить и освежить мрачную действительность каким-нибудь энергическим и геройским усилием, одним согласным напором. «Постепенно», «потихоньку да полегоньку» – были противны его энергической, горячей юношеской натуре. Но ужасная действительность грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями, и это повергало его в муку и отчаяние. Человек рвется на дело, а ему сковывают руки. Но энергия и страстность не могут остановиться на отчаянии; нужно действовать во что бы то ни стало, работать и бороться могучим орудием печатного слова.
И Добролюбов мечтал произносить и печатать горячие речи и горячие призывы, как делал в Италии прославленный им о. Александро Гавацци[13 - Имеется в виду статья Добролюбова «Отец Александр Гавацци и его проповеди»; она не была пропущена цензурой и впервые появилась в 1862 г. в т. 4 посмертного издания Добролюбова (СсД, т, 7, с. 93–125).], громить или возбуждать свою публику, электризовать ее, двигать на дело. Но и здесь жестокая действительность сковывала ему язык, не давала возможности высказать и десятой доли волновавших его идей и чувств – что еще больше усиливало его недовольство и муки. Точно как будто сбывалось пророчество его о самом себе, высказанное им в письме к семинарскому товарищу, учившемуся в духовной академии: «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мною мое всегдашнее, неотъемлемое утешение – что я трудился и жил не без пользы»[14 - Цитата из письма к В. В. Лаврскому от 3 августа 1856 г. (СсД, т. 9, с. 254).].
Печать, по идеалу Добролюбова, должна была будить общество, звать его на дело, на борьбу. А фактическая фигурировавшая перед Добролюбовым печать делала как раз противоположное: она убаюкивала читателей, наводила на них сладкую дремоту самодовольства и самоуслаждения. И вот новый источник лихорадочного негодования для Добролюбова. Печатные статьи его достаточно показывают, как возмущала и терзала его хвастливая и обольстительная фраза: «В настоящее время, время прогресса, когда мы созрели, когда процветает гласность и действует бич обличительной литературы» и т. д. Но нужно было послушать его на словах, чтобы увидеть, до какой степени была ненавистна ему эта нелепая фраза и как она его бесила. «На каждом шагу, – постоянно твердил он, – мы видим возмутительные факты, всюду вокруг нас совершаются безобразные и вопиющие явления, а печать точно не видит и не замечает этого и во все горло прославляет и славословит „настоящее время“. Им плюют в глаза, а они говорят, что это божья роса». На самом деле литераторы видели и замечали эти факты и явления. Как только, бывало, они соберутся где-нибудь, почти каждый из них расскажет о каком-нибудь вопиющем факте или безобразном явлении, и все пожалеют о том, что этого нельзя напечатать и что следовало бы послать это в Лондон Герцену напечатать в «Колоколе». Но все это рассказывается и выслушивается спокойно, хладнокровно и благодушно, и рассказчики и слушатели на другой же день продолжают свои гимны «настоящему времени», процветанию гласности и обличительной литературы. Добролюбова это бесило, просто приводило в ярость, и он удивлялся, как это можно так спокойно и благодушно относиться к подобным фактам; и его мучило двойное негодование – и на самые факты и на печать. Все сообщаемые ему этого рода факты он для чего-то аккуратно заносил в свою записную книжку[15 - Эта книжка не сохранилась.] (неизвестно, сохранилась ли она после погрома, разразившегося над литературным душеприказчиком Добролюбова[16 - Имеется в виду Чернышевский.]), для того ли, чтобы постоянно помнить о них, как персидский царь хотел постоянно помнить об ненавистных ему афинянах, или для того, чтобы иметь побольше аргументов для развенчания и унижения «настоящего времени».
Добролюбова тем более бесило такое поведение печати, что он никак не мог себе объяснить его и не мог решить – идиотство ли это, ограниченная нетребовательность и глупое самоуслаждение, или что-нибудь еще хуже и мерзее. Ему самому казалось яснее солнца, что печать обличает только пустяки и мелочи, только мелких сошек и что все обличаемое ею есть только поверхностная пена, источник которой лежал гораздо глубже, что это небольшие побеги от более солидных стволов и корней, на которые и следовало устремить все внимание, и он даже не допускал возможности, чтоб и другие, да еще литераторы, этого не видели и не понимали. Они, может быть, видели и понимали, а все-таки услаждались своими обличениями, считали себя либералами и с гордостью воображали, что они своими обличениями совершают гражданский подвиг.
Добролюбов не дожил до того времени, когда совершилась полная эволюция этих поверхностных обличителей и либералов и они вылились в законченную форму мракобесов и литературных сыщиков и когда для него объяснилась бы их прежняя либеральная слепота и поверхностная обличительность.
С досадой и горечью, а иногда даже с бранью, Добролюбов постоянно повторял, что уж если кому непростительно славословить «настоящее время» с его гласностью, так именно литераторам, даже либеральным обличителям, которые на собственной спине должны были испытать всю прелесть этого времени. Действительно, цензурный гнет в середине 50-х годов значительно ослабел против прежнего времени, только ослабел, не больше, но продолжал существовать и давал себя чувствовать очень сильно и больно и с течением времени все сильнее и больнее. Наиболее серьезные области государственной и общественной жизни, как и в предшествующее время, тоже были недоступны и запретны для печати; например, несмотря даже на то, что уже подготовлялась в секрете крестьянская реформа, все-таки нельзя было ничего печатать о крепостном праве и против него. Цензура даже по части дозволенных предметов была строга, придирчива, мелочна; и разговоры между литераторами всегда перемешивались рассказами цензурных анекдотов. «А знаете, – говорил один, – нам запретили дурно отзываться о Наполеоне III и его правительстве; наш цензор расходился до того, что из приготовленной книжки журнала вымарал около пятнадцати листов – почти целую половину книжки». – «А у нас, – подхватывал другой, – цензор вымарал невиннейшую обличительную заметку, где место действия было обозначено только иксом». – «Это еще что, – говорил третий, – а вот нас притянули к ответственности и распекли за напечатание объявления „О старце и ухе“» и т. д.
Литераторы слушали эти анекдоты и благодушно хохотали, точно это были какие-нибудь мелкие, совершенно безобидные и заурядные случаи повседневной жизни. Один только Добролюбов слушал эти анекдоты с мрачным видом и сердито ворчал: «Вот это доказывает, что у нас процветает гласность», и потом заносил эти анекдоты в записную книжку. Нечего уже и говорить о том, какая лихорадка трясла Добролюбова, когда цензурные операции проделывались над его собственными статьями. Положение самих цензоров было тоже ужасное, обоюдоострое. Если какой-нибудь цензор, под влиянием разговоров о прогрессе и гласности, осмелится действовать менее строго и более снисходительно, то на него сыплются выговоры, замечания и угрозы отставкой. И это была не пустая угроза – она нередко приводилась в исполнение, и в пользу одного из таких смелых отставленных цензоров[17 - Вероятно, речь идет о цензоре Н. Ф. фон Kpyse, уволенном за либерализм в начале 1858 г.] даже Катков хотел устроить всенародную подписку. Если цензор провинится на одном издании, то его переводят на другое, более благонадежное, а на его место назначают другого, более строгого, собаку. И вот в литературных кружках – и ликования и вопли; одни говорят: «Ах, какое счастье – нам дали цензором X», а другие голосят: «Нам посадили цензором собаку Z, не знаем, что и делать, совсем пропали!» Все это действительно было комично, и литераторы действительно хохотали по поводу таких перетасовок цензоров. Один только Добролюбов не видел тут комизма; а может быть, и видел, но только обращал внимание на другую, далеко не комическую сторону дела и обыкновенно говаривал: «Значит, судьба и благоденствие издания зависят не от цензуры вообще и не от цензурного устава, а от личности и от свойств цензора. Вот так прогресс!»
Особенно стеснительно и тяжело для печати было то, что, кроме цензур общей и духовной, существовало еще много цензур специальных: военная, морская, финансовая, министерств юстиции и внутренних дел, театральная и т. д. Почти каждое ведомство имело свою цензуру, охранявшую его интересы в печати. Несчастные статьи, прошедшие через все эти мытарства, возвращались, конечно, в самом растерзанном и изуродованном виде, не говоря уже о бесконечных проволочках и трате времени. Для «Современника» была набрана для помещения в фельетон небольшая заметка, в которой описывалось какое-то морское торжество в Кронштадте. Общий цензор, кое-что повымаравши, направил заметку к военному цензору, который, как само собой разумеется, должен был направить ее к морскому цензору. Этот последний против фразы в заметке: «Матросы разбежались по веревочным лестницам» – положил такую резолюцию: «На военных судах нет веревочных лестниц, а есть ванты, – автор не понимает, о чем пишет». Но бывали мытарства еще более продолжительные. Для «Современника» же была набрана статья «Каторжники»[18 - Автором этой статьи был Г. З. Елисеев. Корректура ее хранится в ИРЛИ, ф. 628, оп. 2, № 96.]. Цензор направил ее в Сибирский комитет (тоже специальная цензура), который признал, что она касается министерства внутренних дел и юстиции, и, сверх того, подлежит духовной цензуре. Предпоследние два мытарства статья прошла сравнительно благополучно, а духовный цензор вымарал все духовное. Затем статья пошла к цензорам военному и финансовому. Но этим мытарства статьи не кончились. Общий цензор внес статью на рассмотрение цензурного комитета, который, в свою очередь, представил ее в главное управление цензуры. И вот несчастный Добролюбов, видевший и знавший десятки и сотни подобных анекдотов, должен был ежедневно читать и переваривать панегирики «настоящему времени» и процветанию гласности.
Но судьба готовила Добролюбову еще более чувствительный неожиданный удар, поразивший его в это его больное и наболевшее место еще сильнее и больнее, чем самохвальство и самоуслаждение внутренней легальной печати. Этот удар нанесла ему заграничная нелегальная печать. По поводу двух статей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» Герцен напечатал в «Колоколе» громовую и резкую заметку, почему-то озаглавив ее по-английски: «Very dangerous!!!»[19 - «Очень опасно!!!» – Ред.], и, чтобы заметка обратила на себя особенное внимание, против ее заглавия был нарисован указующий перст. О содержании и тоне заметки могут дать понятие следующие выдержки из нее: «Чистым литераторам, людям звуков и формы (это Добролюбову-то!) надоело гражданское направление нашей литературы; их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало Обломовых и антологических стихотворений… Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над обличительной литературой, над неудачными опытами гласности… Столичные растения, вы вытянулись между Грязной и Мойкой; за городской чертой для вас чужие края… Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею. Может, они об этом и не думают, – пусть подумают теперь!» Если бы сильный и неожиданный удар грома разразился над головою Добролюбова, то он так не поразил бы и не потряс его, как эта заметка. Он готов был лопнуть от досады и огорчения, от злости и негодования. Этот удивительный пассаж был необъясним и непостижим. «Славословит нашу гласность, – говорил возмущенный Добролюбов, – и превозносит обличительную литературу – кто же? тот самый „Колокол“, который почти весь наполняется цензурными анекдотами и к которому все прибегают только по недостатку гласности!» Да, судьба была жестока с Добролюбовым и мучила его всевозможными способами, и внутреннею и заграничного печатью!
Другим выражением пустого самодовольства и ограниченного самоуслаждения тогдашней печати была, в глазах Добролюбова, ее заносчивость перед иностранцами, ее беспощадная строгость, а иногда и презрительное отношение к иностранным делам. «В политических обозрениях, в иностранной политике, – говаривал Добролюбов, – русская печать ужасно либеральна и даже радикальна и чрезвычайно требовательна». Действительно, ни одно иностранное государство своей политикой не могло угодить русской печати и заслужить ее одобрение; напротив, она направо и налево сыпала обвинениями и швыряла камни осуждения в европейские дела, как самый компетентный судья, руководствующийся высокими государственными идеалами, совершенно забывая святое правило, что камни осуждения может бросать только тот, кто сам безгрешен. Сколько, например, доставалось тогда от нашей печати Наполеону III! Привыкнув видеть у себя гласность, она возмущалась при виде безгласной французской прессы, подавленной Наполеоном. Поэтому русская печать сочувствовала даже соучастникам Орсини в покушении на Наполеона, убежавшего в Англию, и радовалась оправданию их английскими присяжными. Печать так яростно нападала на Наполеона, что даже цензура находила, что это уже слишком, и сдерживала ее обличительную ярость, направленную на французские дела. Не говоря уже о Германии и Австрии, особенно доставалось от нашей печати коварному Альбиону, хотя одно время в печати проглядывало даже англоманство[20 - Журнал «Русский вестник» под редакцией М. Н. Каткова до начала 1860-х годов горячо пропагандировал идеи английского парламентаризма.]. От инквизиторских взоров нашей печати не могли укрыться ни одна ошибка, ни одна стеснительная мера, ни одно некорректное действие Пальмерстонов или Росселей. Особенно сильно пушила печать Англию за сипаев, совершенно так же, как теперь пушат ее за буров[21 - В 1857–1859 гг. Англия с необычайной жестокостью подавила в своей колонии Индии восстание сипаев – солдат, состоящих на службе Ост-Индской компании.]. Наша печать, привыкшая к миролюбию, гуманности, мягкости, снисходительности и всепрощению, до глубины души возмущалась жестокостью и кровожадностью, с какими англичане усиливались подавить восстание сипаев в Индии. Счастливая, свободная и потому великодушная печать глубоко сочувствовала порабощаемым сипаям, совершенно так же, как нынешняя печать сочувствует свободолюбивым и благочестивым бурам.
Такая строгость и такое сочувствие восстаниям, восставшим, по мнению Добролюбова, были вовсе не к лицу нашей печати, и ее судейская роль относительно иностранных дел бесила его не меньше, чем славословия «настоящему времени» и его гласности. Он возмущался карикатурами Степанова на англичан и французов и по поводу их написал на Степанова две эпиграммы[22 - Обе эпиграммы, а не одна, как считал Антонович, сохранились (см. СсД, т. 8, с. 27–28).], из которых, к сожалению, сохранилась только одна. В печати он издевался и глумился над стихотворениями Розенгейма[23 - Имеется в виду рецензия на стихи либерального поэта М. П. Розенгейма (Совр., 1858, № 11; СсД, т. 7, с. 281–306).], содержавшими в себе квинтэссенцию национального самохвальства и заносчивости перед иностранцами. У Розенгейма все это было возведено в перл создания. Запад – это «хилый старик, истративший силы в корчах козней и интриг»; иностранцы – это «фабриканты мятежей», тогда как «Русь – защита тронов, алтарей, правой власти, страх и ужас мятежей, слабейшего отряда, безверию упрек, безначалию урок» и т. д. Но печатные издевательства Добролюбова и пародии на стихотворения Розенгейма были только слабым выражением того негодования, той злости, какие возбуждало в нем это национальное бахвальство, свойственное не одному Розенгейму, но почти всей печати. Дать волю этому негодованию излиться в серьезной статье со всеми его мотивами и аргументами Добролюбов не признавал возможным. За англичан же он вступился[24 - Речь идет о статье «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» (см. об этом СсД, т. 2, с. 7–46, 506–507).], и в серьезной статье, и желал убедить русских публицистов, что судить строго англичан и вообще все иностранные дела им вовсе не к лицу, непристойно, и что их приговоры, при всей их неуместности, даже несправедливы. В своей статье, которая, к сожалению, не попала в собрание его сочинений, «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» он писал следующее: «Теперь, даже среди ожесточения, какое возбуждено в общественном мнении англичан неистовствами сипаев, раздаются уже в парламенте и на митингах голоса против злоупотреблений английского управления в Индии; в лондонских газетах печатаются статьи и письма, полные упреков Англии и сожаления об участи туземцев. В этой смелости, беспощадности, с которой во всякое время могут быть раскрыты правительственные и общественные недостатки, заключается величайшая сила Англии». Этому последнему обстоятельству тогдашние публицисты не придавали никакого значения, а, напротив, пользовались им как готовым и легким орудием против самих же англичан: вот, мол, сами англичане видят и сознаются, как они нехороши! К сожалению, для нынешних публицистов указанное обстоятельство служит только оружием против англичан же и не наводит их ни на какие другие размышления и соображения, чего никак нельзя было ожидать по крайней мере от тех из них, которые, по-видимому, относятся к Добролюбову с уважением и которым поэтому не мешало бы принимать к сведению его указания и размышления. Постоянно занятый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей, раскрыть им глаза, а главное – пробудить в них энергию, Добролюбов находил, что серьезные журнальные статьи для этого недостаточны, что в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезные рассуждения, и что в шуточной или сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме, и что, наконец, насмешкой и издевательствами можно будет вернее убить ненавистную и самодовольную фразу о настоящем времени. Поэтому Добролюбов убедил Некрасова предпринять издание сатирического журнала вроде «Искры», которою он был не совсем доволен. Все было готово: был найден вполне благонамеренный редактор, зять Некрасова[25 - Имеется в виду муж сестры Некрасова подполковник Г. С. Буткевич. Как видно из неизданного архивного дела (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 4863) его рекомендовали: отставной генерал-майор А. Н. Ераков, подполковник генерального штаба В. М. Аничков и полковник генерального штаба А. И. Астафьев.], заслуженный воин, потерявший ногу на поле сражения, были добыты требуемые рекомендации четырех генералов. Но все было напрасно: разрешения на издание не было дано. Нечего и говорить о том, как подействовало на Добролюбова это обстоятельство и насколько усилило лихорадку его недовольства вообще и в частности его негодования на фразу о процветании гласности. Чтобы поправить неудачу и взамен особого сатирического журнала, решено было завести особый отдел в «Современнике» – «Свисток».
Для серьезных отделов «Современника» Добролюбов очень много и усиленно работал; а с основанием «Свистка» для него прибавилась новая работа, за которую он принялся с его обыкновенною горячностью и нетерпением. В «Свистке» он часто смеялся, подобно Гоголю, сквозь невидимые слезы, свистал, например, по поводу таких вещей, как опыты отучения людей от пищи, то есть мор рабочих голодом, сечение гимназистов, акционерные общества, учрежденные Кокоревым и Бернардаки, и т. п. Все эти усиленные труды в соединении с постоянно мучившей его моральной лихорадкой подорвали его здоровье, и друзья его настоятельно советовали, просто требовали, чтобы он отправился за границу, серьезно отдохнул бы там и полечился, оставив на время всякие литературные занятия. Уступая их настояниям, он, хотя и очень неохотно, отправился за границу в конце мая 1860 года, через Берлин; побывав в Дрездене, Лейпциге и Праге, он проехал в Швейцарию, оттуда отправился в Диепп, для лечения морскими купаниями, и затем снова возвратился в Швейцарию. Из Швейцарии проехал в Париж, и, пробыв в нем несколько времени, отправился в Италию, где и пробыл все время до возвращения в Россию. Уже находясь за границей, он все-таки помнил и заботился обо мне и о моих делах. В одном из писем к своему дяде[26 - Это письмо от 30 июня (12 июля) 1860 г. (СсД, т. 9, с. 423–424).], который ведал все его дела и на попечении которого он оставил двух своих младших братьев, он, точно предугадывая, что я посовещусь явиться в редакцию «Современника» с требованием денег за мою напечатанную статью, поручил дяде справиться у казначея «Современника», получил ли я деньги за статью, и если не получил, то чтоб их мне послали, причем указал мой адрес. В том же письме, по поводу моей второй статьи о расколе, встретившей цензурные затруднения, он писал: «Если же статью его не напечатали, то скажите, чтобы попробовали теперь. Она недурна, и цензура, вероятно, после смерти Григория[27 - Имеется в виду митрополит Новгородский и Петербургский Григорий (Б. П. Постников; 1784–1860), оказывавший большое давление на цензурный комитет.] стала сговорчивее». Дядя исполнил поручение, и вторая статья была напечатана; но денег и на этот раз мне не прислали, а пойти за ними я совестился.
Уезжая за границу, Добролюбов поручил меня вниманию Чернышевского, но не познакомил меня с ним лично. Все лето я провел вне Петербурга и возвратился только зимою и узнал, что Чернышевский давно разыскивает меня. Я явился к нему в первый раз в конце 1860 года. Увидав меня, он по первому же абцугу[28 - Abzug (нем.) – здесь в значении «сразу». – Ред.] даже, кажется, не поздоровавшись, напустился на меня с упреками, почему я так долго не являлся к нему, почему я не доставил для «Современника» ни одной статьи и даже не давал знать, где я нахожусь, и не являлся за деньгами за статьи. Затем он вдруг переменил тон, развеселился, стал хохотать и совершенно по-приятельски стал расспрашивать о моих личных делах и занятиях и т. д. и в конце нашей довольно длинной беседы настоятельно требовал, чтобы я непременно писал для «Современника», и когда я стал отговариваться, что не знаю, о чем писать, то он опять рассердился и с досадою сказал: «По вашим напечатанным статьям я воображал, что вы бойкий и ловкий молодой человек, что у вас уже готово несколько статей; а вы, оказывается, ничего не сделали и даже не сумели найти сюжета для статьи. Добролюбов говорил мне, что вы чувствуете слабость к философии и знакомы даже с современной философией; ну вот и прекрасно, пишите о философии, пишите обо всем, о чем хотите: берите и разбирайте какие угодно книги, только пишите!»
Я действительно стал писать для «Современника» и статьи и рецензии и потому имел почти постоянные сношения с Чернышевским, который находил мои статьи удовлетворительными и считал меня уже постоянным сотрудником «Современника». Сблизившись таким образом с Чернышевским, я увидел, до какой степени он ценил и высоко ставил Добролюбова и как глубоко любил и уважал его как товарища, как друга и даже почти чуть не как учителя. В его глазах Добролюбов был недосягаемым идеалом человека и писателя. Чернышевский восхищался Добролюбовым, удивлялся ему, чуть не благоговел перед ним. В редкие минуты откровенности и задушевности у Чернышевского было любимой темой разговора – сравнивать себя с Добролюбовым и унижать себя перед ним, конечно, совершенно несправедливо. Очень интересно то, что и Добролюбов точно так же относился к Чернышевскому, тоже постоянно сравнивал себя с ним не в свою пользу, ставил его во всем выше себя, считал его своим учителем и просветителем. Мимоходом следует заметить здесь, что в этих взаимных оценках Добролюбов был правее и ближе к истине, чем Чернышевский, который был убежден в противном и совершенно искренно ставил Добролюбова выше себя. «Что мы? – говорил Чернышевский. – Мы долго блуждали, прежде чем попали на настоящую дорогу, просветление наше совершилось медленно и постепенно, и чего оно нам стоило? А вот он прямо со студенческой скамьи встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным, гармоническим мировоззрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретическими и практическими и сразу стал на настоящую, прямую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырского института совершенным человеком, как Минерва из головы Юпитера. Он уже в самой ранней юности начертал свой вполне определенный жизненный план и ясно наметил цель своей жизни и деятельности; это мне известно доподлинно». – «И какой у Добролюбова верный литературный взгляд, – удивлялся, бывало, Чернышевский, – какое тонкое чутье, какая проницательность; ее не обманет ничто, и ничто не скроется от нее. Вот я прочитаю что-нибудь, и мне оно кажется хорошо, естественно, искренно и правдиво; но прочитает это же самое Добролюбов и находит, что оно нехорошо, и неискренно, и неправдиво. Я потом посмотрю, и действительно сам увижу, что я ошибался, а он прав».
Почти буквально то же самое говорил Добролюбов о Чернышевском. «Вот, – говаривал он, – у кого зоркий, проницательный взгляд – у Чернышевского: он сразу охватит все и проникнет до самой сокровенной глубины». Особенно горячо и убежденно он повторял это после появления в «Колоколе» заметки «Very dangerous!!!». «Да, – говорил он, – Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог, я – близорукий зритель!»
Нужно заметить здесь, что Добролюбов был восторженным поклонником Герцена и его крайне удивляло и даже неприятно поражало то, что Чернышевский, отдавая полную справедливость Герцену, отзывался все-таки о нем крайне сдержанно и даже холодно. Для успокоения Добролюбова Чернышевский превозносил литературный талант Герцена, называя его блестящим. Но для Добролюбова этого было мало в прежнее время. Когда же ему был сделан неожиданный реприманд в виде «Very dangerous!!!», он охладел к Герцену и тем больше удивлялся проницательности Чернышевского. К слову сказать, Чернышевский имел случай видеться с Герценом за границей, и они, кажется, остались не совсем довольны друг другом.
Особенно же высоко ценил Чернышевский в Добролюбове – и на этот раз уже абсолютно справедливо – удивительную силу убеждения и страстную, непоколебимую решимость действовать всегда и везде согласно с этими убеждениями, не стесняясь ничем и невзирая ни на что. «Вот, – говаривал он, – настоящий человек дела, жаждущий дела. У него полная гармония между мыслью, словом и делом. В его глазах самые прекрасные намерения не имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, если они не стремятся проявиться в соответствующих действиях. И как он во всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствованно и страстно. Вот я, – осуждал себя Чернышевский в самых задушевных интимных и потому вполне искренних беседах, – не могу быть таким серьезным; к фактам и явлениям, которые Добролюбова возмущают и выводят из себя, я отношусь добродушно, даже шуточно и, во всяком случае, они возмущают меня менее, чем его». И действительно, в обыкновенных случаях и в разговорах с не близкими людьми Чернышевский держал большею частью шуточный тон, острил, смеялся, хохотал, даже если предмет разговора составляли и серьезные вещи. Но это была только обманчивая наружность, потому что, как это знали и видели люди, близкие к нему, он все воспринимал и чувствовал, может быть, даже и глубже и живее, и его негодование в глубине его души было еще энергичнее, чем у Добролюбова.
Далее, Чернышевский удивлялся в Добролюбове неумолимой строгости, неподкупности и нелицеприятию в сношениях со всеми, кто бы они ни были, знакомые ли, приятели, люди высокопоставленные в литературе, авторитеты или начинающие новички; со всеми он был одинаков и всем, нимало не стесняясь, резал в глаза правду-матку. «Я, – осуждал себя Чернышевский, – не могу быть строгим с людьми знакомыми, близкими или с людьми авторитетными, даже вообще с людьми добродушными и, что называется, милыми. У меня язык не поворачивается сказать им в лицо неприятную правду, духу не хватает. Я никак не могу отказать в статье для „Атенея“[29 - Статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» была напечатана в «Атенее» (1858, № 18), скорее всего по тактическим соображениям, чтобы не наносить удара Тургеневу, ближайшему сотруднику «Современника» в близком ему журнале.] милым людям, просившим меня о ней, и не мог сказать, что я не сочувствую их журналу, – за что Добролюбов издевался и хохотал надо мной. И, кроме того, милым и авторитетным людям я готов многое прощать и многое извинять в них. Вот Добролюбов, у него нет на лице зрения, он за дело всякого обругает в глаза без малейшего стеснения и церемонии и уж никому ничего не простит: к малейшему неправильному поступку отнесется с самым строгим осуждением». Относительно Добролюбова это было вполне справедливо; но и сам Чернышевский во многих случаях поступал еще строже и нелицеприятнее Добролюбова. В пример беспристрастия и нелицеприятия Добролюбова Чернышевский указывал на такой случай: «Посмотрите, какую штуку он отмочил. Он знаком и даже приятель с милейшим Алексеем Дмитричем (Галаховым)[30 - Добролюбов был знаком с А. Д. Галаховым, но не находился с ним в лично близких отношениях, как считает Антонович.] и со всем его семейством: он ходит к ним в гости, и они его прекрасно принимают; он у них – свой человек; Алексей Дмитрич оказывал даже ему разные услуги, – и что же? Алексей Дмитрич дал маху: в напечатанном протоколе заседания Литературного фонда написал бессмысленную фразу: „Если в каждом образованном человеке значительно развито чувство благородной деликатности, запрещающей не только не напрашиваться на пособие, но и стыдливо принимать пособие добровольное, то оно должно быть еще сильнее развито в человеке, посвятившем себя литературе и науке“». Добролюбов подхватил эту фразу в «Свистке»[31 - Приводимые Антоновичем строки содержатся в примечании Добролюбова к «Дружеской переписке Москвы с Петербургом» в № 4 «Свистка» (Совр., 1860, № 3; СсД, т. 7, с. 424, примеч. 10).], прикинулся ничего не знающим и с ехидством восклицал: «Да где же Покровский со своим памятным листом[32 - Имеется в виду книжна И. И. Покровского «Памятный листок ошибок в русском языке» (М., 1852).] ошибок в русском языке? Где А. Д. Галахов, который так громил, бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, не умеющих писать по-русски со смыслом!» А ведь это сам же Галахов и написал. И как у Добролюбова хватило духу так зло посмеяться над знакомым, да еще таким милым и приятным человеком, и как он будет после этого смотреть в глаза ему и его семейству. У меня бы духу не хватило на это, а ему это нипочем, он и в ус себе не дует. И дело-то неважное, сболтнул человек глупость, а Добролюбов возмущается, негодует на то, что русские литераторы, так сказать законодатели русского языка, не умеют правильно выражаться по-русски.
В глазах Чернышевского еще более резким выражением строгости и нелицеприятия Добролюбова было его отношение к корифеям и ветеранам литературы. «Вы бы посмотрели, – говорил он, – как Добролюбов третирует их: обращается с ними сдержанно, холодно, даже сурово, а иногда просто запанибрата, не говоря уже об отсутствии почтительного и предупредительного внимания. К милейшему, мягчайшему и утонченнейшему Тургеневу или к добрейшему Кавелину он относится небрежно и невнимательно, точно к какому-нибудь безвестному литературному новичку, он делает им замечания, даже подтрунивает над ними, а в печати подпускает шпильки, он не стесняется и не смущается перед ними и режет им свое. А с другими, столь же почтенными и заслуженными литераторами, обращается еще дерзновеннее».
Следует заметить при этом в скобках, что, несмотря на то, что Чернышевский при личных сношениях с литературными корифеями и авторитетами был с ними внимателен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его еще больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в то время приписывали такую фразу: «Добролюбов – просто змея, а Чернышевский – ядовитая, гремучая змея». Но то совершенная правда, что Добролюбов очень не жаловал некоторых литературных корифеев, и так называемых людей 40-х годов, и вообще всех и менее известных литераторов, либеральничавших только языком и пером; он безжалостно осуждал и порицал их и всегда говорил о них раздраженным тоном. В них видел, так сказать, квинтэссенцию того, что он ненавидел больше всего на свете, что считал позором и преступлением со стороны всякого интеллигентного и мыслящего человека, а тем более литератора: прекрасные мысли, прекрасные намерения, прекрасные слова – и никакого дела или даже непрекрасные дела. «И что это за люди, – с досадою говаривал он, – если мысли и намерения, лежащие у них в голове или постоянно болтающиеся у них на языке, не оказывают на их деятельность никакого влияния, не проявляются в их действиях? Это бездушные механизмы, в которые вставлены красивые и блестящие погремушки; это деревянные шкапы, в которых лежат книги с прекрасным содержанием, которое не имеет никакого отношения к шкапам и не оказывает на них никакого действия. Нет, настоящее, действительное убеждение и намерение всегда бывает сильно и деятельно, оно одушевляет и охватывает всего человека, действует на его чувства, движет его волю и служит пружиною, управляющею всеми его действиями. Осуществление на деле действительного убеждения есть естественная, так сказать, инстинктивная потребность, удовлетворить которую убежденный человек стремится с такою же настойчивостью, с какою он удовлетворяет всякую другую естественную потребность. Прекрасные, но бездельные, а только платонические намерения столь же неестественны и бесплодны, как платоническая любовь.
Вот, например, Кокорев, какими он одушевлен прекрасными намерениями и какие либеральные речи произносит, – это тоже убеждения? Будучи откупщиком, громит откупа, будучи учредителем акционерных обществ, громит акционеров за то, что они не строго смотрят за действиями своих учредителей. Вот это полное согласие между словом и делом. А то есть стихотворцы, которые сочиняют и печатают высоконравственные стихотворения, воспевают красоту добродетелей и тленность земных благ и в то же самое время занимаются ростовщичеством[33 - Речь идет о поэте А. Бешенцове, разоблаченном Добролюбовым в № 2 «Свистка» (Совр. 1859, № 4; СсД, т. 7, с. 346–347, 586–587).] и предаются грязному разврату. Это тоже стихотворное выражение убеждения?!» Эти мысли были любимой темой, которую Добролюбов постоянно развивал на словах и в печати.
Поэтому вполне естественно, что Добролюбов не мог питать уважения к прекраснодушным людям 40-х годов и похожим на них литераторам других годов и его времени. Особенно сердило его то, что подобные люди были высокого мнения о себе, гордились своею бездельною, платоническою любовью к людям, к общему благу и фарисейски презрительно смотрели на толпу, не выражающую даже на словах такой любви. Я уже рассказывал печатно[34 - См. статьи Антоновича: «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» (Слово, 1878, № 2, с. 82–83) и «Воспоминания по поводу чествования В. Г. Белинского» (Русская мысль, 1808, № 12, с. 1–12).] один случай, очень характерный для Добролюбова и очень типичный для его отношения к этим людям. Литераторы и другие почитатели и сверстники Белинского устраивали ежегодно в честь его обеды, на которых прекрасные тосты и прочувственные речи лились такой же рекой, как и прекрасные вина. На один из этих обедов приглашен был и Добролюбов как сотрудник «Современника»… Чернышевский в душе, вероятно, подтрунивал над этими обедами, над их участниками, над их речами и тостами в честь Белинского, наверное, шутил, острил и хохотал. Добролюбова же картина этих обедов возмущала и бесила; он не мог равнодушно слышать прекрасных, но платонических восхвалений Белинского и внимал им с лихорадочным негодованием, которое нашло себе такой исход: он написал на этот обед сатиру и разослал ее выдающимся участникам обеда. Подобную же проделку устроил Добролюбов, еще будучи студентом Педагогического института. Возмущенный празднованием юбилея Греча, он написал тоже сатиру на этот юбилей и стал ее распространять повсюду. Она дошла до институтского начальства, и только полная откровенность и показное раскаяние избавили его от начальственной грозы и беды. К сожалению, этой сатиры нет у меня[35 - Имеется в виду сатирическое стихотворение «На 50-летний юбилей… Греча» (СсД, т. 8, с. 7–11, 607–608). См. с. 54–55 наст. изд.]. Но сатира на празднование в честь Белинского есть. Я уже приводил ее в печати в сокращении[36 - В журнале «Слово», 1878, № 2, с. 82–83.]. И здесь я не привожу последних двух с половиною строк. В конце стихотворения Добролюбов до того разгорячился, что уже не мог найти достаточно сильных слов для выражения своего негодования, и употребил грубое, бранное выражение, – он же не предназначал своего стихотворения для печати.
На тост в память Белинского, 6 июня 1858 года
И мертвый жив он между нами,
И плачет горькими слезами
О поколенье молодом,
Святую веру потерявшем,
Холодном, черством и немом,
Перед борьбой позорно павшем…
Он грозно шел на грозный бой,
Максим Алексеевич Антонович
«В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать…»
Максим Алексеевич Антонович
Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове
И делал я благое дело
Среди царюющего зла[1 - Из стихотворения Добролюбова «Памяти отца» (СсД, т. 8, с, 60).].
Добролюбов
В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать.
Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие на издание сатирических листков, которые натуживались забавлять и смешить читателей. Во главе их и как образец для подражания стоял «Весельчак», в котором подвизались пресловутый барон Брамбеус (Сенковский) и Львов, автор нашумевшей тогда драмы «Предубеждение». Этот журнал приобрел себе известность только следующим четверостишием-эпиграммой на Панаева, писавшего в «Современнике» фельетоны под рубрикой «Заметки Нового поэта»:
Близ селенья речка,
А на речке мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост.
Автором четверостишия подписался «Новый поэт», который просил не смешивать его с Новым поэтом в «Современнике». На это Панаев отвечал таким тоже четверостишием:
Близ селения кабак,
В кабаке же «Весельчак»
Бранит всех без исключенья,
Не пришедших в умиленье
От его «Предубежденья».
Вслед за «Весельчаком» появилось множество подобных увеселительных листков, и периодических и разовых: «Смех», «Смех под хреном», «Смех и горе» и т. п. Некоторые из этих листков даже не назначали себе цены, а печатали: «Что пожалуете бедному издателю», – что хотите, то и опустите в кружку продавца листка. Довольно полный список этих листков приведен в статье Добролюбова «Уличные листки»[2 - Данная статья Добролюбова была напечатана в «Современнике» (1858, № 9; СсД, т. 3, с. 244–254).]. Как будто нарочно и для контраста, в прессе той сферы, в которой я учился и вращался, господствовало противоположное, плаксивое настроение: здесь и в устных проповедях и в писаниях были постоянные разглагольствования об оскудении в последнее время веры и упадке нравственности и о том, что нужно непрестанно каяться во грехах, сокрушаться и плакать.
Вот я и вздумал изобразить эти два противоположные течения, эти два типа смеющихся и плачущих: сделал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы между ними, привел множество выдержек об одинаковых сюжетах, но с противоположным содержанием. Одни говорили: постоянно нужно смеяться, а другие проповедовали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая статья, листа на три печатных. Со страхом и трепетом я понес ее в контору «Современника» для передачи в редакцию. В лихорадке и с замиранием сердца, которое, вероятно, испытывал всякий пробовавший выступать в печать, я ждал рокового для меня ответа, от которого зависела моя судьба. И вот ответ пришел. Не читая его, я прежде всего бросился на подпись; оказалось, ответ подписан Добролюбовым, и я так и замер от опасений и страха; такой неумолимо строгий судья, такой беспощадный критик, – наверное, погибло мое первое писательское создание! Мои опасения оправдались: Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, которыми можно было бы воспользоваться в статье совсем другого типа и характера, чем моя, и в заключение приглашал меня явиться к нему и назначал место и время свидания[3 - Это письмо неизвестно.]. Все пропало, думал я в отчаянии: моя проба оказалась неудачной, и меня приглашают только затем, чтобы возвратить статью. Но, с другой стороны, мелькал и некоторый луч надежды, так как все-таки хоть некоторые места в статье признаны были достойными печати, хотя, может быть, и это написано только для моего утешения.
В лихорадочном волнении и колебании между страхом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым добродушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех печатных листов, что ее могут осилить и вполне понять и оценить только читатели моего круга, академисты и семинаристы, а обыкновенным, заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна, но некоторыми местами статьи можно было бы воспользоваться[4 - Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утверждение соответствует действительности, сказать трудно.], и если я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им совершенно другую обстановку. Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях, о том, к чему я чувствую особенное влечение, и какая отрасль знания мне нравится и более известна. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати. «Только бросьте, – говорил он, – ваших плачущих и смеющихся, а берите какие-нибудь более серьезные и более общие темы и пишите о них, и я уверен, что следующие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае, – сказал он в заключение нашего свидания, – непременно приходите ко мне вечером в такие-то дни». Темы для статьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил неупустительно в назначенные дни. Он вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических и практических и на темы из самых разнообразных областей знания и жизни. Очевидно, что эти разговоры были для меня чем-то вроде экзамена.
У Добролюбова была небольшая библиотека, но состояла из самых избранных книг. Узнав от меня, что я питаю некоторую слабость к философии, а между тем мало знаком с крайней левой гегелианства и знаю Фейербаха только понаслышке, он дал мне его сочинения и настоятельно рекомендовал проштудировать его два сочинения; «Das Wesen der Religion» и «Das Wesen des Christentums»[5 - «Сущность религии» и «Сущность христианства» (меж.). – Ред.]. «А знаете ли, – сказал он при этом, – кто меня учил философии, да и не одной только философии? Н. Г. Чернышевский, – как будто для довершения полной параллели и аналогии с тем, что у нас бывало прежде: Герцен и Бакунин учили философии Белинского, Белинский учил уму-разуму Некрасова и Панаева, а Грановский был учителем Забелина. А меня вон кто учил»[6 - Эти строки воспоминаний Антоновича почти в точности восходят к строкам письма Добролюбова к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г. (СсД, т. 9, с. 248).].
Давал Добролюбов мне, между прочим, сочинение Прудона, «Systeme des contradictions economiques»[7 - «Система экономических противоречий» (фр.). – Ред.]. Когда я, возвращая ему книгу, пожаловался, что в ней нет никаких положительных выводов, что в ней представлены две противоположные системы воззрений, все pro и contra[8 - За и против (лат.). – Ред.], но вовсе не указано, как их примирить и что из них вытекает, то он сказал, что это-то и хорошо, что догматичность везде нехороша, что нужно самому думать и самому решать для себя, на какую из противоположностей следует становиться и какие выводы делать из них.
Темы для второй пробной статьи, несмотря на все мое желание и на все усилия, я так-таки и не мог найти. Наконец Добролюбов сжалился надо мною и сам дал мне темы. Он предложил мне для разбора две книги о русском расколе[9 - Имеется в виду рецензия «Что иногда открывается в либеральных фразах!» (Русский раскоп старообрядства <…> А. Щапова. Казань, 1859), начальные страницы которой написаны Добролюбовым (Совр., 1859, № 9; СсД, т. 5, с. 286–288). Рецензия «Материалы для истории простонародных суеверий (Об антихристе… соч. Никольского. 1859. Le raskol <…>)» появилась в № 6 за 1860 г.], одну Щапова, а другую на французском языке неизвестного автора. Написанный мною разбор книги Щапова он признал сносным: нашел только, что этот разбор не имеет начала или начинается ex abrupto[10 - Неожиданно (лат.). – Ред.], и потому сам написал к нему начало, или вступление. Разбор же французского сочинения он признал довольно удовлетворительным. И этот разбор был напечатан в следующем, 1860 году, без всяких редакторских изменений и дополнений. И таким образом, мой экзамен на сотрудничество в «Современнике», на скромную роль его библиографа, сошел благополучно. После этого Добролюбов в разговорах со мною часто высказывал свои взгляды на библиографию в общем журнале и на те требования, которым она должна удовлетворять. По его мнению, журнал должен брать для библиографии только такие сочинения, которые или не согласны, или же согласны с его направлением; в первом случае он имеет возможность опровергать враждебные мысли, подрывать, осмеивать, унижать их, во втором же случае ему предоставляется предлог повторить свои собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или усилить их. Сочинения же индифферентные в смысле направления, хотя бы серьезные и интересные сами по себе, не должны попадать в библиографию общего журнала; им место в специальных библиографических журналах. Все эти мысли я принимал, конечно, как указания и наставления для меня лично, хотя они высказывались безлично и в общей форме.
С течением времени и мало-помалу у меня установились довольно близкие отношения к Добролюбову, но я, кажется, не имею права назвать их дружескими. Он был со мною совсем запросто, и я бывал у него как дома; он высказывался при мне непринужденно, вполне откровенно, без той сдержанности, которая невольно является при разговорах с людьми, неблизкими между собою; иногда он посвящал меня в свои задушевные мысли и планы. И чем больше я его узнавал, тем сильнее поражала и увлекала меня эта необыкновенная личность. Я не считаю нужным говорить здесь о прекрасных, но обыкновенных и, так сказать, заурядных качествах, свойственных всякому порядочному и более или менее выдающемуся человеку, каковы, например, гуманность, великодушие, преданность своему делу и своим людям, самоотвержение, бескорыстие, готовность помочь всякому. Этими качествами Добролюбов был одарен в высшей степени. Но что особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми, что составляло его характерную отличительную особенность, что возбуждало во мне удивление, почти даже благоговение к нему, – это страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и осыпать искрами и ударами все, что заграждало путь к осуществлению его практических убеждений. Готов он был даже жизнь свою положить за их осуществление. Каждая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось неудержимо осуществиться на деле, что при данных условиях было невозможно; и эта невозможность служила для него источником нервных страданий и нравственных мук. И потому этот человек во все короткое время своей литературной деятельности был истинным страдальцем и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства, негодования, а иногда даже и отчаяния. В письме к одному из своих школьных товарищей он писал: «До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем все мы. Но мы должны создать эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что, будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой и Ваней, да решись эти люди и согласись между собою окончательно, – деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов»[11 - Цитата из письма к М. И. Шемановскому от 24 мая 1859 г. (СсД, т. 9, с. 357–358).].
В другом письме тому же товарищу он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем, – но и умрем все-таки не даром»[12 - Цитата из письма от 6 августа 1859 г. (там же, с. 378).]. И он действительно принялся за создание этой деятельности и за эту деятельность.
Его глубоко, до болезненности, возмущала окружавшая его действительность, понятая и прочувствованная им; он видел, как властно царствует зло в житейском темном царстве. И он в душе, в мыслях, в мечтах порывался бороться с этим царствующим злом, искал и придумывал возможные, действительные и быстрые способы изменить или хоть несколько улучшить и освежить мрачную действительность каким-нибудь энергическим и геройским усилием, одним согласным напором. «Постепенно», «потихоньку да полегоньку» – были противны его энергической, горячей юношеской натуре. Но ужасная действительность грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями, и это повергало его в муку и отчаяние. Человек рвется на дело, а ему сковывают руки. Но энергия и страстность не могут остановиться на отчаянии; нужно действовать во что бы то ни стало, работать и бороться могучим орудием печатного слова.
И Добролюбов мечтал произносить и печатать горячие речи и горячие призывы, как делал в Италии прославленный им о. Александро Гавацци[13 - Имеется в виду статья Добролюбова «Отец Александр Гавацци и его проповеди»; она не была пропущена цензурой и впервые появилась в 1862 г. в т. 4 посмертного издания Добролюбова (СсД, т, 7, с. 93–125).], громить или возбуждать свою публику, электризовать ее, двигать на дело. Но и здесь жестокая действительность сковывала ему язык, не давала возможности высказать и десятой доли волновавших его идей и чувств – что еще больше усиливало его недовольство и муки. Точно как будто сбывалось пророчество его о самом себе, высказанное им в письме к семинарскому товарищу, учившемуся в духовной академии: «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мною мое всегдашнее, неотъемлемое утешение – что я трудился и жил не без пользы»[14 - Цитата из письма к В. В. Лаврскому от 3 августа 1856 г. (СсД, т. 9, с. 254).].
Печать, по идеалу Добролюбова, должна была будить общество, звать его на дело, на борьбу. А фактическая фигурировавшая перед Добролюбовым печать делала как раз противоположное: она убаюкивала читателей, наводила на них сладкую дремоту самодовольства и самоуслаждения. И вот новый источник лихорадочного негодования для Добролюбова. Печатные статьи его достаточно показывают, как возмущала и терзала его хвастливая и обольстительная фраза: «В настоящее время, время прогресса, когда мы созрели, когда процветает гласность и действует бич обличительной литературы» и т. д. Но нужно было послушать его на словах, чтобы увидеть, до какой степени была ненавистна ему эта нелепая фраза и как она его бесила. «На каждом шагу, – постоянно твердил он, – мы видим возмутительные факты, всюду вокруг нас совершаются безобразные и вопиющие явления, а печать точно не видит и не замечает этого и во все горло прославляет и славословит „настоящее время“. Им плюют в глаза, а они говорят, что это божья роса». На самом деле литераторы видели и замечали эти факты и явления. Как только, бывало, они соберутся где-нибудь, почти каждый из них расскажет о каком-нибудь вопиющем факте или безобразном явлении, и все пожалеют о том, что этого нельзя напечатать и что следовало бы послать это в Лондон Герцену напечатать в «Колоколе». Но все это рассказывается и выслушивается спокойно, хладнокровно и благодушно, и рассказчики и слушатели на другой же день продолжают свои гимны «настоящему времени», процветанию гласности и обличительной литературы. Добролюбова это бесило, просто приводило в ярость, и он удивлялся, как это можно так спокойно и благодушно относиться к подобным фактам; и его мучило двойное негодование – и на самые факты и на печать. Все сообщаемые ему этого рода факты он для чего-то аккуратно заносил в свою записную книжку[15 - Эта книжка не сохранилась.] (неизвестно, сохранилась ли она после погрома, разразившегося над литературным душеприказчиком Добролюбова[16 - Имеется в виду Чернышевский.]), для того ли, чтобы постоянно помнить о них, как персидский царь хотел постоянно помнить об ненавистных ему афинянах, или для того, чтобы иметь побольше аргументов для развенчания и унижения «настоящего времени».
Добролюбова тем более бесило такое поведение печати, что он никак не мог себе объяснить его и не мог решить – идиотство ли это, ограниченная нетребовательность и глупое самоуслаждение, или что-нибудь еще хуже и мерзее. Ему самому казалось яснее солнца, что печать обличает только пустяки и мелочи, только мелких сошек и что все обличаемое ею есть только поверхностная пена, источник которой лежал гораздо глубже, что это небольшие побеги от более солидных стволов и корней, на которые и следовало устремить все внимание, и он даже не допускал возможности, чтоб и другие, да еще литераторы, этого не видели и не понимали. Они, может быть, видели и понимали, а все-таки услаждались своими обличениями, считали себя либералами и с гордостью воображали, что они своими обличениями совершают гражданский подвиг.
Добролюбов не дожил до того времени, когда совершилась полная эволюция этих поверхностных обличителей и либералов и они вылились в законченную форму мракобесов и литературных сыщиков и когда для него объяснилась бы их прежняя либеральная слепота и поверхностная обличительность.
С досадой и горечью, а иногда даже с бранью, Добролюбов постоянно повторял, что уж если кому непростительно славословить «настоящее время» с его гласностью, так именно литераторам, даже либеральным обличителям, которые на собственной спине должны были испытать всю прелесть этого времени. Действительно, цензурный гнет в середине 50-х годов значительно ослабел против прежнего времени, только ослабел, не больше, но продолжал существовать и давал себя чувствовать очень сильно и больно и с течением времени все сильнее и больнее. Наиболее серьезные области государственной и общественной жизни, как и в предшествующее время, тоже были недоступны и запретны для печати; например, несмотря даже на то, что уже подготовлялась в секрете крестьянская реформа, все-таки нельзя было ничего печатать о крепостном праве и против него. Цензура даже по части дозволенных предметов была строга, придирчива, мелочна; и разговоры между литераторами всегда перемешивались рассказами цензурных анекдотов. «А знаете, – говорил один, – нам запретили дурно отзываться о Наполеоне III и его правительстве; наш цензор расходился до того, что из приготовленной книжки журнала вымарал около пятнадцати листов – почти целую половину книжки». – «А у нас, – подхватывал другой, – цензор вымарал невиннейшую обличительную заметку, где место действия было обозначено только иксом». – «Это еще что, – говорил третий, – а вот нас притянули к ответственности и распекли за напечатание объявления „О старце и ухе“» и т. д.
Литераторы слушали эти анекдоты и благодушно хохотали, точно это были какие-нибудь мелкие, совершенно безобидные и заурядные случаи повседневной жизни. Один только Добролюбов слушал эти анекдоты с мрачным видом и сердито ворчал: «Вот это доказывает, что у нас процветает гласность», и потом заносил эти анекдоты в записную книжку. Нечего уже и говорить о том, какая лихорадка трясла Добролюбова, когда цензурные операции проделывались над его собственными статьями. Положение самих цензоров было тоже ужасное, обоюдоострое. Если какой-нибудь цензор, под влиянием разговоров о прогрессе и гласности, осмелится действовать менее строго и более снисходительно, то на него сыплются выговоры, замечания и угрозы отставкой. И это была не пустая угроза – она нередко приводилась в исполнение, и в пользу одного из таких смелых отставленных цензоров[17 - Вероятно, речь идет о цензоре Н. Ф. фон Kpyse, уволенном за либерализм в начале 1858 г.] даже Катков хотел устроить всенародную подписку. Если цензор провинится на одном издании, то его переводят на другое, более благонадежное, а на его место назначают другого, более строгого, собаку. И вот в литературных кружках – и ликования и вопли; одни говорят: «Ах, какое счастье – нам дали цензором X», а другие голосят: «Нам посадили цензором собаку Z, не знаем, что и делать, совсем пропали!» Все это действительно было комично, и литераторы действительно хохотали по поводу таких перетасовок цензоров. Один только Добролюбов не видел тут комизма; а может быть, и видел, но только обращал внимание на другую, далеко не комическую сторону дела и обыкновенно говаривал: «Значит, судьба и благоденствие издания зависят не от цензуры вообще и не от цензурного устава, а от личности и от свойств цензора. Вот так прогресс!»
Особенно стеснительно и тяжело для печати было то, что, кроме цензур общей и духовной, существовало еще много цензур специальных: военная, морская, финансовая, министерств юстиции и внутренних дел, театральная и т. д. Почти каждое ведомство имело свою цензуру, охранявшую его интересы в печати. Несчастные статьи, прошедшие через все эти мытарства, возвращались, конечно, в самом растерзанном и изуродованном виде, не говоря уже о бесконечных проволочках и трате времени. Для «Современника» была набрана для помещения в фельетон небольшая заметка, в которой описывалось какое-то морское торжество в Кронштадте. Общий цензор, кое-что повымаравши, направил заметку к военному цензору, который, как само собой разумеется, должен был направить ее к морскому цензору. Этот последний против фразы в заметке: «Матросы разбежались по веревочным лестницам» – положил такую резолюцию: «На военных судах нет веревочных лестниц, а есть ванты, – автор не понимает, о чем пишет». Но бывали мытарства еще более продолжительные. Для «Современника» же была набрана статья «Каторжники»[18 - Автором этой статьи был Г. З. Елисеев. Корректура ее хранится в ИРЛИ, ф. 628, оп. 2, № 96.]. Цензор направил ее в Сибирский комитет (тоже специальная цензура), который признал, что она касается министерства внутренних дел и юстиции, и, сверх того, подлежит духовной цензуре. Предпоследние два мытарства статья прошла сравнительно благополучно, а духовный цензор вымарал все духовное. Затем статья пошла к цензорам военному и финансовому. Но этим мытарства статьи не кончились. Общий цензор внес статью на рассмотрение цензурного комитета, который, в свою очередь, представил ее в главное управление цензуры. И вот несчастный Добролюбов, видевший и знавший десятки и сотни подобных анекдотов, должен был ежедневно читать и переваривать панегирики «настоящему времени» и процветанию гласности.
Но судьба готовила Добролюбову еще более чувствительный неожиданный удар, поразивший его в это его больное и наболевшее место еще сильнее и больнее, чем самохвальство и самоуслаждение внутренней легальной печати. Этот удар нанесла ему заграничная нелегальная печать. По поводу двух статей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» Герцен напечатал в «Колоколе» громовую и резкую заметку, почему-то озаглавив ее по-английски: «Very dangerous!!!»[19 - «Очень опасно!!!» – Ред.], и, чтобы заметка обратила на себя особенное внимание, против ее заглавия был нарисован указующий перст. О содержании и тоне заметки могут дать понятие следующие выдержки из нее: «Чистым литераторам, людям звуков и формы (это Добролюбову-то!) надоело гражданское направление нашей литературы; их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало Обломовых и антологических стихотворений… Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над обличительной литературой, над неудачными опытами гласности… Столичные растения, вы вытянулись между Грязной и Мойкой; за городской чертой для вас чужие края… Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею. Может, они об этом и не думают, – пусть подумают теперь!» Если бы сильный и неожиданный удар грома разразился над головою Добролюбова, то он так не поразил бы и не потряс его, как эта заметка. Он готов был лопнуть от досады и огорчения, от злости и негодования. Этот удивительный пассаж был необъясним и непостижим. «Славословит нашу гласность, – говорил возмущенный Добролюбов, – и превозносит обличительную литературу – кто же? тот самый „Колокол“, который почти весь наполняется цензурными анекдотами и к которому все прибегают только по недостатку гласности!» Да, судьба была жестока с Добролюбовым и мучила его всевозможными способами, и внутреннею и заграничного печатью!
Другим выражением пустого самодовольства и ограниченного самоуслаждения тогдашней печати была, в глазах Добролюбова, ее заносчивость перед иностранцами, ее беспощадная строгость, а иногда и презрительное отношение к иностранным делам. «В политических обозрениях, в иностранной политике, – говаривал Добролюбов, – русская печать ужасно либеральна и даже радикальна и чрезвычайно требовательна». Действительно, ни одно иностранное государство своей политикой не могло угодить русской печати и заслужить ее одобрение; напротив, она направо и налево сыпала обвинениями и швыряла камни осуждения в европейские дела, как самый компетентный судья, руководствующийся высокими государственными идеалами, совершенно забывая святое правило, что камни осуждения может бросать только тот, кто сам безгрешен. Сколько, например, доставалось тогда от нашей печати Наполеону III! Привыкнув видеть у себя гласность, она возмущалась при виде безгласной французской прессы, подавленной Наполеоном. Поэтому русская печать сочувствовала даже соучастникам Орсини в покушении на Наполеона, убежавшего в Англию, и радовалась оправданию их английскими присяжными. Печать так яростно нападала на Наполеона, что даже цензура находила, что это уже слишком, и сдерживала ее обличительную ярость, направленную на французские дела. Не говоря уже о Германии и Австрии, особенно доставалось от нашей печати коварному Альбиону, хотя одно время в печати проглядывало даже англоманство[20 - Журнал «Русский вестник» под редакцией М. Н. Каткова до начала 1860-х годов горячо пропагандировал идеи английского парламентаризма.]. От инквизиторских взоров нашей печати не могли укрыться ни одна ошибка, ни одна стеснительная мера, ни одно некорректное действие Пальмерстонов или Росселей. Особенно сильно пушила печать Англию за сипаев, совершенно так же, как теперь пушат ее за буров[21 - В 1857–1859 гг. Англия с необычайной жестокостью подавила в своей колонии Индии восстание сипаев – солдат, состоящих на службе Ост-Индской компании.]. Наша печать, привыкшая к миролюбию, гуманности, мягкости, снисходительности и всепрощению, до глубины души возмущалась жестокостью и кровожадностью, с какими англичане усиливались подавить восстание сипаев в Индии. Счастливая, свободная и потому великодушная печать глубоко сочувствовала порабощаемым сипаям, совершенно так же, как нынешняя печать сочувствует свободолюбивым и благочестивым бурам.
Такая строгость и такое сочувствие восстаниям, восставшим, по мнению Добролюбова, были вовсе не к лицу нашей печати, и ее судейская роль относительно иностранных дел бесила его не меньше, чем славословия «настоящему времени» и его гласности. Он возмущался карикатурами Степанова на англичан и французов и по поводу их написал на Степанова две эпиграммы[22 - Обе эпиграммы, а не одна, как считал Антонович, сохранились (см. СсД, т. 8, с. 27–28).], из которых, к сожалению, сохранилась только одна. В печати он издевался и глумился над стихотворениями Розенгейма[23 - Имеется в виду рецензия на стихи либерального поэта М. П. Розенгейма (Совр., 1858, № 11; СсД, т. 7, с. 281–306).], содержавшими в себе квинтэссенцию национального самохвальства и заносчивости перед иностранцами. У Розенгейма все это было возведено в перл создания. Запад – это «хилый старик, истративший силы в корчах козней и интриг»; иностранцы – это «фабриканты мятежей», тогда как «Русь – защита тронов, алтарей, правой власти, страх и ужас мятежей, слабейшего отряда, безверию упрек, безначалию урок» и т. д. Но печатные издевательства Добролюбова и пародии на стихотворения Розенгейма были только слабым выражением того негодования, той злости, какие возбуждало в нем это национальное бахвальство, свойственное не одному Розенгейму, но почти всей печати. Дать волю этому негодованию излиться в серьезной статье со всеми его мотивами и аргументами Добролюбов не признавал возможным. За англичан же он вступился[24 - Речь идет о статье «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» (см. об этом СсД, т. 2, с. 7–46, 506–507).], и в серьезной статье, и желал убедить русских публицистов, что судить строго англичан и вообще все иностранные дела им вовсе не к лицу, непристойно, и что их приговоры, при всей их неуместности, даже несправедливы. В своей статье, которая, к сожалению, не попала в собрание его сочинений, «Взгляд на историю и современное состояние Ост-Индии» он писал следующее: «Теперь, даже среди ожесточения, какое возбуждено в общественном мнении англичан неистовствами сипаев, раздаются уже в парламенте и на митингах голоса против злоупотреблений английского управления в Индии; в лондонских газетах печатаются статьи и письма, полные упреков Англии и сожаления об участи туземцев. В этой смелости, беспощадности, с которой во всякое время могут быть раскрыты правительственные и общественные недостатки, заключается величайшая сила Англии». Этому последнему обстоятельству тогдашние публицисты не придавали никакого значения, а, напротив, пользовались им как готовым и легким орудием против самих же англичан: вот, мол, сами англичане видят и сознаются, как они нехороши! К сожалению, для нынешних публицистов указанное обстоятельство служит только оружием против англичан же и не наводит их ни на какие другие размышления и соображения, чего никак нельзя было ожидать по крайней мере от тех из них, которые, по-видимому, относятся к Добролюбову с уважением и которым поэтому не мешало бы принимать к сведению его указания и размышления. Постоянно занятый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей, раскрыть им глаза, а главное – пробудить в них энергию, Добролюбов находил, что серьезные журнальные статьи для этого недостаточны, что в некоторых случаях шутка или насмешка могут действовать сильнее, чем серьезные рассуждения, и что в шуточной или сатирической форме возможно будет иногда провести в печать такие вещи, которые никак не пройдут в серьезной форме, и что, наконец, насмешкой и издевательствами можно будет вернее убить ненавистную и самодовольную фразу о настоящем времени. Поэтому Добролюбов убедил Некрасова предпринять издание сатирического журнала вроде «Искры», которою он был не совсем доволен. Все было готово: был найден вполне благонамеренный редактор, зять Некрасова[25 - Имеется в виду муж сестры Некрасова подполковник Г. С. Буткевич. Как видно из неизданного архивного дела (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 4863) его рекомендовали: отставной генерал-майор А. Н. Ераков, подполковник генерального штаба В. М. Аничков и полковник генерального штаба А. И. Астафьев.], заслуженный воин, потерявший ногу на поле сражения, были добыты требуемые рекомендации четырех генералов. Но все было напрасно: разрешения на издание не было дано. Нечего и говорить о том, как подействовало на Добролюбова это обстоятельство и насколько усилило лихорадку его недовольства вообще и в частности его негодования на фразу о процветании гласности. Чтобы поправить неудачу и взамен особого сатирического журнала, решено было завести особый отдел в «Современнике» – «Свисток».
Для серьезных отделов «Современника» Добролюбов очень много и усиленно работал; а с основанием «Свистка» для него прибавилась новая работа, за которую он принялся с его обыкновенною горячностью и нетерпением. В «Свистке» он часто смеялся, подобно Гоголю, сквозь невидимые слезы, свистал, например, по поводу таких вещей, как опыты отучения людей от пищи, то есть мор рабочих голодом, сечение гимназистов, акционерные общества, учрежденные Кокоревым и Бернардаки, и т. п. Все эти усиленные труды в соединении с постоянно мучившей его моральной лихорадкой подорвали его здоровье, и друзья его настоятельно советовали, просто требовали, чтобы он отправился за границу, серьезно отдохнул бы там и полечился, оставив на время всякие литературные занятия. Уступая их настояниям, он, хотя и очень неохотно, отправился за границу в конце мая 1860 года, через Берлин; побывав в Дрездене, Лейпциге и Праге, он проехал в Швейцарию, оттуда отправился в Диепп, для лечения морскими купаниями, и затем снова возвратился в Швейцарию. Из Швейцарии проехал в Париж, и, пробыв в нем несколько времени, отправился в Италию, где и пробыл все время до возвращения в Россию. Уже находясь за границей, он все-таки помнил и заботился обо мне и о моих делах. В одном из писем к своему дяде[26 - Это письмо от 30 июня (12 июля) 1860 г. (СсД, т. 9, с. 423–424).], который ведал все его дела и на попечении которого он оставил двух своих младших братьев, он, точно предугадывая, что я посовещусь явиться в редакцию «Современника» с требованием денег за мою напечатанную статью, поручил дяде справиться у казначея «Современника», получил ли я деньги за статью, и если не получил, то чтоб их мне послали, причем указал мой адрес. В том же письме, по поводу моей второй статьи о расколе, встретившей цензурные затруднения, он писал: «Если же статью его не напечатали, то скажите, чтобы попробовали теперь. Она недурна, и цензура, вероятно, после смерти Григория[27 - Имеется в виду митрополит Новгородский и Петербургский Григорий (Б. П. Постников; 1784–1860), оказывавший большое давление на цензурный комитет.] стала сговорчивее». Дядя исполнил поручение, и вторая статья была напечатана; но денег и на этот раз мне не прислали, а пойти за ними я совестился.
Уезжая за границу, Добролюбов поручил меня вниманию Чернышевского, но не познакомил меня с ним лично. Все лето я провел вне Петербурга и возвратился только зимою и узнал, что Чернышевский давно разыскивает меня. Я явился к нему в первый раз в конце 1860 года. Увидав меня, он по первому же абцугу[28 - Abzug (нем.) – здесь в значении «сразу». – Ред.] даже, кажется, не поздоровавшись, напустился на меня с упреками, почему я так долго не являлся к нему, почему я не доставил для «Современника» ни одной статьи и даже не давал знать, где я нахожусь, и не являлся за деньгами за статьи. Затем он вдруг переменил тон, развеселился, стал хохотать и совершенно по-приятельски стал расспрашивать о моих личных делах и занятиях и т. д. и в конце нашей довольно длинной беседы настоятельно требовал, чтобы я непременно писал для «Современника», и когда я стал отговариваться, что не знаю, о чем писать, то он опять рассердился и с досадою сказал: «По вашим напечатанным статьям я воображал, что вы бойкий и ловкий молодой человек, что у вас уже готово несколько статей; а вы, оказывается, ничего не сделали и даже не сумели найти сюжета для статьи. Добролюбов говорил мне, что вы чувствуете слабость к философии и знакомы даже с современной философией; ну вот и прекрасно, пишите о философии, пишите обо всем, о чем хотите: берите и разбирайте какие угодно книги, только пишите!»
Я действительно стал писать для «Современника» и статьи и рецензии и потому имел почти постоянные сношения с Чернышевским, который находил мои статьи удовлетворительными и считал меня уже постоянным сотрудником «Современника». Сблизившись таким образом с Чернышевским, я увидел, до какой степени он ценил и высоко ставил Добролюбова и как глубоко любил и уважал его как товарища, как друга и даже почти чуть не как учителя. В его глазах Добролюбов был недосягаемым идеалом человека и писателя. Чернышевский восхищался Добролюбовым, удивлялся ему, чуть не благоговел перед ним. В редкие минуты откровенности и задушевности у Чернышевского было любимой темой разговора – сравнивать себя с Добролюбовым и унижать себя перед ним, конечно, совершенно несправедливо. Очень интересно то, что и Добролюбов точно так же относился к Чернышевскому, тоже постоянно сравнивал себя с ним не в свою пользу, ставил его во всем выше себя, считал его своим учителем и просветителем. Мимоходом следует заметить здесь, что в этих взаимных оценках Добролюбов был правее и ближе к истине, чем Чернышевский, который был убежден в противном и совершенно искренно ставил Добролюбова выше себя. «Что мы? – говорил Чернышевский. – Мы долго блуждали, прежде чем попали на настоящую дорогу, просветление наше совершилось медленно и постепенно, и чего оно нам стоило? А вот он прямо со студенческой скамьи встал окончательно установившимся и сформировавшимся, вполне развитым и цельным человеком, с стройным, гармоническим мировоззрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретическими и практическими и сразу стал на настоящую, прямую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырского института совершенным человеком, как Минерва из головы Юпитера. Он уже в самой ранней юности начертал свой вполне определенный жизненный план и ясно наметил цель своей жизни и деятельности; это мне известно доподлинно». – «И какой у Добролюбова верный литературный взгляд, – удивлялся, бывало, Чернышевский, – какое тонкое чутье, какая проницательность; ее не обманет ничто, и ничто не скроется от нее. Вот я прочитаю что-нибудь, и мне оно кажется хорошо, естественно, искренно и правдиво; но прочитает это же самое Добролюбов и находит, что оно нехорошо, и неискренно, и неправдиво. Я потом посмотрю, и действительно сам увижу, что я ошибался, а он прав».
Почти буквально то же самое говорил Добролюбов о Чернышевском. «Вот, – говаривал он, – у кого зоркий, проницательный взгляд – у Чернышевского: он сразу охватит все и проникнет до самой сокровенной глубины». Особенно горячо и убежденно он повторял это после появления в «Колоколе» заметки «Very dangerous!!!». «Да, – говорил он, – Чернышевского не мог ослепить даже блестящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выходки, а я не мог, я – близорукий зритель!»
Нужно заметить здесь, что Добролюбов был восторженным поклонником Герцена и его крайне удивляло и даже неприятно поражало то, что Чернышевский, отдавая полную справедливость Герцену, отзывался все-таки о нем крайне сдержанно и даже холодно. Для успокоения Добролюбова Чернышевский превозносил литературный талант Герцена, называя его блестящим. Но для Добролюбова этого было мало в прежнее время. Когда же ему был сделан неожиданный реприманд в виде «Very dangerous!!!», он охладел к Герцену и тем больше удивлялся проницательности Чернышевского. К слову сказать, Чернышевский имел случай видеться с Герценом за границей, и они, кажется, остались не совсем довольны друг другом.
Особенно же высоко ценил Чернышевский в Добролюбове – и на этот раз уже абсолютно справедливо – удивительную силу убеждения и страстную, непоколебимую решимость действовать всегда и везде согласно с этими убеждениями, не стесняясь ничем и невзирая ни на что. «Вот, – говаривал он, – настоящий человек дела, жаждущий дела. У него полная гармония между мыслью, словом и делом. В его глазах самые прекрасные намерения не имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, если они не стремятся проявиться в соответствующих действиях. И как он во всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствованно и страстно. Вот я, – осуждал себя Чернышевский в самых задушевных интимных и потому вполне искренних беседах, – не могу быть таким серьезным; к фактам и явлениям, которые Добролюбова возмущают и выводят из себя, я отношусь добродушно, даже шуточно и, во всяком случае, они возмущают меня менее, чем его». И действительно, в обыкновенных случаях и в разговорах с не близкими людьми Чернышевский держал большею частью шуточный тон, острил, смеялся, хохотал, даже если предмет разговора составляли и серьезные вещи. Но это была только обманчивая наружность, потому что, как это знали и видели люди, близкие к нему, он все воспринимал и чувствовал, может быть, даже и глубже и живее, и его негодование в глубине его души было еще энергичнее, чем у Добролюбова.
Далее, Чернышевский удивлялся в Добролюбове неумолимой строгости, неподкупности и нелицеприятию в сношениях со всеми, кто бы они ни были, знакомые ли, приятели, люди высокопоставленные в литературе, авторитеты или начинающие новички; со всеми он был одинаков и всем, нимало не стесняясь, резал в глаза правду-матку. «Я, – осуждал себя Чернышевский, – не могу быть строгим с людьми знакомыми, близкими или с людьми авторитетными, даже вообще с людьми добродушными и, что называется, милыми. У меня язык не поворачивается сказать им в лицо неприятную правду, духу не хватает. Я никак не могу отказать в статье для „Атенея“[29 - Статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» была напечатана в «Атенее» (1858, № 18), скорее всего по тактическим соображениям, чтобы не наносить удара Тургеневу, ближайшему сотруднику «Современника» в близком ему журнале.] милым людям, просившим меня о ней, и не мог сказать, что я не сочувствую их журналу, – за что Добролюбов издевался и хохотал надо мной. И, кроме того, милым и авторитетным людям я готов многое прощать и многое извинять в них. Вот Добролюбов, у него нет на лице зрения, он за дело всякого обругает в глаза без малейшего стеснения и церемонии и уж никому ничего не простит: к малейшему неправильному поступку отнесется с самым строгим осуждением». Относительно Добролюбова это было вполне справедливо; но и сам Чернышевский во многих случаях поступал еще строже и нелицеприятнее Добролюбова. В пример беспристрастия и нелицеприятия Добролюбова Чернышевский указывал на такой случай: «Посмотрите, какую штуку он отмочил. Он знаком и даже приятель с милейшим Алексеем Дмитричем (Галаховым)[30 - Добролюбов был знаком с А. Д. Галаховым, но не находился с ним в лично близких отношениях, как считает Антонович.] и со всем его семейством: он ходит к ним в гости, и они его прекрасно принимают; он у них – свой человек; Алексей Дмитрич оказывал даже ему разные услуги, – и что же? Алексей Дмитрич дал маху: в напечатанном протоколе заседания Литературного фонда написал бессмысленную фразу: „Если в каждом образованном человеке значительно развито чувство благородной деликатности, запрещающей не только не напрашиваться на пособие, но и стыдливо принимать пособие добровольное, то оно должно быть еще сильнее развито в человеке, посвятившем себя литературе и науке“». Добролюбов подхватил эту фразу в «Свистке»[31 - Приводимые Антоновичем строки содержатся в примечании Добролюбова к «Дружеской переписке Москвы с Петербургом» в № 4 «Свистка» (Совр., 1860, № 3; СсД, т. 7, с. 424, примеч. 10).], прикинулся ничего не знающим и с ехидством восклицал: «Да где же Покровский со своим памятным листом[32 - Имеется в виду книжна И. И. Покровского «Памятный листок ошибок в русском языке» (М., 1852).] ошибок в русском языке? Где А. Д. Галахов, который так громил, бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, не умеющих писать по-русски со смыслом!» А ведь это сам же Галахов и написал. И как у Добролюбова хватило духу так зло посмеяться над знакомым, да еще таким милым и приятным человеком, и как он будет после этого смотреть в глаза ему и его семейству. У меня бы духу не хватило на это, а ему это нипочем, он и в ус себе не дует. И дело-то неважное, сболтнул человек глупость, а Добролюбов возмущается, негодует на то, что русские литераторы, так сказать законодатели русского языка, не умеют правильно выражаться по-русски.
В глазах Чернышевского еще более резким выражением строгости и нелицеприятия Добролюбова было его отношение к корифеям и ветеранам литературы. «Вы бы посмотрели, – говорил он, – как Добролюбов третирует их: обращается с ними сдержанно, холодно, даже сурово, а иногда просто запанибрата, не говоря уже об отсутствии почтительного и предупредительного внимания. К милейшему, мягчайшему и утонченнейшему Тургеневу или к добрейшему Кавелину он относится небрежно и невнимательно, точно к какому-нибудь безвестному литературному новичку, он делает им замечания, даже подтрунивает над ними, а в печати подпускает шпильки, он не стесняется и не смущается перед ними и режет им свое. А с другими, столь же почтенными и заслуженными литераторами, обращается еще дерзновеннее».
Следует заметить при этом в скобках, что, несмотря на то, что Чернышевский при личных сношениях с литературными корифеями и авторитетами был с ними внимателен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его еще больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в то время приписывали такую фразу: «Добролюбов – просто змея, а Чернышевский – ядовитая, гремучая змея». Но то совершенная правда, что Добролюбов очень не жаловал некоторых литературных корифеев, и так называемых людей 40-х годов, и вообще всех и менее известных литераторов, либеральничавших только языком и пером; он безжалостно осуждал и порицал их и всегда говорил о них раздраженным тоном. В них видел, так сказать, квинтэссенцию того, что он ненавидел больше всего на свете, что считал позором и преступлением со стороны всякого интеллигентного и мыслящего человека, а тем более литератора: прекрасные мысли, прекрасные намерения, прекрасные слова – и никакого дела или даже непрекрасные дела. «И что это за люди, – с досадою говаривал он, – если мысли и намерения, лежащие у них в голове или постоянно болтающиеся у них на языке, не оказывают на их деятельность никакого влияния, не проявляются в их действиях? Это бездушные механизмы, в которые вставлены красивые и блестящие погремушки; это деревянные шкапы, в которых лежат книги с прекрасным содержанием, которое не имеет никакого отношения к шкапам и не оказывает на них никакого действия. Нет, настоящее, действительное убеждение и намерение всегда бывает сильно и деятельно, оно одушевляет и охватывает всего человека, действует на его чувства, движет его волю и служит пружиною, управляющею всеми его действиями. Осуществление на деле действительного убеждения есть естественная, так сказать, инстинктивная потребность, удовлетворить которую убежденный человек стремится с такою же настойчивостью, с какою он удовлетворяет всякую другую естественную потребность. Прекрасные, но бездельные, а только платонические намерения столь же неестественны и бесплодны, как платоническая любовь.
Вот, например, Кокорев, какими он одушевлен прекрасными намерениями и какие либеральные речи произносит, – это тоже убеждения? Будучи откупщиком, громит откупа, будучи учредителем акционерных обществ, громит акционеров за то, что они не строго смотрят за действиями своих учредителей. Вот это полное согласие между словом и делом. А то есть стихотворцы, которые сочиняют и печатают высоконравственные стихотворения, воспевают красоту добродетелей и тленность земных благ и в то же самое время занимаются ростовщичеством[33 - Речь идет о поэте А. Бешенцове, разоблаченном Добролюбовым в № 2 «Свистка» (Совр. 1859, № 4; СсД, т. 7, с. 346–347, 586–587).] и предаются грязному разврату. Это тоже стихотворное выражение убеждения?!» Эти мысли были любимой темой, которую Добролюбов постоянно развивал на словах и в печати.
Поэтому вполне естественно, что Добролюбов не мог питать уважения к прекраснодушным людям 40-х годов и похожим на них литераторам других годов и его времени. Особенно сердило его то, что подобные люди были высокого мнения о себе, гордились своею бездельною, платоническою любовью к людям, к общему благу и фарисейски презрительно смотрели на толпу, не выражающую даже на словах такой любви. Я уже рассказывал печатно[34 - См. статьи Антоновича: «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» (Слово, 1878, № 2, с. 82–83) и «Воспоминания по поводу чествования В. Г. Белинского» (Русская мысль, 1808, № 12, с. 1–12).] один случай, очень характерный для Добролюбова и очень типичный для его отношения к этим людям. Литераторы и другие почитатели и сверстники Белинского устраивали ежегодно в честь его обеды, на которых прекрасные тосты и прочувственные речи лились такой же рекой, как и прекрасные вина. На один из этих обедов приглашен был и Добролюбов как сотрудник «Современника»… Чернышевский в душе, вероятно, подтрунивал над этими обедами, над их участниками, над их речами и тостами в честь Белинского, наверное, шутил, острил и хохотал. Добролюбова же картина этих обедов возмущала и бесила; он не мог равнодушно слышать прекрасных, но платонических восхвалений Белинского и внимал им с лихорадочным негодованием, которое нашло себе такой исход: он написал на этот обед сатиру и разослал ее выдающимся участникам обеда. Подобную же проделку устроил Добролюбов, еще будучи студентом Педагогического института. Возмущенный празднованием юбилея Греча, он написал тоже сатиру на этот юбилей и стал ее распространять повсюду. Она дошла до институтского начальства, и только полная откровенность и показное раскаяние избавили его от начальственной грозы и беды. К сожалению, этой сатиры нет у меня[35 - Имеется в виду сатирическое стихотворение «На 50-летний юбилей… Греча» (СсД, т. 8, с. 7–11, 607–608). См. с. 54–55 наст. изд.]. Но сатира на празднование в честь Белинского есть. Я уже приводил ее в печати в сокращении[36 - В журнале «Слово», 1878, № 2, с. 82–83.]. И здесь я не привожу последних двух с половиною строк. В конце стихотворения Добролюбов до того разгорячился, что уже не мог найти достаточно сильных слов для выражения своего негодования, и употребил грубое, бранное выражение, – он же не предназначал своего стихотворения для печати.
На тост в память Белинского, 6 июня 1858 года
И мертвый жив он между нами,
И плачет горькими слезами
О поколенье молодом,
Святую веру потерявшем,
Холодном, черством и немом,
Перед борьбой позорно павшем…
Он грозно шел на грозный бой,