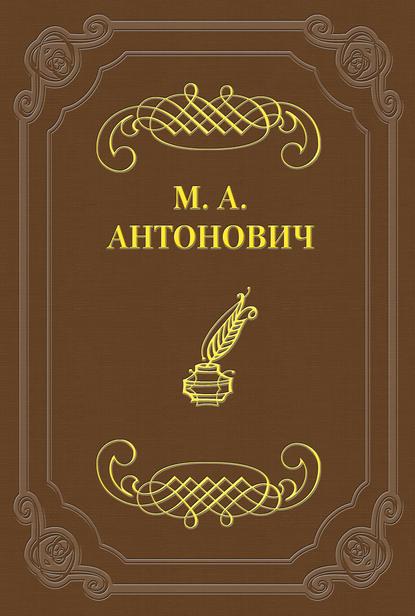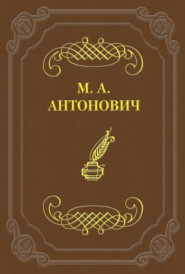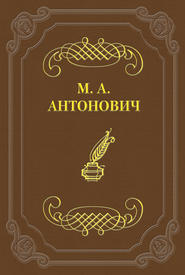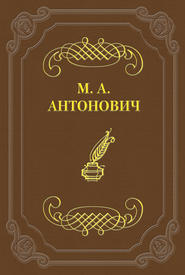По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мистико-аскетический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из этого краткого очерка главного содержания романа мы видим, что это вовсе не роман, а глава из четьи-минеи или перевод из Acta Sanctorum, словом, это какое-то средневековое душеспасительное чтение, и при чтении его никак не хочется верить, что это современное произведение и притом такого автора, который, по-видимому, не имеет ничего общего с средними веками. Здесь мы видим сюжеты, темы, личности, взгляды, тенденции, целое мировоззрение, которые обыкновенно встречаются в творениях Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Нила Сорского и др. и которые так необыкновенны в беллетристике. Роман рассматривает всех людей, все отношения и всю жизнь с специальной, исключительной точки зрения греховности и благочестия и условий, им благоприятствующих. Из этих условий «мир», пребывание в мире благоприятствует греховности, а удаление от мира в пустыню благоприятствует благочестию. Мир и пустыня или обитель – это два полюса, две противоположности, это тьма и свет. Посмотрите, какую трогательную, симпатичную и умиротворяющую картину представляет обитель в сравнении с миром: там – целомудрие, девственность, нестяжательность, духовные высшие интересы, вера; здесь же – сладострастие, блуд, своекорыстие и сребролюбие, грубые материальные интересы и безверие. Иноки проводят свою жизнь в молитве, в душеспасительных беседах, божественном любомудрствовании или теософии и в духовных невещественных благотворениях. Мы видели, какая масса людей притекала к старцу Зосиме и как он всех их ублаготворял. Вот юный ум, недовольный окружающим мраком и рвущийся к свету, к идеалу, и готовый для достижения их жертвовать даже жизнью, это Алеша. Где он находит свой свет, свой идеал? Опять-таки в обители и опять-таки у старца Зосимы.
Совершенно иную, мрачную картину представляет мир. Вспомните, с какими предостережениями и напутствиями отпускали старцы Алешу в мир, как пугали его всевозможными мирскими опасностями и страданиями, точно он отправлялся не в цивилизованное общество, просвещенное христианством, а к каким-нибудь грубым и кровожадным дикарям или, лучше, в какое-нибудь сатанинское царство, к самому диаволу и аггелам его. Сам Алеша ужаснулся, когда старец послал его в мир, сердце у него дрожало, и он думал: «Здесь тишина, здесь святыня, а там смущение, там мрак, в котором сразу потеряешься и заблудишься…» Весь мир во зле лежит; в нем только гордость, превозношение и грех. И все то, что есть лучшего в мире, чем он гордится, что составляет его украшение, в сущности есть мерзость запустения. Припомните, как о. Паисий аттестовал науку, эту гордость человечества, это великое создание коллективного ума всего человечества; она слепа, разрушила все небесное и святое, из-за частей прозевала целое. Не более лестно отозвался о науке и Великий инквизитор, уверявший, что свободный ум и наука приведут только к антропофагии. Но атеисты, несмотря на все желание и противодействие, никак не могут заглушить в себе мысли о целом, которая их неотступно преследует, хотя они постоянно отгоняют ее. И это положение о. Паисия вполне подтверждается романом: мы видим, что и старик Карамазов, и сын его Иван вольнодумствующий, и Смердяков маловерный, и Ракитин неверующий никак не могут освободиться от мысли о боге и бессмертии, постоянно заняты ею и только стараются заглушить ее один вином и развратом, другой разными вольнодумствованиями о неискупленных страданиях детей, третий лакейской диалектикой и четвертый химией и Клод Бернаром.
Мир воображает, что он может отделиться от церкви и устроиться удовлетворительно без ее помощи. В частности, он думает, что, устроивши при помощи науки и европейской практики суд присяжных с прокурорами, адвокатами и следователями, он достиг правого суда, твердо ограждающего справедливость. Между тем на деле это чистая иллюзия; мирской суд есть просто посмешище над правдою и справедливостью и останется таким до тех пор, пока он не будет предан в руки церкви и вообще пока государство не сольется с церковью. Припомните рассуждения монастырских старцев с Зосимою во главе об основах церковно-общественного суда. Эти рассуждения внесены в роман неспроста и не случайно. Мы уже видели один пример того, что рассуждения старцев подтверждаются событиями, излагаемыми в романе. Так же точно и эти их рассуждения о суде вполне подтверждаются утомительно подробным изложением суда над Митей. Митя – душа высокая и благородная, полная веры, энтузиазма, любви к Алеше и уважения к Зосиме. Мирские же обвинители и судьи с мелкими душонками и узкими рамками своего мирского правосудия, вместо того чтобы проникнуть в эту душу и проникнуться благоговением к ней, стали придираться к ней со своими мелкими вопросами и мелочными уликами, где был в такой-то день и час, где взял то и другое, что говорил тому и другому. Эти пошлые, мелкие придирки пигмеев вызвали негодование и презрение в исполине Мите, и он закричал им: «И вы хотите, чтобы я таким насмешникам, как вы, ничего не видящим и ничему не верящим, слепым кротам и насмешникам, стал открывать и рассказывать еще новую подлость мою, еще новый позор, хотя бы это и спасло меня от вашего обвинения? Да лучше в каторгу!» Но он все-таки сжалился над ними и протянул им руку; и представьте себе, они не приняли этой руки. Вот эти-то судейские слепые кроты при помощи темных «мужичков», тоже неспособных понимать величие и энтузиазм души, своим правым судом и осудили Митю, совершенно неповинного в убийстве отца. Но то ли дело было бы, если бы в суде участвовала церковь! Старцы правду говорили, что «перед одною только церковью современный преступник и способен сознать свою вину, а не то, что перед государством; вот если бы суд принадлежал обществу, как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе» (I, 105). Да, если бы судьею был старец Зосима, следователем о. Иосиф, прокурором о. Паисий, а секретарем послушник Алексей, вроде того как это есть и теперь в консисториях, тогда, конечно, невинный Митя не был бы осужден. Они не стали бы заниматься мелочами, а прямо проникли бы в самую суть его души, увидали бы всю ее веру, величие, любовь к монастырским старцам и прославили бы Митю. Зосима, только взглянувши на Митю, сразу увидел, что это за птица, и поклонился ему в ноги. Итак, великий праведник поклонился Мите, а мирские судьи даже не удостоили пожать ему руку и упекли его в каторгу. Вот какая разница между судом мирским и духовным!
И везде и во всем мир так же мелочен, поверхностен, бездушен и несправедлив; если суд, гордость его, столь неудовлетворителен, то другие его учреждения еще хуже. И мир не поправит своих дел и будет оставаться в жалком положении до тех пор, пока он не сольется с церковью, не превратится в монастырь или по крайней мере не подчинится авторитету монастыря и монастырскому принципу. Этот принцип есть аскетизм и самоотречение.
Все мирские друзья и благодетели человечества, политики и государственные люди, все философы, ученые, публицисты и художники ставили для себя единственной задачей устроить только земную жизнь человека, и вся их цель состояла и состоит в том, чтобы по возможности уменьшить сумму земных страданий человечества и по возможности увеличить сумму его земных удовольствий, доставляя удовлетворение по возможности всем потребностям человеческого существа и в том числе его стремлению к самостоятельности, к самобытности, к самоопределению. Для достижения своей цели они употребляли исключительно земные средства и пользовались только силами своего ограниченного ума, не прибегая ни к какому высшему авторитету. Средства их состояли в том, что они регулировали и всячески видоизменяли внешние, просто наружные отношения между людьми, не касаясь глубины человеческой души и ее стремлений к высшему авторитету. Все их законы и меры, реформы и преобразования имели в виду внешнюю деятельность людей, как членов внешнего гражданского общества, и не касались их сокровенной глубины души, их совести, их убеждений и верований. Вот в этом-то и состояла их роковая ошибка; вот потому-то все их стремления и потерпели такое страшное фиаско. Прочитайте горячие речи Великого инквизитора, вникните в них; они неспроста внесены в роман и крайне поучительны. В них поразительными и яркими чертами изображена тщетность всех усилий облагодетельствовать человечество при помощи одного только гордого человеческого ума и необузданной человеческой свободы; эти усилия увенчались только антропофагией. Поэтому Инквизитор уверен, что человечество, жестоко разочаровавшись в своих силах, своих надеждах и мечтах, придет к ним, то есть к представителям высшего авторитета на земле, и сложит к ногам их свой гордый ум и свою буйную волю. Это так и должно быть, это и есть единственный исход, и по мнению наших старцев в романе и самого автора его. Нужно круто повернуть ход современной истории и направление деятельности современных исторических деятелей и направить их в другую сторону, по направлению к монастырю. Современное общество должно перестроиться по образцу монастыря и положить в основу своего здания монастырский принцип самоотречения и аскетизма. Все земные меры, всякие внешние реформы и регулирования нужно бросить как негодные. Этот крутой поворот представляет некоторое затруднение только для оторвавшейся от народа нашей интеллигенции, сам же народ еще со времени Владимира Равноапостольного стал и теперь стоит на надлежащей дороге, ведущей к монастырю. Интеллигенции остается только примкнуть к народу.
При помощи аскетизма, самоотречения и послушания, составляющих монастырский принцип, легко разрешаются вопросы и о земном благосостоянии людей, над которыми бесплодно ломают головы друзья человечества. Цель этих друзей, как мы видели, состоит в том, чтобы облегчать земные людские страдания, уменьшать их сумму. С точки зрения аскетизма это совершенно ложная цель. Зачем стремиться к уменьшению или ослаблению земных страданий? Разве эти страдания составляют грех или вообще что-нибудь дурное? Вовсе нет; эти страдания полезны для людей, они укрепляют и очищают душу, как золото очищается огнем в горниле, и вообще содействуют нравственному совершенствованию людей. Поэтому не только должно переносить страдания с удовольствием, не только не нужно избегать и устранять их, но еще должно искать их. Так и поступают истинные аскеты. Зосима дал Алеше такой завет, как вы помните: «В горе счастья ищи». И в другом месте он пророчил ему: «Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь и жизнь благословишь и других благословить заставишь, – что важнее всего» (I, 447–448). «Ищи себе мук», «приими муки и вытерпи» – так постоянно твердил святой старец. Но ведь аскеты, иноки не какие-нибудь необыкновенные существа, не ангелы, а обыкновенные смертные, такие же люди, «какими и всем на земле людям быть надлежало бы», как говорил о. Зосима.
Итак, не нужно никаких законов, преобразований и мер для устранения страданий; нужно только разрушить ту иллюзию и ошибку людей, по которой они считают страдания чем-то дурным, неприятным, и уверить их, что страдания составляют благодеяние и счастье; нужно не устранять страдания, а только утешать страдающих и убеждать их в прелести и пользе страданий. А этого легко можно достигнуть одними словами без дел, одними поучениями и проповедями, особенно еще если произносить их от имени высшего авторитета. Возьмем, например, такой, случай из действительной жизни. Деревенская баба, едущая в железнодорожном поезде, потеряла свой билет и ревет из-за этого благим матом. Ее сосед, полумужик, полукупец, начинает утешать ее в страдании и говорит: «Э, тетка, полно убиваться из-за билета, купишь другой, вот как придет кондуктор; чать у него еще не все вышли». На это страдалица с ожесточением отвечала: «Тебе хорошо покупать, что у тя мошна-то набита, а я с чем вернусь назад, коли последние истрачу на билет; ведь мне и от машины-то до деревни в силу пешком пойти». Но, очевидно, это был неискусный утешитель. Если бы в поезде был о. Зосима, он непременно утешил бы бабу и убедил бы ее, что потеря билета есть благодеяние для нее. Помните, как он утешал бабу, лишившуюся сына и ужасно страдавшую, и с каким веселием она ушла от него, приговаривая: «Сердце ты мое разобрал». Нужно, впрочем, сказать, что подобного рода утешения не всегда удаются. Был, например, такой случай. В деревне летом среди дня случился пожар. Одна старушка вдова, жавшая в поле с детьми рожь, прибежала в деревню, нашла на месте своей избы только дымящуюся груду пепла да остов печки и разразилась горькими, раздирающими душу рыданиями. Бывший на пожаре духовный отец ее с жалостью и «проникновенно» сказал ей: «Ах, раба божия, какие ты горькие слезы проливаешь из-за благ тленных и земных, а небось о благах нетленных и небесных и думать позабыла, а тебе бы в твоих летах наипаче следовало бы думать об них». Но нераскаянная старуха игнорировала эти утешения, прикинулась, точно как будто не слыхала их, и продолжала рыдать. Впрочем, может быть, и здесь был неискусный утешитель, не такой, как Зосима.
Когда таким образом люди убедятся, что страдания – это иллюзия, мирской предрассудок, что в сущности они благотворны и в них заключается наше благосостояние, тогда половина дела будет сделана, человечество станет наполовину счастливым. Не будет страдальцев и страданий; можно будет похерить одну половину задачи друзей человечества и все их законы и меры, рассчитанные на уменьшение суммы страданий. Остается другая половина задачи – удовлетворение потребностей. И здесь аскетизм решает вопрос проще и скорее. Нужно заботиться не об удовлетворении потребностей, а об ограничении и подавлении их, вообще об обуздании своих пожеланий. Вот как убийственно критикует старец Зосима нынешние мирские порядки на этот счет.
«Мир говорит: имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай, – вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение (?) и духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение, тем, что сокращает расстояния, передаст по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей. Понимая свободу как приумножение и скорее утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желания, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такою необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые небогаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут» (I, 492).
Очевидно, что удовлетворение или насыщение потребностей, к которому стремятся мирские друзья человечества, есть принцип ложный в своем основании и в результате приведет только к антропофагии. Гораздо надежнее противоположный принцип монастырского аскетизма. Человек должен стремиться к ограничению своих потребностей; лишние и ненужные потребности нужно «отсекать от себя», учит Зосима, и нужно освобождаться «от тиранства вещей и привычек». Попросту говоря, протягивая ножки по одежке, и каким потребностям ты не можешь удовлетворить, тех и не имей, те и подавляй; с этим правилом будешь вечно доволен и счастлив. Это правило несомненно улучшит и все общественные отношения. Вот, например, фабрикант сбавил рабочим плату на 50 %. При нынешних мирских порядках это обстоятельство вызывает страшную кутерьму, целый ад диких страстей; рабочие волнуются, негодуют, устраивают стачки, вызывают вмешательство полиции и суда, и всем этим еще усугубляют свое горькое положение; фабрикант терпит убытки; промышленность страдает. Но если вы в подобных случаях обратитесь за помощью не к внешней силе, не к закону и его внешним представителям, полиции и суду, а к силе внутренней, к нравственному закону, от природы написанному в сердце и совести и подкрепляемому верою в высший авторитет, и к внутренним духовным его представителям, инокам и старцам, то дело устроится наилучшим образом и к общему удовольствию.
Вообразите в самом деле, что в среде тех рабочих находится вожак их, закадычный друг Алеши, ревностный ученик и последователь старца Зосимы, каждый праздник внимающий его беседам. Он является на сходку недовольных рабочих и начинает развивать им теорию старца. «Хозяин, мол, братцы, сбавил нам плату; ну, и бог с ним, нас от этого не убудет. Нам будут давать меньше денег, но и их будет за глаза довольно, если мы перестанем тратить их на разные гармонии, на распивание чаев в трактирах, на самые эти папироски и цыгарки, если бросим пить пиво по портерным и водку по кабакам. Прежде мы съедали в день по два фунта хлеба, а теперь будем есть по одному и отлично останемся живы. Вон старец Зосима в двое суток съедает всего только одну просвирку, а он такой же человек, как и мы. Я сегодня был у него; он вам посылает свое благословение и вот эту просвирку, из которой вынута частица за здравие ваше. Стало быть, если рассуждать по правде, по-божьему, то наш хозяин и хорошо сделал, что сбавил нам плату; теперь между нами будет гораздо меньше этого самого пьянства, кутежу и разврату. Уполномочиваете вы меня, братцы, от лица всех нас благодарить хозяина за сбавку платы?» Само собою разумеется, что эта речь была покрыта шумными одобрениями и единодушными криками: уполномочиваем! Вот как мирно решилось дело, без ссор и неудовольствий, без полиции и суда! Проведите этот аскетический принцип по всем областям и закоулкам экономической жизни, внесите его во все отношения между капиталом и трудом, и вы мирно, прочно и просто разрешите тот вопрос о пауперизме и пролетариате, который для мирских умников представляется таким страшным и грозным, полным неведомых опасностей и роковых переворотов.
Возьмем другой случай. Вздорожало мясо, до которого такие большие охотники все мирские. Это обстоятельство вызывает всеобщее неудовольствие и ропот; все кряхтят, охают, жалуются, требуют мер. Вот за дело берется дума, назначает, как водится, комиссию для удешевления мяса; комиссия выписывает издалека несколько кусков свежего мяса в особо приспособленных вагонах и продает их жителям. Куски съедены, но цена на мясо не только не падает, а еще повышается. Люди недостаточные по-прежнему бедствуют, страдают, не имея возможности удовлетворять своей потребности; в них растет неудовольствие и ропот. Мир со всеми своими мерами оказывается бессильным успокоить людей и сделать их довольными. Аскетизм же может это сделать легко. Всеми любимый и уважаемый старец Зосима созывает к себе недовольных и держит к ним такую глубоко прочувствованную речь: «Братие мои, вы напоминаете мне тех евреев, которые из-за недостатка египетских мяс в пустыне возмутились против пророка божия и вождя. Не подражайте им, не ропщите, а лучше отсеките потребность в мясе. Поверьте, будете живы и без мяса; взгляните на иноков России и всего мира. Они не вкушают мяса, а живут не хуже вас. Да даже ваша мирская наука отрицает мясо. Ученейший правитель столичного университета, Бекетов, доказал, что мясо введено в употребление буржуазной физиологией, которая, вероятно, процветала в древнем Египте, где ею заразились и евреи, и что вообще без мяса можно жить. Обдумайте-ка мой смиренный совет, откажитесь от египетских мяс». После этой речи как бы по мановению волшебного жезла недовольные превратились в довольных, мясные лавки опустели, цена на мясо упала вчетверо, думская комиссия закрылась; радость всеобщая.
Примените этот принцип аскетизма и отсечения ко всем потребностям человеческой природы как к физическим, так и к психическим, превратите гражданское общество в монастырь, добровольно, по совести и по религиозному чувству вполне подчиняющийся не только велениям, но и простым наставлениям своего духовного старца и совершенно отрекшийся от своей воли, и вы в один миг осчастливите человечество, которое теперь так далеко от счастья, потому что все свои усилия, все средства своего ума и все орудия общественности направляет к тому, чтобы удовлетворять своим не только естественным, но и искусственно привитым цивилизацией потребностям, чтобы достигнуть не послушания и отречения от своей воли, а свободы, свободного самоопределения и естественной самодеятельности. Как в древнем цивилизованном мире, так и теперь свобода считается одною из самых жгучих психических потребностей, и удовлетворение ее доставляет наивысшее психическое удовольствие и наслаждение. Но человечество до сих пор не добилось возможности удовлетворять этой потребности. Припомните в речи Великого инквизитора мрачную картину человечества, получившего мирскую свободу и этим путем дошедшего до взаимного истребления, до антропофагии. Автор рассматриваемого романа исповедует и доказывает для достижения свободы другое средство, монастырское, тоже давным-давно известное и оказавшееся на практике еще менее удовлетворительным.
Средство это состоит в том, чтобы стремиться к свободе посредством добровольного рабства, путем безусловной покорности, отречения от своей воли и того, что по-латыни называется resignatio. Отец Зосима говорит: «Самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа». В другом месте автор, давая определение того, что такое старец, говорит уже от себя следующее:
«Старец – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотречением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, – не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней» (I, 48–49).
Автор забыл или, вероятно, умышленно не захотел прибавить к этому, что такого рода послушание было доведено до высшей степени совершенства в известном ордене, который был учрежден Игнатием Лойолою и в котором послушание доходило до того, что низший член становился просто бездушным «трупом» и безжизненной палкой в руках высшего члена. Действительно, послушание может привести к свободе, но к свободе своего рода, состоящей в самоотречении, в обезличении. С субъективной точки зрения, действительно можно не считать рабом того, кто рабствует не по принуждению, не по страху, не по необходимости или по расчету, а по внутреннему согласию, по свободному произволению, из любви к раболепству, из-за удовольствия, доставляемого им. Мы терпим принуждения, насилия, стеснения, оскорбления личности и унижения человеческого достоинства единственно только потому, что мы горды, что мы слишком высоко ставим свою личность, придаем первенствующее значение своим мнениям и своим желаниям. Но если мы смиримся, признаем, что мы – последний червь в мире, откажемся от своей личности, словом, «умрем» нравственно в смысле эпиграфа романа, то этим облечем свою личность в такую крепкую броню, оденем ее таким медным лбом, которого не пробьют никакие насилия, сквозь который не дойдут до нас никакие оскорбления и унижения нашего личного достоинства.
И в самом деле, можно ли сделать насилие воле того человека, который отказался от своей воли, можно ли оскорбить человеческое достоинство у того человека, который не признает в себе этого достоинства, а, напротив, весь проникнут сознанием собственного недостоинства? Эти вопросы равносильны такому вопросу, можно ли конфисковать имущество у человека, который сам добровольно отдает, с удовольствием жертвует его? Вы держитесь известных убеждений, но вас заставляют изменить их или принять другие. Если вы человек гордый, то протестуете, сопротивляетесь, спорите, беспокоитесь, выходите из себя, подвергаете себя неприятностям, словом – вы несчастный человек. Если вы смиренны и послушны, то вы сейчас сознаете, что ваш слабый ум способен заблуждаться и действительно заблуждается и потому, не колеблясь, отрекаетесь от своих убеждений и принимаете чужие без всяких неудовольствий и неприятностей. Или вы желаете и любите читать «Голос», а вам суют и заставляют читать «Новое время». Если вы человек гордый и непокорный, то ваша непокорность не принесет вам ничего, кроме неприятностей; своего вы не добьетесь, а только будете мучить себя неудовольствием. Если же вы человек смирный, то сразу отказываетесь от своих личных вкусов, с удовольствием изменяете вашему любимцу «Голосу» и читаете прежде ненавистное вам «Новое время» с таким же наслаждением, с каким некогда упивались «Голосом», – и вы счастливы вследствие вашей покорности. Эту же мысль выражают русские пословицы: «Ласковый теленок двух маток сосет», «У кого спина гнется, тот всего добьется» и другие, а также известная басня: «Дуб и трость».
Проведите этот принцип по всем сферам жизни, по всем видам и отраслям человеческих отношений, и вы станете счастливым человеком, не уязвимым ни для каких несправедливостей, обид и притеснений. Вообразите, что кто-нибудь хватил вас кулаком. Если вы человек гордый и без самоотречения, то вы или дадите сдачи и затеете целую драку, или же начнете иск за оскорбление действием и тем подвергнете себя всем неприятным судебным мытарствам, которые скорее и сильнее измучат вас, чем вашего обидчика, которого суд может оправдать, а если и присудит, то к какому-нибудь незначительному штрафу, так что оскорбление ваше еще более усугубляется. Человек же смиренный, когда его хватят кулаком, поступит совершенно иначе; он схватит руку обидчика, с жаром облобызает ее и скажет ему: «Друг, что ты так снисходителен ко мне, ударил меня так слабо и то только один раз; ударь меня еще раз и притом посильней; если я и не виноват перед тобою, то наверное виноват перед кем-нибудь другим, может быть, я сам кого-нибудь обидел; а если я не виноват, то виноват кто-нибудь из моих родных; поэтому бей меня сколько хочешь, и я всякие побои перенесу охотно, потому что я помню заповедь моего старца, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся, за всех людей и за всякого человека на сей земле». Вот это самое и есть то, что на риторическом языке называется «лобызать карающую десницу». Если вас заключили в темницу, хотя бы даже безвинно, то вы должны воспеть гимн темнице; если вас заковали в кандалы, то вы должны любовно лобызать эти кандалы, и т. д. По этому пути самоотречения и терпения можно дойти до того, что все дурное и неприятное будет казаться райскою прелестью, подобно тому как титулярный советник Поприщин, когда сторожа сумасшедшего дома лупили его по спине палками, воображал, что это рыцарский обычай при возведении его в высокое звание испанского короля.
Для нас, русских, такое самоотречение и умерщвление своей личности тем удобнее и легче, что оно составляет, по учению славянофилов, характеристическую черту нашего национального духа, которая непонятна иностранцам, глупо и в недоумении разевающим рот всякий раз, когда им случается видеть, как любовно и долготерпеливо мы переносим всякие невзгоды и удары судьбы и с каким усердием лобызаем руки, дающие нам затрещины, и кары, которые мы с удовольствием переносим за всех и за вся (см. у г. Аксакова анекдот о Достоевском и стихи самого г. Аксакова). Эта национальная черта стерлась только немного у нашей интеллигенции, развращенной Западом и заразившейся иноземным духом. Вследствие этого сама интеллигенция и очутилась в настоящем горьком и безвыходном положении, из которого, впрочем, есть для нее только один выход – возвращение к почве, к народу и усвоение нашей национальной добродетели.
Для того чтобы соблазнить нас к этому возвращению, Достоевский не ограничился одними только отвлеченными поучениями старца Зосимы, но еще воплотил нашу национальную добродетель безропотного терпения и покорности в увлекательном образе Мити Карамазова. Бездушные, слепые крючкотворы мирского суда при помощи ничего не смыслящих мужичков-присяжных осудили ни в чем не повинного, добродетельного Митю и подвергли его ужасному, незаслуженному наказанию. Другой на его месте надрывался бы от негодования, злобы и досады, накопил бы в себе столько горьких чувств ненависти, мести и озлобления, что они отравили бы все его существование и мучили бы его всю жизнь. Митя же покорно и спокойно принял несправедливое осуждение и наказание; он счел его даже уроком и благодеянием для себя; он уверил себя, что он должен невинно пострадать для искупления еще более невинных страданий «дитё», и потому в наказание он воспел гимн и чувствовал себя столь счастливым, как никогда в жизни. Вот идеал и высокий образец для подражания! И недаром отец Зосима поклонился ему в ноги…
Таковы главные тенденции романа «Братья Карамазовы», таково мировоззрение, проводимое в них! Повторяем, это та же буквально мораль аскетизма и принижения, которую проповедовал Гоголь в своей «Переписке с друзьями». Эта «Переписка» в свое время вызвала крайне неприятное изумление, досаду, жалость и вместе с тем строгое осуждение и негодование. Чувства эти нашли себе красноречивого выразителя в лице Белинского. Но его рецензия на эту «Переписку» (Полн. собр. соч., ч. II) есть только весьма слабое и бледное выражение этих чувств, которые загремели со всею силою в его рукописных письмах к Гоголю. Эти письма произвели потрясающее впечатление как на самого Гоголя, так и на всех читавших их, а они известны были всей тогдашней интеллигенции, интересовавшейся литературой. Копия их была и у Достоевского.
Вот как в то время относились к мировоззрению, которое проповедует теперь Достоевский. Гоголь встретил энергическое сопротивление и не нашел последователей; между тем в настоящее время Достоевский, по-видимому, приобретал себе тем больше последователей и почитателей, чем определеннее, резче и яснее формулировалось и выражалось его мировоззрение. Странный факт. Пессимист мог бы увидеть в нем доказательство отсутствия в нас литературного роста и свидетельство того, что тогдашняя литературная публика была строже, требовательнее, чутче, догадливее и менее индифферентна и апатична, чем нынешняя. Гораздо вероятнее объясняется этот факт обаянием самой личности Достоевского, которому невольно поддавались даже люди несогласных с ним убеждений. Его искренность, глубина и сила убеждения, его энтузиазм и страстность, его пророческий вещий вид производили неотразимое впечатление на чувство, увлекавшее собою и отуманенный ум. Люди, слышавшие его московскую речь о Пушкине, при чтении ее в печати крайне изумлялись, каким образом могла произвести на них такое сильное впечатление эта речь, состоявшая большею частью из софизмов и громких фраз. Но это объяснение, вполне применимое к устным речам, мало применяется к печатным произведениям. В русской литературе есть роман, представляющий большую аналогию с романом «Братья Карамазовы» по тенденциозности – хотя тенденции их различаются как небо от земли, – по искренности, по силе и глубине убеждений, по страстности и энтузиазму. Однако все эти качества не служили ни малейшим смягчающим обстоятельством в глазах противников этого романа и его тенденций. На этот роман с неутолимым ожесточением нападали все те лица и направления, которые теперь так восторгаются искренностью и энтузиазмом «Братьев Карамазовых». Значит, тут дело не в одной искренности и энтузиазме, но и в самом содержании тенденции или мировоззрения.
Но как бы то ни было и чем бы ни объяснялось увлечение последними тенденциозными произведениями Достоевского и как бы ни было велико обаяние его личности, во всяком случае настоит серьезная необходимость разъяснить его тенденции и его мировоззрение и дать им отпор. Этого требует как уважение к Достоевскому, так и обязанность каждого перед своими собственными убеждениями. Голос Достоевского, к сожалению, уже умолк теперь навеки; но его произведения все еще живы, громко говорят и проповедуют, и, может быть, проповедь их стала еще действительнее вследствие горестного чувства утраты автора их, которому смерть навсегда сковала уста. Как бы мы высоко ни ценили Достоевского, во всяком случае Гоголь по крайней мере не ниже его как по своим личным качествам, по искренности и энтузиазму своих убеждении последнего периода, так и по своим заслугам для русской литературы, с которыми далеко не могут равняться заслуги Достоевского. И, однакоже, современники, при всем своем глубоком уважении к Гоголю, перестали его слушать, отвернулись от него и даже строго осудили его, когда он, подобно Достоевскому, стал проповедовать аскетическое смирение, слепое послушание и умерщвление своей личности. Едва ли был у Гоголя поклонник более горячий и ценитель более энтузиастический, чем Белинский, и, однакоже, посмотрите, как Белинский отнесся к Гоголю, когда последний сошел с своего пути и возвратился вспять.
Мировоззрение и тенденции Достоевского такого рода, что нет надобности подробно разбирать и опровергать их; достаточно только разоблачить их, разъяснить их настоящее значение, сделать им систематический свод и собрать в одну картину все существенные черты их, рассеянные по всему роману. Мы смеем думать, что в настоящей статье мы именно и сделали это. Чтобы не быть голословными и не подвергнуться упреку в голословности и произвольных навязываниях, мы не скупились на выписки из романа, рискуя даже чересчур удлинить этим свою статью. Поэтому в заключение мы сделаем только несколько общих замечаний об основной идее мировоззрения Достоевского.
По его представлению, в основании гражданского общества должна лежать и быть главным руководящим принципом как личной, так и общественной жизни и деятельности – религия, и притом не религия вообще, а известная, определенная религия, и даже не религия, а, еще частнее, – церковь и даже монастырь; другими словами, он держится направления, которое называется клерикализмом. Согласимся на минуту с этой идеей, примем религию за основание всей жизни. Религия есть вещь многосторонняя, и принципы ее тоже бывают различны; но, чтобы быть последовательным и логичным, не следует брать по произволу одну ее сторону, один принцип. А Достоевский между тем и поступает таким односторонним образом; из всей религии он берет только один принцип, именно аскетизм. Но и аскетизм в свою очередь бывает различный, а Достоевский и здесь поступил односторонне, взял только один из видов аскетизма. Это именно мистический аскетизм, то есть субъективный, созерцательный, платонический, аскетизм сидения на одном месте, без необходимости даже пальцем шевельнуть. Весь подвиг жизни, по этому аскетизму, состоит в том, чтобы предаваться спасительным созерцаниям и размышлениям, умерщвлять себя, отсекать потребности, бичевать свою волю, отречься от самого себя и осудить себя на слепое послушание, безропотно страдать и в страдании искать счастья, предаваться созерцательным восторгам и исступлен и ям. К этому старец Зосима присовокупил еще несколько крайне наивных, буколических заповедей в таком роде:
«Юноша, брат мой, у птичек прощения проси: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю, да было бы. Пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля, хоть бы и не видал и не слыхал тебя никто в уединении твоем. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои» (I, 501–505).
Вот видите, какие все вычурные да курьезные подвиги! Землю и птичек нужно окружить любовью, оплакивать слезами, а люди остаются в тени. Автор не знал или забыл, что существует еще другого рода аскетизм, гуманный, деятельный, практический, направленный не на птичек или на землю, а на людей, на так называемые дела человеколюбия или христианского милосердия. Не предаваясь созерцаниям и не сидя сложа руки, этот аскетизм исполняет следующие заповеди: «Алчущего напитати, жаждущего напоити, нагого одети, странника в дом вводити, посещати заключенных в темницах». Наверное можно сказать, что такого рода гуманный и человеколюбивый аскетизм более соответствует духу религии и христианства, чем бездейственное созерцание и смирение даже перед птичками, даже перед землею. Когда вечный судия будет судить людей на пороге вечности, то прежде всего потребует от них отчета в исполнении заповедей практического, а не мистического созерцательного аскетизма. Объективные дела важнее, чем субъективные душеспасительные размышления. Вспомните притчу о милосердном Самарянине. Человек, ограбленный и избитый разбойниками, лежит в беспомощном состоянии на большой дороге. Проходит мимо его «священник некий», кто-нибудь вроде Алеши Карамазова, и не обращает на него ни малейшего внимания. Затем проходит левит, уже самый правоверный человек, кто-нибудь вроде старца Зосимы, и тоже не обращает внимания на несчастного страдальца, вероятно в том расчете, что страдания для него благодетельны, что в них есть счастье. Наконец, идет неправоверный Самарянин, кто-нибудь вроде Ракитина, принимает живейшее участие в страдальце, доводит его до ближайшей гостиницы и отдает его на попечение гостинника, которому платит за это что следует. Признается, что лучше всех поступил Самарянин, что он как следует любит своих ближних. Об этом деятельном, гуманном аскетизме и помину нет ни у старца Зосимы, ни во всем романе. Так узко понимал автор религию и религиозный аскетизм!
Итак, автор неправ даже с его собственной точки зрения; он неверен тому принципу, которого держится. Но затем самая его точка зрения совсем неправа, и самый принцип его совершенно несостоятелен. Не разбирая этого принципа по существу, мы скажем только, что он идет вразрез с господствующим духом времени, с направлением науки и жизни, что он направляется против течения всей новой истории. Религия, или, в частности, церковь с монастырем и гражданское общежитие, или, пожалуй, государство, имеют хотя, может быть, и не противоположные, но во всяком случае строго различные задачи; они могут помогать друг другу, но не могут отождествить своих целей. Это уже элементарная азбучная истина современной истории. Церковь имеет в виду небо и вечность, а государство – землю и временную жизнь; для церкви земное благосостояние имеет мало значения, если оно не содействует вечному спасению, а для государства земное благосостояние есть единственная цель без всякого отношения к вечности. В то время когда умственное и гражданское развитие стояло на низкой ступени, церковь и государство сливались между собою, и церковь имела даже преобладающее, даже господствующее значение. Насколько гибельно было такое слияние – это хорошо известно Великому инквизитору; во всяком случае оно породило не меньше, если даже не больше, бед, чем сколько порождено их гордостью и превозношением ума. Весь прогресс умственной и государственной жизни в том именно и состоял, что она постепенно все больше и больше секуляризовалась, освобождалась от преобладающего влияния церкви и монастыря. Это освобождение стоило стольких тяжелых трудов и громадных усилий, что цивилизованное человечество слишком дорожит своим приобретением и по всем признакам не откажется от него, если только не остановится в своем развитии и не захочет идти назад к средним векам. Ставя религию и церковь в основу гражданского общества, мыслители, подобные Достоевскому, воображают, что в данном гражданском обществе существует только одна религия и церковь, подобно тому как существует один закон, один гражданский строй. Но ведь под покровом одного закона обыкновенно живет несколько религий и церквей, и если весь строй жизни будет регулироваться преобладающим или исключительным влиянием одной из них, то это будет несправедливостью относительно других, как было бы несправедливостью неравенство гражданского закона.
Еще неосновательнее основывать всю жизнь как частного лица, так и целого гражданского общества на одной только стороне религии, на монастыре и аскетизме, и притом только на одном виде аскетизма, теоретическом или субъективно-мистическом. «Отсекай потребности, бичуй волю, повинуйся и терпи, отрекись от своей личности, умри нравственно» и т. д. Но, спрашивается, во имя чего же и для какой цели будет это делать человек? Говорят, что это необходимо для его же собственного счастья, что это и есть та желанная и искомая реформа, которая улучшит сразу его частную и общественную жизнь. Но у многих людей такое понятие о счастье, что они ни за что не сочтут счастьем того, что покупается такою дорогою ценою, отречением от своей личности, так как самую эту цену они считают своим счастьем. Эта реформа тоже совершенно противна современному духу. Чем более развивалось человечество в умственном и политическом отношении, тем более оно ценило человеческую личность и ее самобытность. То же и в субъективном отношении: чем выше и развитее личность, тем более она дорожит своею самостоятельностью; чем сильнее ум, чем лучше понимает он великие деяния и подвиги ума, тем ревнивее охраняет он самостоятельность умственной деятельности и ее независимость от всякого другого контроля, кроме опыта и его собственных законов. В обществе, стоящем на низкой степени развития, люди охотно отказывались от своей воли и были рабами, если за ними обеспечивался кусок хлеба и вообще материальное содержание. Но возьмите образованных древних греков; они выше всего ставили личную и общественную свободу и независимость, для которых готовы были жертвовать не только куском хлеба, но всем своим состоянием, спокойствием и даже самою жизнью. В древнем Риме невежественная и развращенная столичная чернь охотно предлагала себя в рабы тому, кто даст ей хлеба и зрелищ; но более развитые и образованные римляне имели совершенно другие расположения и свои идеалы выражали в следующих изречениях, не потерявших своей обаятельности и до настоящего времени: potior visa est periculosa libertas quieto servitio или malo mori quam foedari. И в наше время есть люди, которые всегда готовы продать свою независимость и заложить свою волю, которые «предпочитают обеспеченную зависимость необеспеченной независимости», как выражается г. Энгельгардт о сельских батраках. Но такие люди не принадлежат к числу лучших и умных людей. Напротив, чем развитее человек, чем больше у него ума и характера, тем сильнее бывает он проникнут сознанием собственного достоинства, тем ревнивее оберегает свою личность и возмущается всяким подчинением ума и воли. Его идеал – не самоотречение и послушание, а самостоятельность и свободное самоопределение. Повторяем, аскетизм, требующий иезуитского повиновения и отречения, противен современному духу, современным понятиям и всем инстинктам образованного и развитого человека.
Во всех последних рассуждениях мы предполагали, что человек за свое самоотречение и послушание получает какую-нибудь плату, материальное обеспечение, спокойствие, удовольствия зрелищ и т. п. Но вообразите, что после того, как вы избичевали и свою волю и всю свою личность всякими послушаниями и собираетесь требовать за это должную награду, вам вдруг отвечают: «А ты лучше отсеки-ка свои потребности». В таком случае бичевание и самоотречение есть просто нелепость, недостойная не только разумного существа, но даже и животного. Говорят ведь, что звери и птицы предпочитают даже скудную, полуголодную свободу золотым клеткам, заваленным самыми привлекательными для них яствами.
Разбирать роман с эстетической точки зрения мы не станем. Мы признаем в нем весьма мало художественности, гораздо меньше, чем было ее в прежних произведениях Достоевского. Чтобы это наше суждение не показалось пристрастным и подсказанным нам нашим крайним нерасположением к тенденции романа, мы приведем отзыв об нем совершенно постороннего и совсем чужого человека, именно француза Ж. Флери, напечатанный в «Revue Politique et Litteraire».
«Отличительная черта всех действующих лиц у Достоевского – это абсолютное отсутствие логики. Каждый из них имеет свою теорию и воображает, что следует ей; они все утверждают, что имеют цель. Но этого ничего нет; они отдают себя на произвол событий; только каждый из них идет туда, куда толкает его натура. Такое отсутствие логики было и у самого Достоевского. Что портит все его романы и особенно последний – это совершенный недостаток цельности и единства. Автор берет свой сюжет только за один какой-нибудь конец. Когда ему представится любопытный характер или сцена, могущая сделаться интересною, то он и следит за этою попавшеюся ему жилою, не заботясь о целом; бесцельные рассуждения, бесполезные описания накопляются массами; какой-нибудь неожиданно появившийся эпизод принимает громадные размеры и надолго отвлекает внимание от главного предмета. Вследствие этого некоторые читатели бросают книгу, не дочитавши ее до конца. Более бесстрашные и более благоразумные читают ее с перерывами, от времени до времени откладывают ее в сторону, чтобы снова приняться за нее потом. Другой не менее существенный недостаток тот, что Достоевский все доводит до крайности, до излишества. Его лица нарисованы строго и дышат реальностью; но все они как будто поражены какою-нибудь умственною болезнью, которая позволяет им видеть вещи только в одном направлении. Большая часть из них маниаки, каждый в своем роде. Его психология есть часто психиатрия, и чтение его сочинений производит иногда впечатление кошмара. Третий недостаток, являющийся только в произведениях последней эпохи, есть злоупотребление политическими рассуждениями и мнениями о злобах дня, слишком часто прерывающими рассказ».
С этим мнением, не представляющим, впрочем, ничего нового и оригинального, согласится каждый, имевший терпение осилить рассмотренный роман. Это мнение даже снисходительно, потому что в него не внесен еще один недостаток романа – это совершенная неестественность его лиц и их действий.