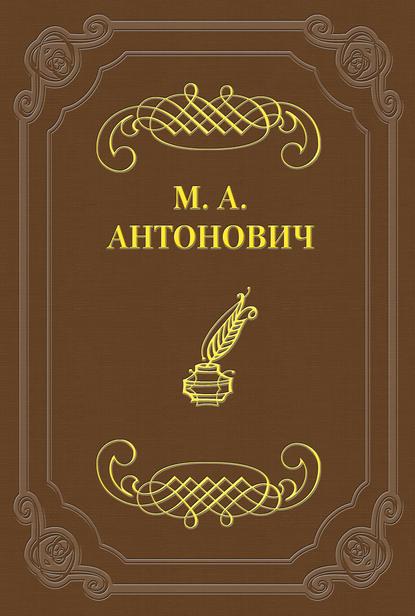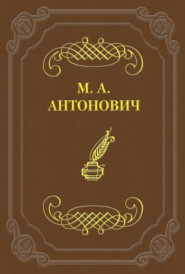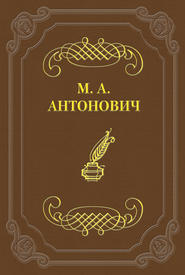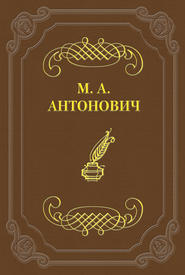По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мистико-аскетический роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мистико-аскетический роман
Максим Алексеевич Антонович
«Всем, конечно, известны и всем, вероятно, даже надоели так часто повторявшиеся в реакционной квиетистической печати жалобы на литературную критику шестидесятых годов за то, что она будто бы губила литературные дарования, сбивала с толку, направляла на ложный путь и уродовала беллетристические таланты. Литературная критика добролюбовской школы, гласят эти жалобы, отрицая чистое искусство и игнорируя требования и условия художественности, ставила прежде всего и выше всего мысль художественного произведения и притом не идею в ее общем отвлеченном значении, независимо от времени и обстоятельств…»
Максим Алексеевич Антонович
Мистико-аскетический роман
Всем, конечно, известны и всем, вероятно, даже надоели так часто повторявшиеся в реакционной квиетистической печати жалобы на литературную критику шестидесятых годов за то, что она будто бы губила литературные дарования, сбивала с толку, направляла на ложный путь и уродовала беллетристические таланты. Литературная критика добролюбовской школы, гласят эти жалобы, отрицая чистое искусство и игнорируя требования и условия художественности, ставила прежде всего и выше всего мысль художественного произведения и притом не идею в ее общем отвлеченном значении, независимо от времени и обстоятельств, а именно узкую, специальную мысль, имеющую прямое, непосредственное отношение к данному времени и данным местным обстоятельствам. Она напевала, твердила, внушала, даже повелительно требовала, чтобы словесные художники в своих произведениях непременно преследовали практические прикладные цели, занимались злобою дня, политическими и общественными вопросами и непременно с целью разрешения их в известном, определенном смысле, согласно с общим направлением автора и с стремлениями той школы или практической партии, к какой принадлежит автор. Она догматически провозглашала как непреложную истину, что искусство должно служить жизни, что художество есть только особенная, более легкая форма для выражения того, что проповедует и распространяет публицистика. Художники, подчинившиеся влиянию этой школы, сами на себя накладывали путы: вместо того чтобы предоставить полный простор своему таланту, ничем не стеснять его полета, во время которого он мог бы собирать всевозможные материалы, руководясь единственно своим художественным инстинктом, они рабски держались узкой тенденции, смотрели на все сквозь призму ее и старались насильственно подгонять к ной свои повествования. Эта тенденциозность губила всякую художественность и создавала в беллетристических произведениях неестественность, деланность, вымученность. Эти произведения были побасенками, выдуманными для проведения тенденциозной морали.
Справедливы ли эти обвинения, или нет – мы этого здесь разбирать не будем. Мы желаем только обратить внимание на тот факт, что тенденциозные художественные произведения существовали, существуют и будут существовать у нас и помимо влияния добролюбовской школы, что они вызываются не только влиянием критики, но еще и другими причинами, что тенденциозность встречается и у тех писателей, которые могут быть названы общепризнанными, патентованными художниками. Что такие произведения есть теперь – доказательством может служить роман, разбором которого мы намерены заняться.
Достоевский принадлежит к числу тех наших, так сказать, дореформенных художников, на которых не имела никакого влияния критика добролюбовской школы. Талант Достоевского развился, окреп и установился еще до Добролюбова, и к критике последнего Достоевский всегда относился отрицательно. Да по своему огромному самомнению он и не способен был принимать к сведению замечания критики и пользоваться ее указаниями. Значит, критика шестидесятых годов нимало не повинна в тех фазах развития, через которые проходил талант Достоевского и характер его литературного творчества.
С самого начала Достоевский был истым художником, представителем искусства для искусства. В первых его произведениях до шестидесятых годов не было заметной тенденциозности. Правда, Добролюбов в большинстве типов, изображенных в этих произведениях, нашел общую мысль, общую всем им черту и всех их отнес к категории «забитых людей», у которых пострадало человеческое достоинство. Но эта мысль принадлежит самому Добролюбову, а не Достоевскому, который вовсе не задавался этой мыслью и брал для изображения типы, руководствуясь не какими-нибудь соображениями и целями, а художественным инстинктом или тактом, и он, вероятно, сам удивился, когда ему сказали, что его типы в большинстве принадлежат к категории забитых людей в смысле Добролюбова. Но чем дальше, тем произведения его становились все тенденциознее, и тенденция их направлялась в сторону «Русского вестника» до такой степени заметно и явственно, что другие журналы, печатая его произведения, конфузились, извинялись, делали оговорки. Наконец, последнее произведение его, которое мы имеем в виду рассмотреть, есть верх тенденциозности; его как-то странно и называть романом. Это трактат в лицах; действующие лица не разговаривают, а произносят рассуждения и притом большею частью на одну и ту же, очевидно излюбленную автором, тему теологического или, лучше, мистико-аскетического свойства. Эту тему единодушно развивают действующие лица: монахи и миряне, старцы и юноши, мужчины и женщины, господа и лакеи, добродетельные люди и закоренелые грешники. Но, не довольствуясь этим, автор приложил к своему роману всерьез, взаправду несколько важных и глубокомысленных трактатов мистико-аскетического содержания под псевдонимом старца Зосимы. Роман с приложением аскетических поучений – да ведь это несообразность, нелепость! Но с точки зрения тенденциозности эта несообразность, эта нелепость естественна и понятна. Для автора самое главное мысль, тенденция, а роман второстепенная вещь, оболочка, fa?on de parler; он старается провести свою мысль всеми мерами, всеми правдами и неправдами, и, боясь, что читатель сам не увидит и не поймет этой мысли в аллегории романа, он пересыпает аллегорию трактатами, которые уже прямо должны наводить читателя на тенденцию романа. Автор, вероятно, вовсе не прибег бы к аллегории романа и изложил свою мысль только в трактате, если бы был уверен, что трактат так же сильно подействует на читателей и с таким же увлечением и азартом будет читаться и в том случае, если он не будет подправлен и сдобрен разными романтическими снадобьями и художественным перцем.
Словом, тенденциозность романа не подлежит ни малейшему сомнению. А чтобы лучше уразуметь тенденцию, составляющую сущность романа, нам следует припомнить направление или – так как это слово почему-то многим теперь не нравится – мировоззрение автора его. Достоевский, возвратившись к литературной деятельности после невольного ужасного литературного бездействия, описанного им потом под видом пребывания в «Мертвом доме», пристал к той литературной партии или школе, которую можно назвать левым славянофильством. Это было особого рода славянофильство, не столь крайнее, как московское, но гораздо менее ясное и определенное, чем последнее; оно было похоже на тот вид славянофильства, который исповедовали Шевырев, Погодин, вообще «Москвитянин». На самом левом конце этого направления стоял А. Григорьев, неопределенный мечтатель и художественный мистик, одною своею стороною даже соприкасавшийся с западничеством. Вот в этом славянофильствующем направлении Достоевский и вел вместе с своим братом Михаилом последовательно два журнала – «Время» и «Эпоху». На знамени этих журналов было написано и девизом их было: «Мы оторвались от почвы, то есть от простого народа, и улетели в облака; поэтому мы должны спуститься на землю, возвратиться к почве». В чем должно состоять такое возвращение к почве, этого журналы совсем не разъясняли. Но в то время многим, а в том числе и нам лично, это возвращение казалось очень подозрительным. Впоследствии эти подозрения оправдались, когда Достоевский своею беллетристическою и публицистическою деятельностью обнаружил и разъяснил, в чем должно состоять возвращение к почве. В политическом и общественном отношении путем для этого возвращения должны служить принципы князя Мещерского, развивавшиеся в «Гражданине», деятельным сотрудником которого был Достоевский. А затем возвращение к почве приняло другую форму. Достоевский бросил всякую политику и общественность, отложил в сторону всякие житейские вопросы, а ударился в субъективность, зарылся в самую глубину души, в ту таинственную область, где гнездятся восторженная вера, всерешающая мистика и созерцательный самозаключенный аскетизм. Вот в эту-то область и увлекает Достоевский всякого интеллигентного человека, витающего в облаках и желающего возвратиться к почве.
Подробности этого кульминационного пункта в развитии мировоззрения Достоевского таковы в их общих чертах. Русский простой необразованный народ есть самый религиозный народ в мире; он стоит на самой высшей степени религиозного совершенства и духовного просвещения, так что для него не нужно никакое мирское просвещение. Русский народ есть «народ-богоносец», как выражается старец Зосима, псевдоним Достоевского. Просвещение есть свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце; и Достоевский уже прямо от себя утверждает, что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть (?) Христа и учение его», что хотя наша земля и нищая, но ее всю «исходил, благословляя, Христос». Кроме общей религиозности, русский простой народ отличается еще особенною любовью и уважением к мистицизму и аскетизму, к усиленным подвигам поста, послушания, целомудрия и всяких других родов умерщвления греховной плоти – словом, к тем подвигам, которые практикуются в монастырях и скитах. «От народа спасение Руси», говорит псевдоним Достоевского; «русский же монастырь искони был с народом». Из этих двух посылок силлогизма всякий, даже не учившийся в семинарии ни Barbara-м, ни Celarent-ам, сразу выведет заключение: следовательно, спасение от монастыря. Европейское же просвещение и образование в этом отношении диаметрально противоположно духу простого русского народа; оно неизбежно ведет к неверию, к самомнению, к умственной кичливости, к превозношению и гордыне; оно порождает равнодушие, холодность и даже презрение к аскетизму, к посту, целомудрию и умерщвлению плоти, а тем самым отчуждает от спасительного монастыря. Поэтому, если русский человек захочет умственно развиться и получить научное европейское образование, то он вместе с образованием незаметно всасывает яд неверия, умственной гордыни и отчуждения от монастыря, – словом, отрывается от почвы. Вследствие этого-то русская интеллигенция так бессильна и бесплодна. Все ее построения не имеют фундамента и стоят на песке; все ее заботы, все ее планы об устройстве или улучшении общественных отношений и об облегчении участи простого народа оказываются напрасными и не достигают цели. И это будет продолжаться до тех пор, пока интеллигенция не возвратится к почве, к простому народу. И путь этого возвращения после вышесказанного ясен сам собою.
Интеллигенция должна отказаться от своего просвещения, должна отвергнуть зловредное европейское образование, отречься от него, смирить свою гордость и свой ум, овладеть собою, «подчинить себя себе»; а самое лучшее средство для этого – отправиться в монастырь и выбрать себе в руководители какого-нибудь старца, отдаться в его полное распоряжение, быть у него на послушании, отречься от своей воли и предаться его воле во всем, как это и сделал один из героев романа, Алеша Карамазов – самое любимое детище автора. Тогда только интеллигенция, смирив самолюбивую и гордую волю, найдет правду в себе, достигнет истинной свободы духа и осуществления всех тех своих стремлений, которым она безуспешно старалась удовлетворить беспочвенными гражданскими идеалами и заботою о злобе дня. Приблизительно через такой же цикл развития прошел лично сам Достоевский. «Не говорите же мне, – восклицает он в своем „Дневнике“ за прошлый год, – что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в европейского либерала». Убедить и других последовать тем же путем, то есть бросить всякие гражданские идеалы, всякие мирские злобы дня, и искать свободы и правды только внутри себя и притом по указаниям и под руководством монастыря и скитских старцев, – такова мысль, такова цель, такова тенденция как романа «Братья Карамазовы», так и речи Достоевского о Пушкине и его полемики по поводу этой речи.
Да ведь это все та же старая песня, скажет читатель, которую мы слышим и слышали столько раз! Совершенно верно. Это даже не новая вариация на старую тему, а просто та же старая тема, которую всегда развивали и развивают все обскуранты и ретрограды, противящиеся всяким улучшениям во внешнем быте и общественном положении и состоянии людей, та же старая песня, которую тянули старые и тянут теперь новые славянофилы, та же песня, которую Лазарем распевал Бурачек в «Маяке» и в своих отдельных брошюрках, выходивших в 60-х годах, которую лицемерно и фальшиво пел Аскоченский, которую элегантно исполняют разные великосветские Редстоки и Пашковы, и, наконец, та же старая песня, которую по воле какой-то злой судьбы запел под конец своей жизни и наш бессмертный Гоголь в своей злосчастной «Переписке с друзьями». В своей «Авторской исповеди» он провозгласил, как аксиому, следующее положение: «Верховная инстанция всего есть церковь (как у Достоевского монастырь), и разрешение вопросов жизни в ней». Во многих пунктах Гоголь и Достоевский буквально сходятся между собой; например, оба они восстают против гордыни ума и превозношения науки и рекомендуют смирение и покорную веру; оба они прославляют простой русский народ, как самый религиозный в мире, и т. п. К счастью для русской литературы, Гоголь не омрачил ни одного из своих художественных произведений этой тенденцией; он не произвел ничего, после того как в нем совершился поворот к мистическому аскетизму. Духом своих произведений он был недоволен; но уже ничего не мог поделать с ними и с сожалением вспомнил русскую пословицу: «Слово как воробей, выпустивши его, не схватишь». Зато он с удовольствием сжигал все, что еще не было выпущено и оставалось только в рукописи. Достоевский поступил иначе; он внес свою тенденцию в свои художественные произведения; он продолжал свою художественную деятельность и после того, как в его мыслях совершился окончательный поворот к мистическому аскетизму. Не довольствуясь публицистической пропагандой своего мировоззрения, он стал пропагандировать его и своими романами. Сочинения Гоголя, если от них отнять «Переписку» и «Исповедь», останутся цельным перлом без пятен и трещин, стройным организмом, который оживлен одним общим духом, одною господствующею идеей. Сочинения же Достоевского, если даже исключить из них публицистические статьи и речи и «Дневник», будут представлять разнохарактерную смесь, крайние члены которой проникнуты различным духом и одушевлены неодинаковыми тенденциями.
Уже давно, со времени критики Добролюбова, сделалась избитым общим местом та мысль, что Достоевский есть художник униженных и оскорбленных или забитых людей, в которых, однако, сохранилась искра сознания человеческого достоинства, по временам вспыхивающая слабым протестом, что в его художественных произведениях звучит постоянно струна гуманности, любви к страждущим, даже к преступникам, в которых художник признавал людей, своих ближних. Такая характеристика совершенно неприменима к его последнему произведению. В «Братьях Карамазовых» вместо гуманитарного элемента выступает элемент теологический или мистико-аскетический. Здесь нет всепрощающей любви ко всем и ко всему, а есть строгий, неумолимый аскетический ригоризм, сурово анафемствующий всех отверженцев, отмеченных печатью высшего проклятия. Подобно всем теологическим зелотам, художник обнаружил здесь крайнюю нетерпимость ко всякому иноверию, ко всякому разногласящему мнению. К внешним практическим действиям он снисходителен и гуманно терпим; но он безжалостен к иноверию, а тем паче к безверию. Он простит самое страшное внешнее преступление, но в нем не найдется и капли жалости к самому безобидному теологическому сомнению, а тем более отрицанию. Достоевский в своем последнем романе поступает совершенно так же, как в басне Крылова те адские Мегеры, которые снисходительно отнеслись к грабителю по большим дорогам и разбойнику и, напротив, безжалостно осудили на неугасаемый огонь и вечные усиленные муки писателя, который «вселял безверие» и даже «величал безверие просвещением». В этом романе мы уже не видим оскорбленных и униженных или забитых, за исключением разве штабс-капитана Снегирева, который несколько напоминает прежние излюбленные типы Достоевского. Здесь люди рассматриваются и классифицируются с другой, совершенно особой точки зрения: одесную избранные овцы, а ошую отверженные козлища. Настоящих людей с плотью и духом, со смесью добра и зла здесь нет, а есть только с одной стороны святые, праведники, стоящие выше всяких человеческих слабостей, словом, ангелы во плоти, обязанные всем своим величием и своею праведностью своей твердой, ясной, несомневающейся и неколеблющейся вере, а с другой стороны нераскаянные и непробудные грешники, сомневающиеся и неверующие и вместе с верой потерявшие всякую духовную любовь, стыд и совесть, всякую нравственность, всякое человеческое подобие, – словом, воплощенные дьяволы, с наслаждением предающиеся злу и сеющие его повсюду.
К числу праведников принадлежат следующие лица в романе.
Если не первый, то второй герой романа, Алеша Карамазов, самый младший из трех братьев, ангел во плоти, так что братья так-таки прямо и называли его «ангелом», «херувимом». С самой ранней юности он возлюбил благочестие и бегал блуда и блудных помыслов, или, как выражается автор, «в нем была дикая, исступленная стыдливость и целомудренность; он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин». Даже юные сверстники его, гимназисты, несмотря на все старания, не могли всеми своими соблазнами поколебать его исступленной целомудренности, и когда они начинали заговаривать «про это», то он быстро затыкал уши пальцами. С юности же он возлюбил иноческое житие, убежал от мира и его соблазнов и поступил в обитель, где подвизался великий и благочестивый старец Зосима, и отдал себя в послушание ему. Старец же зело возлюбил богобоязненного юношу, сделал его своим наперсником и достойным сосудом, в который изливал свои благочестивые аскетические поучения; и юноша усердно записывал эти приснопамятные поучения, чтобы сохранить их для потомства. Они напечатаны в конце 1 тома романа, где занимают 30 листов, или, выражаясь по-мирскому, 60 страниц, несомненно определяя физиономию романа. Подобно старцу Зосиме, юношу послушника Алексия любили все добрые и благочестивые люди; куда бы он ни являлся, всюду вносил мир, любовь, благодать, добрые помыслы и исправление; уже один внешний лик его производил благотворное действие даже на грешников. Так, например, был такой случай. Некоей благообразной и благолепной блуднице, Грушеньке, жившей на блудном иждивении у купца Самсонова, диавол вложил в сердце мысль искусить и обольстить своими плотскими прелестями юного инока, вовлечь его в блуд и тем учинить «позор праведного» и «падение из святых во грешники». Для сего она подкупила своего родственника, семинариста Ракитина, за 25 руб., чтобы он привел к ней послушника Алексия. Но едва только она узрела образ Алексия и услышала сладкий глас его речи, как сатанинский умысел отлетел от ее сердца; она чистосердечно исповедалась перед ним в своем грехе, созналась, что «хотела его поглотить», и просила у него прощения. Он простил, а она, тронутая его праведностью, исправилась и с того времени стала добродетельной и самоотверженной женщиной. Откуда же и каким образом развилась в Алеше Карамазове такая сила благочестия и чудодейственного нравственного влияния?
Личность Алеши, как и все другие личности в романе, крайне бледна, неестественна, неопределенна и непонятна; это просто авторское сочинение, фантазия. Чтобы убедить нас в действительности или даже в возможности существования такого удивительного лица, автору следовало показать нам процесс его развития, закончившийся благочестием и поступлением в обитель послушником. Но этого не сделано, и нам благочестие и пустынножительство Алеши представляется врожденным, унаследованным от предков. Но от отца, Федора Павловича Карамазова, он не мог получить такого наследства, так как этот был во всю свою жизнь нераскаянным грешником, отчаянным блудодеем и неудержимым сладострастником. Остается приписать это наследство матери. Намек на это есть и в романе: описывается, что в душе Алеши глубоко запечатлелось воспоминание из самого раннего детства о том, как мать его с молитвой и слезами судорожно сжимала его в своих объятиях и потом подносила его к образу богоматери, как бы отдавая свое детище под ее защиту и покров. Но это обстоятельство хотя и могло иметь свое значение, однако оно не объясняет благочестия и заключения в монастырь. А затем автор ограничивается только фразами о том, что Алеша узнал и понял мирскую злобу и душа его рвалась к свету, который нашла в монастыре, и ни слова не говорит о том, какие именно вопросы волновали ум этого Алеши, не окончившего курс гимназиста, какие явления особенно поразили его и раскрыли для него всю бездну мирской злобы. Вот его собственные слова:
«Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец (?), и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо – нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неутолимого сердца» (т. I, 33). «Скажут, может быть, что Алеша был туп, не развит, не окончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторяю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же естественно сказал себе: „Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю“» (I, 46).
Но как бы то ни было и от каких бы то ни было причин, а Алеша полюбил пустынножитие и всею душою прилепился к старцу Зосиме и пребывал с ним до самой его смерти. Перед смертью в виде послушания старец повелел ему оставить обитель и благословил его снова возвратиться в мир с его злобой, что свято и исполнял, и здесь в мире завел было даже любовное дело и начал переписку с девицей Lise Хохлаковой, получившей исцеление от старца Зосимы; но дело это, впрочем, осталось без последствий. Жизнь нашего человеколюбца в мире для бессмертия состояла в следующих человеколюбивых подвигах: он был поверенным своих двух старших братьев, Ивана и Димитрия Карамазовых, снисходительным и терпеливым слушателем всех их диких, беспорядочных, но горячих признаний, излияний, откровений, мечтаний, исповедей и порывов, посредником или фактором в их сношениях с их возлюбленными; претерпел укушение пальца на руке от Илюши, сына упомянутого штабс-капитана Снегирева, в отмщение за то, что его брат Димитрий публично и всенародно в трактире и на площади прибил и опозорил этого штабс-капитана, вырвавши у него бороду; дал этому штабс-капитану денежное (200 руб.) и моральное удовлетворение за обиду, нанесенную братом; примирил с этим Илюшей подравшихся было с ним его товарищей-гимназистов, с участием посещал болящего Илюшу, присутствовал на его погребении и сказал над могилой его поучительное слово. Все это, конечно, такие подвиги, для совершения которых далеко не требовалось «жертвовать жизнью». Других же подвигов в романе не видно никаких. А между тем, судя по той торжественности, с какою старец Зосима посылал в мир Алешу на борьбу и подвиги, по его грозным предсказаниям, мы вправе были ожидать от Алеши чего-нибудь большего, кроме факторства и хождения по любовным делам братьев. Вот с какими заповедями Зосима посылал Алешу из обители в мир:
«И знай, сынок, – старец любил его так называть, – что и впредь тебе не здесь место. Запомни сие, юноша, как только сподобит бог представиться мне, и уходи из монастыря. Совсем иди. – Алеша вздрогнул. – Чего ты? не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудеши (NB). А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобою Христос. Сохрани его, и он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Работай, неустанно работай. Запомни слово мое отныне, ибо хотя и буду еще беседовать с тобою, но не только дни, а и часы мои сочтены. В лицо Алеши опять изобразилось сильное движение. Углы губ его тряслись» (I, 125–126).
Другой инок, отец Паисий, напутствовал Алешу в мир так:
«Помни, юный, неустанно, что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде, и врата адовы не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыблемо! Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. Запомни сие особенно, юный, ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим. Может, вспоминая сей день великий, не забудешь и слов моих, ради сердечного тебе напутствия данных, ибо млад еси, а соблазны в мире тяжелые и не твоим силам вынести их. Ну, теперь ступай, сирота» (I, 267–270).
Вообще фигура Алеши крайне неопределенна в романе, а при сопоставлении ее с приведенной миссией старца Зосимы, святотатственно скопированной с известной евангельской беседы, представляется даже жалкой и комической, хотя, повторяем, этой фигуре принадлежат все симпатии автора.
Но самый великий праведник в романе – это старец Зосима, все его поклонники уже при жизни считали его святым. Вся его богоугодная деятельность состояла в аскетических поучениях и моральных благотворениях. Он был прибежищем, духовною опорою и утешением всех страждущих, обремененных, скорбящих и озлобленных и помощи требующих. Все верующие, всех возрастов, званий и состояний и обоих полов, доверчиво, искренно и чистосердечно раскрывали перед ним свой ум и сердце, свои сомнения и недоумения, свои духовные нужды и печали, свои прегрешения и греховные помыслы. И всех святой старец удовлетворял и успокаивал, и никто не уходил от него без облегчения и душевного умиротворения. «Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое» (I, 51). «Богомольцы стекались к нему со всех сторон. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их» (I, 52–53). Вот приходит баба и плачет об умершем сынишке; старец и говорит ей, что «младенцы пред престолом божиим дерзновенны и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном», что поэтому ее младенец находится «в ангельском чине», есть «единый от ангелов божиих», а следовательно, она должна не плакать, а радоваться, идти домой к мужу и беречь его. Баба совершенно успокоилась и весело отправилась домой, сказавши: «Сердце ты мое разобрал». Другая баба сообщила ему на ухо какой-то грех; он, узнав, что она исповедалась и приобщилась, сказал ей: «Ничего не бойся, и никогда не бойся и не тоскуй; только бы покаяние не оскудевало в тебе – и все бог простит» и т. д. Является, наконец, великосветская «маловерная дама», Хохлакова, мать упомянутой, исцеленной старцем Lise, исповедуется, что она страдает неверием не относительно бога, а относительно будущей жизни, и это ее мучит. Старец рассеял ее сомнения, успокоил ее, сказав, что уже много значит одно сознание ею своего греха и скорбь об нем и т. д.
Вообще благотворения великого старца, равно как и его поучения, имели чисто духовный, теоретический, так сказать, платонический характер; старец был, что называется, созерцательный мистический аскет. О деятельном же, практическом аскетизме ни о. Зосима, ни его автор не имеют ни малейшего понятия. Больше всего доставалось старческих поучений на долю окружающих его лиц, именно, кроме Алеши, еще о. Паисия и о. Иосифа, ученого монастырского библиотекаря и многих других лиц из монастырской братии. Соберутся они, бывало, в келии старца и начнут вести мудрую беседу о божественных предметах или хоть о земных предметах, но с божественной точки зрения; решающий голос всегда, конечно, принадлежит старцу, он всех поучает. Эти его поучения также изложены подробно в разных местах романа. Иногда на этих беседах обсуждались брошюры и статьи по разным современным вопросам, например, об отношении между церковью и государством, о суде гражданском и церковном. Зосима купно с другими иноками решил, что на Западе, у лютеран и католиков, церковь исчезла, а сохраняется только у нас, что идеал общества и государства есть превращение их в церковь (в этом пункте иноки сходятся с нашим мистиком-философом г. Соловьевым), что гражданский суд совершенно неудовлетворителен и останется таким, пока не будет заменен судом церкви.
«Царство небесное, – говорил отец Паисий, – разумеется, не от мира сего, а в небе; но в него входят не иначе, как чрез церковь, которая основана и установлена на земле. Церковь же есть воистину царство, и определена царствовать, и в конце своем должна явиться как царство на всей земле, несомненно, на что имеем обетование… По иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве за то как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, – и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди!.. Там, на Западе, церквей уже и нет вовсе, говорил отец Зосима, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство. А потому сам преступник членом церкви уж и не сознает себя и, отлученный, пребывает в отчаянии. Во многих случаях, казалось бы, и у нас то же; но в том и дело, что, кроме установленных судов, есть у нас сверх того еще и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим несомненно, инстинктом души его, признаваемый… Правда, усмехнулся старец, теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведных; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преображения из общества, как союза почти еще языческого, во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться» (I, 101–108).
Старец Зосима был даже провидцем и многое пророчествовал. Одна вдовица, долго не получавшая известий от сына, хотела его поминать за упокой и пришла посоветоваться со старцем, который уверил ее, что сын скоро приедет или письмо пришлет. И действительно, сын скоро приехал. Однажды старец ни с того ни с сего поклонился в ноги Димитрию Карамазову, во время ссоры его с отцом в присутствии старца. Вое недоумевали, что это значит; но старец сказал по секрету Алеше: «Я поклонился его великому будущему страданию». Это оракульское изречение скоро разъяснилось и оправдалось: Митя Карамазов безвинно пострадал. Вследствие этого поклонники о. Зосимы считали его еще при жизни формально святым и с уверенностью ожидали, что тотчас же после смерти он начнет творить чудеса, что от тела его немедленно станет исходить благоухание. Но эти надежды не оправдались, и тело Зосимы вскоре после смерти начало издавать на благоухание, а зловоние, или, как выражается автор для эвфемизма, «тлетворный дух», что глубоко и неприятно поразило Алешу. Автор очень подробно останавливается на этом чувстве юного послушника, которое, по его словам, составило в душе его «перелом и переворот, потрясший, но укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели». Автор посвятил много страниц в романе на то, чтобы разъяснить истинный смысл этой скорби Алеши и доказать, что в ней не было ничего предосудительного. Автор горячо заверяет, что скорбь Алеши о «тлетворном духе» от тела о. Зосимы не была легкомысленным и нетерпеливым ожиданием чудес, которые были бы нужны для укрепления его в вере, а проистекала только из горячей любви к почившему старцу, не была ропотом на бога, а проистекала из желания высшей справедливости, которая требовала, чтобы тело старца было прославлено благоуханием, а не низвержено и опозорено тлетворным духом, и т. д. и т. д. Словом, автор пустился здесь в такую казуистику и схоластику, что обыкновенному не просвещенному мистикой человеку и не понять его аргументации.
Третьим праведником в романе или по крайней мере принадлежащим к десной стороне овец был брат Алеши, Димитрий Карамазов. Это был человек нрава буйного и неукротимого, кутила, безобразник и дебошир, отличался, вероятно, унаследованным от отца сладострастием и склонностью к блуду. Но при всем том это был человек верующий, имевший в сердце бога и совесть и потому любивший и уважавший Алешу, откровенно каявшийся перед ним во всех своих прегрешениях и сгоравший желанием исправиться и начать новую, вполне богобоязненную и благочестивую жизнь. Он был страстно влюблен в упомянутую Грушеньку, которая имела поразительное сходство с ним в нравственном отношении, так как, несмотря на свое блудное сожительство с купцом Самсоновым, она все-таки была женщина верующая, имела в сердце бога и совесть, любила и почитала Алешу и старцу Зосиму каялась в своих согрешениях и желала исправления. Первоначально она была влюблена – странно сказать – в поляка, пана Муссяловича, который в изображении его автором очень напоминает пана Копычинского в «Юрии Милославском»; и этот представлен таким же глупым, пошлым и трусливым, каким изображен у Загоскина тот. Сопоставив пана Муссяловича с Митей Карамазовым, Грушенька сразу почувствовала презрение к негодному полячку, отдала предпочтение Мите и любила его всецело и безраздельно до самого конца романа.
Этому Мите Карамазову посвящена большая часть романа, так что его можно считать главным героем. Несмотря на дебоширство и сладострастие, несмотря на то, что и он тоже не кончил гимназии, Митя был замечательным религиозным философом и мистиком, и многие его суждения буквально были согласны с поучениями старца Зосимы, хотя из романа не видно, чтобы он слышал или читал их. Большею частью он изливал свою душу и делал откровения перед Алешей, и эти излияния были до того беспорядочны и дики, до того бурны и энтузиастичны, что автор заставлял его в это время попивать коньячок, чтобы излияния казались естественнее. Он говорит о себе, что как бы ни пал он глубоко и позорно, но в нем все-таки сохранится искра божия, и самое падение послужит для восстания.
У Мити была невеста Катерина Ивановна, однажды вручившая ему для отсылки кому-то три тысячи рублей, которые он утаил и растратил. Затем он изменил невесте для Грушеньки; но он не хотел остаться подлецом перед невестой и решил во что бы то ни стало достать где-нибудь три тысячи и возвратить ей. Но, несмотря на все поиски и попытки, он нигде не достал денег; и к этому горю его прибавилось другое: Грушенька отправилась к своему прежнему возлюбленному, пану Муссяловичу; Митей овладело отчаяние, и он решил покончить с собой; но предварительно он хотел последний раз свидеться с Грушенькой. При этом свидании оказалось, что она вовсе не любит Муссяловича и даже презирает его, а всей душой предана Мите, который до того этому обрадовался, что бросил мысль о самоубийстве и стал мечтать о счастливой и добродетельной жизни с Грушенькой. Но одно неожиданное обстоятельство разрушило вконец его мечты.
Как раз в самый вечер счастливого свидания Мити с Грушенькой был убит отец Карамазов, и автор так ловко придумал все обстоятельства убийства, что подозрение в убийстве пало на Митю, совершенно неповинного. Митя был арестован и предан суду. Здесь-то и обнаружилось все величие души Мити, вся глубина его веры и преданности промыслу. Для славы божией и для искупления своих прежних грехов он решился пострадать безвинно. Кроме того, однажды он видел во сне страдающее дитя или «дитё», и с тех пор его постоянно мучила мысль, отчего, почему и для чего страдает дитё и чем может быть искуплено его страдание. Вот теперь он решил кстати заодно пострадать и для искупления страданий этого дитё. Представлялось здесь ему несколько искушений, но он устоял перед ними. К нему в тюрьму повадился ходить Ракитин, семинарист-безбожник, чтобы выпрашивать у него денег, а вместе с тем чтобы поколебать его веру и совратить в безбожие, – и с этою целью толковал ему, что душа и весь духовный мир – это одна химия и нервные хвостики, в подтверждение чего ссылался почему-то на авторитет Клод Бернара, совершенно неизвестного как Мите, так, вероятно, и его автору. Но дьявольские наветы семинариста только временно смутили, а вовсе не поколебали Митю. Затем брат его, Иван Карамазов, предлагал ему для уклонения от суда и наказания бежать в Америку; он же отверг и это искушение. Но предоставим самому Мите изложить его планы и рассказать об его искушениях.
«И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но и я целую край той ризы, в которую облекается бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть» (I, 172).
«Господа, – сказал Митя следователям, постановившим заключить его под стражу, – все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех – пусть уж так будет решено теперь – из всех я самый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь! Ведь может быть и очищусь, господа, а? Но услышьте, однако, в последний раз: в крови отца моего неповинен» (II, 283).
«Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе (Алеше) душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! Что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, – не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замерзшее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить, наконец, из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое страдание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много. Их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось „дитё“ в такую минуту? „Отчего бедно дитё?“ „Это“ пророчество мне было в ту минуту! За „дитё“ и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех „дитё“, потому что есть малые и большие дети. Все – „дитё“. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! Мне это здесь все пришло… вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подземных-то, с молотками в руках. О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость, это его привилегия, великая… Господи, истай человек в молитве! как я буду там под землей без бога? Врет Ракитин: если бога с земли изгонят, мы под землей его сретим! каторжнику без бога быть невозможно, невозможнее даже, чем не каторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость! Люблю его» (II, 410–411).
«А меня бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? тогда если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога, ну, это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину; „ты, говорит он мне сегодня, о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями“. Я ему на это и отмочил: „А ты, говорю, без бога-то, сам на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку“. Рассердился. Ибо что такое добродетель? Отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, у китайца другая – вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный. Ты не засмеешься, если скажу, что две ночи не спал я от этого. Я удивляюсь только тому, что люди так живут и об этом ничего не думают» (II, 412).
«Брат Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю: все предупреждено, все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу! Ну, как ее там ко мне не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без Груши что я там под землею с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание – отверг указание, был путь очищения – поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке „при добрых наклонностях“ можно больше пользы принести, чем под землею. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятья убежал! Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто, для других это глупости, бред, вот все то, что я тебе про гимн говорил. Скажут – с ума сошел аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак» (II, 416).
Решение Мити безвинно пострадать с тем, чтобы нравственно возродиться и искупить этим чужие страдания, на первый взгляд может показаться капризом, прихотью или болезненною фантазией, а никак не общим моральным принципом, имеющим серьезную основу. Но на деле оказывается, что это решение есть настоящий моральный принцип, что его серьезно и горячо проповедует такой глубокий моралист, как старец Зосима, в своих поучениях, сочиненных, конечно, автором романа, так что, значит, поступок Мити есть только конкретная иллюстрация или практическое осуществление теоретического правила о. Зосимы. Вот как учил поступать святой старец:
«Возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват… Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримою, даже до желания отомщения злодеям, то более всего страшись сего чувства; тотчас же иди и ищи себе мук, так как бы сам был виновен в сем злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил» (I, 502–505). «Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый из всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого да и всякого на земле человека (NB). Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и утолилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас будет в силах весь мир любовию приобрести и слезами своими мировые грехи омыть…» (I, 258).
Предварительное следствие и суд над Митей описаны с такою убийственною длиннотою и с такими скучнейшими подробностями и размазываниями, что стоит больших усилий принудить себя прочитать зараз, без пропусков и перескакиваний, всю эту тянущуюся на 16-ти печатных листах канитель допросов и судебных речей, и притом искусственных, деланых, натянуто вычурных, да еще приправленных очень прозрачной и топорной иронией романиста. Читать эти речи – истинное наказание для читателей, избалованных дельными, а иногда даже блестящими прокурорскими и адвокатскими речами во всех выдающихся уголовных делах, действительных, реальных, а не сочиненных фантазией; и это наказание еще усиливается вследствие антилогической и бессмысленной пунктуации, заимствованной автором от изданий Каткова. Люди, судившие Митю, занимались своими личными делами и целями. Один желал показать свою следственную проницательность; другой из кожи лез, чтобы проявить во всем блеске свои обвинительные таланты и тем доказать, что его не ценят, что его несправедливо обходят; третий хотел блеснуть своим адвокатским красноречием, вызвать в публике смешки или аплодисменты и т. д. Присяжными же были ничего не понимающие мужички. Поэтому Митя достиг своей цели; он был обвинен, и ему представился прекрасный случай безвинно пострадать за «дитё», за всех и за вся. Как он исполнил свой гимн на деле, об этом в романе не говорится.
Переход от праведников, от десных овец к шуйим козлищам, к грешникам, составляет третий брат Карамазов, Иван, неопределенный, нетипичный и неясный, как все переходное. Его нельзя назвать простодушно и твердо верующим, как Алеша и все монастырские старцы, но также нельзя назвать и неверующим, безбожником вроде козлищ – грешников романа, для которых нет ничего выше и святее химии, нервов с хвостиками да Клод Бернара. Он относится к ним отрицательно; «не стану, – говорит он, – перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что что там гипотеза, то у русского мальчика аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские, весьма часто у нас теперь те же русские мальчики». Иван просто религиозный вольнодумец или религиозный скептик; он видит в мире явления, которые служат для него камнем преткновения и соблазна и не гармонируют с его религиозными представлениями. Все эти свои сомнения и соблазны он откровенно исповедал Алеше, и его бурная, горячечная, иногда даже смахивающая на бред исповедь, так же как и его поэма «Великий инквизитор», представляют единственные поэтические страницы во всем романе, и очень жаль, что эти страницы во многих местах попорчены сентиментальностью и плоскими замечаниями и возражениями Алеши. Конечно, по мыслям, по содержанию эта исповедь религиозно сомневающегося скорее сердца, чем ума, не представляет ничего нового и оригинального; эти сомнения формулированы и кодифицированы давным-давно, и для разбора и умиротворения их существует даже особый отдел в теологической философии, который называется теодицеей. Но форма этих сомнений у Ивана действительно художественна.
Как он сам говорит, он принимает бога «прямо и просто», без умствований и логических рассуждений, без всяких усилий понять его. Но как только он начинает рассуждать, у него являются сомнения; он видит зло в мире, и ему оно кажется несогласимым с идеей промысла божия, и потому в душе его восстает ропот на бога, или «бунт» против него, как выражается Алеша. Митю, как мы видели, сильно поразило страдающее «дитё», и Ивана приводят в страшное недоумение тоже страдания детей. Вот генерал затравил собаками ребеночка, который камнем зашиб ногу любимой его гончей; вот родители образованные бьют, секут, истязают пятилетнюю девочку, запирают ее на ночь в отхожее место, «обмазывали ей все лицо калом и заставляли ее есть этот кал». Нечего уже и говорить о том, что делали турки с славянскими детьми. Иван никак не может понять причины и цели этих безвинных страданий и не может примириться с ними даже с религиозной точки зрения. С негодованием он отвергает мысль, что страдания эти необходимы для какой-то общей гармонии. А если есть такая гармония, то эти страдания должны быть искуплены. Но искупить их нечем. Наказать мучителей? Но эти наказания не воротят страданий, не уничтожат мучений, погубивших столько детей. Простить мучителей? Но такое решение кажется Ивану неудовлетворительным и неприятным. Да и кто может и имеет право простить? В мире нет такого существа, решил Иван. На возражение Алеши, что таким существом может быть «единый безгрешный», Иван ответил поэмой «Великий инквизитор». В ней развивается та известная ходячая мысль, что католичество и преимущественно иезуиты, снисходя к человеческой слабости, смягчили строгость христианской морали, сделали ее более доступной и удобоисполнимой для слабых сил человека; что они были снисходительны к человеческим немощам, делали поблажки человеческим слабостям с тем, чтобы вернее завладеть совестью и волею людей для их же собственного блага. Инквизитор убежден, что счастье людей не в свободе, а в порабощении воли, в подчинении авторитету, как учил и о. Зосима, что люди скоро пресыщаются свободой, не дающей им счастья, и с жаром бросаются в объятия своих духовных отцов, своих монастырских старцев, говорящих, действующих от имени высшего авторитета. К инквизитору явился «единый безгрешный», которого он запер в тюрьму и к которому обратился с такими речами:
«Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?.. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“» – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой болезни и на тысячу лет сократить страдания людей, – ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали…» Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики… Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и сердится, что он бунтует. Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются, наконец, глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками без сомнения хотел посмеяться над ними… О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих» (I, 396–407).
Вольнодумствуя открыто и неосторожно, Иван соблазнил одного слугу своего отца, Смердякова, жадно ловившего каждое его антирелигиозное слово и по-своему разъяснявшего и перетолковывавшего эти слова. Но об этом речь будет дальше.
В числе козлищ-грешников первое место занимает уже упоминавшийся семинарист Ракитин, отчаянный, сухой и бессердечный безбожник, который индифферентен и глух даже к тем вопросам, которые волнуют вольнодумный ум Ивана Карамазова. Ракитин ни во что не верит, никого не любит, не имеет никаких высших интересов. Он презирает ангела Алешу, глумится – страшно сказать – над самим старцем Зосимою и всею монастырскою братиею. Единственная страсть у него – страсть к деньгам, выше и желательнее которых для него нет ничего. Вопреки своей гуманности, автор изобразил эту личность не человеком, а каким-то извергом, настоящим сатаною, в котором нет ни одной человеческой черты. Он чувствует ненависть и злобу к этому своему созданию, как к своему личному врагу и обидчику; это преступник, к которому нет жалости и сострадания и который не заслуживает прощения, так как он хуже тех, которые мучат детей. Автор бывает чрезвычайно доволен собою и рад, когда ему удается как-нибудь поддеть и уязвить Ракитина, поставить его в глупое или неловкое положение, унизить и опозорить его публично. Был, например, такой случай. В торжественном заседании суда по делу Мити, при многочисленном стечении лучшей публики, Ракитин, давая свои показания, хвастался и пускал пыль в глаза своим либерализмом. Вслед за этим автор выводит на сцену Грушеньку и заставляет ее на вопрос адвоката показать, что мать ее и Ракитина были родные сестры, но что он постоянно просил ее никому об этом не говорить. Итак, либерал Ракитин есть кузен блудницы! Какой позор! Ракитин побагровел; все гражданское благородство его либеральных показаний, говорит автор, было на этот раз уже «окончательно похерено и уничтожено в общем мнении». Относительно Ракитина странно только одно: автор говорит о нем, что он усердно сеял свои лжеучения и старался распространять свои заблуждения; он старался смутить Митю, как мы видели, так же он соблазнял юных гимназистов. Спрашивается, с какою целью и по каким мотивам он это делал? Ужели это доставляло ему большие деньги, которые составляли единственную цель его жизни?
Столь же ужасным грешником был и Карамазов-отец, Федор Павлович. Он был не только безбожником и сребролюбцем, как Ракитин, но еще ужасным сладострастником и блудодеем. Единственною целью, идеалом и задачей его жизни было блудодейство; он мечтал и жаждал как можно дольше прожить, и все это для того, чтобы как можно дольше блудодействовать. И, кроме того, он был циничен до пошлости, до отвратительности. Вообразите такую сцену: этот отец, старый блудодей, дает своим детям, и в том числе Алеше, идеалу целомудрия и девственной стыдливости, такое нравоучение: «Я, говорит он сыну Ивану, покажу тебе в деревне одну девчонку, которую давно насмотрел; хотя она босоножка, но не пугайся босоножек, не презирай – перлы». И затем, обращаясь к обоим сыновьям, он преподал им такую родительскую заповедь своей опытности.
«Эй, вы, ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня… даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молоко течет, не вылупились! По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, что ни у которой другой не найдешь, – только надобно уметь находить, вот где штука. Это талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего… да где вам это понять! Даже вьельфильки и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить – вот как надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни» (I, 217–218).
И затем, обращаясь к Алеше, он с таким же бесстыдным цинизмом начинает вспоминать о его покойной матери и рассказывать, как он побеждал и увлекал ее своими блудодейственными приставаниями. Бедный юноша, благоговейно любивший свою мать и хранивший о ней святое воспоминание, не выдержал, с ним сделался истерический припадок. Эта картина, хоть, может быть, она и очень реалистична, но производит гадкое впечатление.
Вот до какой гадости и скотоподобия может унизиться человек, потерявший в сердце своем искру божию и утративший веру, и унизиться именно вследствие этой утраты. Карамазов-отец – безбожник и разделяет убеждения, диаметрально противоположные мировоззрению своего автора, который поэтому так и беспощаден к нему. Отец спрашивает у сыновей, есть ли бог и бессмертие; Алеша утверждает, что есть, а Иван полушутя, полусерьезно говорит, что нет. Отец решает, что Иван прав, пускается в вольнодумную философию, начинает либеральничать насчет монастырей и монахов. Он в монастыре сделал сцену, обидел игумена и братию и, намекая на это, говорит Алеше: «Ведь, коли бог есть, существует, – ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе – то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают». У него даже явилась мысль, свойственная многим либералам, вовсе упразднить монастыри. «Взять бы, – говорит он, – всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтобы окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило». Впрочем, когда Иван пугнул отца, что при ограблении и упразднении монастырей также ограбят и упразднят его самого, то он струсил и примирился с существованием монастырей. Но бог и бессмертие все-таки очень его смущали. «Господи, – философствует он, – подумаешь только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком?»
Существовала на свете девка, Лизавета Смердящая, безобразная, грубая, грязная, совершенная идиотка, почти без дара слова; она скиталась без всякого пристанища, зимою и летом ходила босая и в одной посконной рубашке, и все существо ее было пропитано грязью и зловонием; словом, это было животное, да даже, пожалуй, хуже животного. Однакоже Карамазов-отец, верный своей теории, что во всякой женщине непременно есть нечто женское, не погнушался даже Лизаветой Смердящей, находил, что «тут даже нечто особого рода пикантное», и сотворил блуд с нею; она зачала и родила сына, которого поэтому назвали Смердяковым. Карамазов-отец взял его на воспитание, вырастил и сделал его своим слугою. Это исчадие, этот плод греха оказался вполне достойным своего родителя и своего греховного происхождения. Этот Смердяков был такой ужасный, закоренелый, холодный и методический злодей, какого трудно себе и представить. Это был не человек, а просто сатана во плоти. И у него порочность и преступность вытекали из неверия и атеистических заблуждений, которые он подслушал у своего барина-отца и барина-брата, Ивана Карамазова, и перетолковал по-своему. И что всего замечательнее, этот ужасный злодей был не славянофил, так как из славянофилов не может выйти такого злодея, а крайний западник, чем и объясняется его злодейство. Он отвергает поэзию и стихи, считая их «существенным вздором-с»; русского патриотизма в нем ни капли. Он сам делал перед своей возлюбленной на любовном свидании следующие признания: «Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна, не только не желаю быть военным гусариком, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с. В 12-м году было на России великое нашествие императора Наполеона французского Первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». Уже под старость он усердно изучал французские вокабулы, «чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда-нибудь в тех счастливых местах Европы, может, придется быть».
Вот какой любопытный субъект: лакей, западник, либерал и злодей! Вообще автор наделил Смердякова таким диалектическим талантом, что это даже представляется невероятным. Вот, например, какие диалектические тонкости он отмачивал. По поводу разговора о подвиге солдата, который не хотел отречься от веры даже и тогда, когда турки начали сдирать с него кожу, Смердяков заметил, что не было бы большой беды, если бы солдат и отрекся от веры для своего спасения. На представленные ему возражения он отвечал такой аргументацией. Как только, рассуждает он, у меня явится хоть мимолетное намерение отречься от веры, тотчас же «я самым высшим божиим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучен совершенно, как бы иноязычником, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет-с, как я отлучен». А раз человек отлучен от церкви, от христианства, то формальное отречение уже не имеет значения и смысла. «Коли я уж не христианин, значит я не могу от Христа отрекнуться, ибо не от чего тогда мне и отрекаться будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, хотя и в небесах, за то, что он не христианином родился… Даже сам бог вседержитель с татарина если и будет спрашивать, когда тот помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием, рассудив, что ведь не повинен же он в том, что если от поганых родителей поганым на свет произошел». А затем он огорошил своих противников таким возражением: в писании сказано, что кто имеет хоть слабую веру, тот если прикажет горе двинуться в море, то она и двинется, а никто из вас этого не может сделать, значит, вы сами люди неверующие.
Этот Смердяков убил Федора Павловича Карамазова-отца, вполне ему доверявшего. Это убийство задумано и совершено с такою сатанинскою обдуманностью и предусмотрительностью, с таким адским хладнокровием и методичностью, что у читателей волосы должны были бы стать дыбом от ужаса перед титаничностью такого преступника, если бы ежеминутно к ним не закрадывалось в голову справедливое подозрение, что автор пересаливает, шаржирует и фантазирует. Слыша от Ивана Карамазова правило, что «все дозволено», Смердяков намотал себе на ус это правило. Затем по некоторым признакам и намекам Смердяков догадывался, что Ивану в видах наследства была бы приятна и желательна смерть отца, и он рассчитывал, что отца убьет другой сын, Митя, который ненавидел отца, ревновал его к Грушеньке, до безумия очаровавшей старика, и имел с ним какие-то нескончаемые денежные счеты. В том случае, если бы Митя убил отца, Смердяков собирался похитить три тысячи рублей, хранившиеся в известном ему одному месте. Иван и Алеша, получивши наследство только на двоих, не стали бы доискиваться этих трех тысяч или же сочли бы их похищенными Митей. Если же Митя не убьет отца, то сам Смердяков сделает это. И при этом Смердяков составил план совершить убийство при таких обстоятельствах, чтобы подозрение пало только на Митю, а он бы остался вне всякого подозрения. В этом случае он, во-первых, все-таки похитил бы те три тысячи и, кроме того, рассчитывал получить от Ивана награду. Этот план был приведен им в исполнение так искусно, все обстоятельства были подстроены так ловко, и следователи с прокурорами попались в расставленные для них Смердяковым тенета и силки так глупо, что действительно был заподозрен, предан суду и осужден только Митя, а Смердяков остался вне всякого подозрения и не был предан суду. Кончил он свою злодейскую жизнь достойным образом. Узнавши о том, что Иван вовсе не желал смерти отца и что поэтому он не может ожидать от него никакой награды, он возвратил ему похищенные три тысячи, как некогда предатель Иуда возвратил тридцать сребреников, а сам повесился тоже подобно Иуде.
Максим Алексеевич Антонович
«Всем, конечно, известны и всем, вероятно, даже надоели так часто повторявшиеся в реакционной квиетистической печати жалобы на литературную критику шестидесятых годов за то, что она будто бы губила литературные дарования, сбивала с толку, направляла на ложный путь и уродовала беллетристические таланты. Литературная критика добролюбовской школы, гласят эти жалобы, отрицая чистое искусство и игнорируя требования и условия художественности, ставила прежде всего и выше всего мысль художественного произведения и притом не идею в ее общем отвлеченном значении, независимо от времени и обстоятельств…»
Максим Алексеевич Антонович
Мистико-аскетический роман
Всем, конечно, известны и всем, вероятно, даже надоели так часто повторявшиеся в реакционной квиетистической печати жалобы на литературную критику шестидесятых годов за то, что она будто бы губила литературные дарования, сбивала с толку, направляла на ложный путь и уродовала беллетристические таланты. Литературная критика добролюбовской школы, гласят эти жалобы, отрицая чистое искусство и игнорируя требования и условия художественности, ставила прежде всего и выше всего мысль художественного произведения и притом не идею в ее общем отвлеченном значении, независимо от времени и обстоятельств, а именно узкую, специальную мысль, имеющую прямое, непосредственное отношение к данному времени и данным местным обстоятельствам. Она напевала, твердила, внушала, даже повелительно требовала, чтобы словесные художники в своих произведениях непременно преследовали практические прикладные цели, занимались злобою дня, политическими и общественными вопросами и непременно с целью разрешения их в известном, определенном смысле, согласно с общим направлением автора и с стремлениями той школы или практической партии, к какой принадлежит автор. Она догматически провозглашала как непреложную истину, что искусство должно служить жизни, что художество есть только особенная, более легкая форма для выражения того, что проповедует и распространяет публицистика. Художники, подчинившиеся влиянию этой школы, сами на себя накладывали путы: вместо того чтобы предоставить полный простор своему таланту, ничем не стеснять его полета, во время которого он мог бы собирать всевозможные материалы, руководясь единственно своим художественным инстинктом, они рабски держались узкой тенденции, смотрели на все сквозь призму ее и старались насильственно подгонять к ной свои повествования. Эта тенденциозность губила всякую художественность и создавала в беллетристических произведениях неестественность, деланность, вымученность. Эти произведения были побасенками, выдуманными для проведения тенденциозной морали.
Справедливы ли эти обвинения, или нет – мы этого здесь разбирать не будем. Мы желаем только обратить внимание на тот факт, что тенденциозные художественные произведения существовали, существуют и будут существовать у нас и помимо влияния добролюбовской школы, что они вызываются не только влиянием критики, но еще и другими причинами, что тенденциозность встречается и у тех писателей, которые могут быть названы общепризнанными, патентованными художниками. Что такие произведения есть теперь – доказательством может служить роман, разбором которого мы намерены заняться.
Достоевский принадлежит к числу тех наших, так сказать, дореформенных художников, на которых не имела никакого влияния критика добролюбовской школы. Талант Достоевского развился, окреп и установился еще до Добролюбова, и к критике последнего Достоевский всегда относился отрицательно. Да по своему огромному самомнению он и не способен был принимать к сведению замечания критики и пользоваться ее указаниями. Значит, критика шестидесятых годов нимало не повинна в тех фазах развития, через которые проходил талант Достоевского и характер его литературного творчества.
С самого начала Достоевский был истым художником, представителем искусства для искусства. В первых его произведениях до шестидесятых годов не было заметной тенденциозности. Правда, Добролюбов в большинстве типов, изображенных в этих произведениях, нашел общую мысль, общую всем им черту и всех их отнес к категории «забитых людей», у которых пострадало человеческое достоинство. Но эта мысль принадлежит самому Добролюбову, а не Достоевскому, который вовсе не задавался этой мыслью и брал для изображения типы, руководствуясь не какими-нибудь соображениями и целями, а художественным инстинктом или тактом, и он, вероятно, сам удивился, когда ему сказали, что его типы в большинстве принадлежат к категории забитых людей в смысле Добролюбова. Но чем дальше, тем произведения его становились все тенденциознее, и тенденция их направлялась в сторону «Русского вестника» до такой степени заметно и явственно, что другие журналы, печатая его произведения, конфузились, извинялись, делали оговорки. Наконец, последнее произведение его, которое мы имеем в виду рассмотреть, есть верх тенденциозности; его как-то странно и называть романом. Это трактат в лицах; действующие лица не разговаривают, а произносят рассуждения и притом большею частью на одну и ту же, очевидно излюбленную автором, тему теологического или, лучше, мистико-аскетического свойства. Эту тему единодушно развивают действующие лица: монахи и миряне, старцы и юноши, мужчины и женщины, господа и лакеи, добродетельные люди и закоренелые грешники. Но, не довольствуясь этим, автор приложил к своему роману всерьез, взаправду несколько важных и глубокомысленных трактатов мистико-аскетического содержания под псевдонимом старца Зосимы. Роман с приложением аскетических поучений – да ведь это несообразность, нелепость! Но с точки зрения тенденциозности эта несообразность, эта нелепость естественна и понятна. Для автора самое главное мысль, тенденция, а роман второстепенная вещь, оболочка, fa?on de parler; он старается провести свою мысль всеми мерами, всеми правдами и неправдами, и, боясь, что читатель сам не увидит и не поймет этой мысли в аллегории романа, он пересыпает аллегорию трактатами, которые уже прямо должны наводить читателя на тенденцию романа. Автор, вероятно, вовсе не прибег бы к аллегории романа и изложил свою мысль только в трактате, если бы был уверен, что трактат так же сильно подействует на читателей и с таким же увлечением и азартом будет читаться и в том случае, если он не будет подправлен и сдобрен разными романтическими снадобьями и художественным перцем.
Словом, тенденциозность романа не подлежит ни малейшему сомнению. А чтобы лучше уразуметь тенденцию, составляющую сущность романа, нам следует припомнить направление или – так как это слово почему-то многим теперь не нравится – мировоззрение автора его. Достоевский, возвратившись к литературной деятельности после невольного ужасного литературного бездействия, описанного им потом под видом пребывания в «Мертвом доме», пристал к той литературной партии или школе, которую можно назвать левым славянофильством. Это было особого рода славянофильство, не столь крайнее, как московское, но гораздо менее ясное и определенное, чем последнее; оно было похоже на тот вид славянофильства, который исповедовали Шевырев, Погодин, вообще «Москвитянин». На самом левом конце этого направления стоял А. Григорьев, неопределенный мечтатель и художественный мистик, одною своею стороною даже соприкасавшийся с западничеством. Вот в этом славянофильствующем направлении Достоевский и вел вместе с своим братом Михаилом последовательно два журнала – «Время» и «Эпоху». На знамени этих журналов было написано и девизом их было: «Мы оторвались от почвы, то есть от простого народа, и улетели в облака; поэтому мы должны спуститься на землю, возвратиться к почве». В чем должно состоять такое возвращение к почве, этого журналы совсем не разъясняли. Но в то время многим, а в том числе и нам лично, это возвращение казалось очень подозрительным. Впоследствии эти подозрения оправдались, когда Достоевский своею беллетристическою и публицистическою деятельностью обнаружил и разъяснил, в чем должно состоять возвращение к почве. В политическом и общественном отношении путем для этого возвращения должны служить принципы князя Мещерского, развивавшиеся в «Гражданине», деятельным сотрудником которого был Достоевский. А затем возвращение к почве приняло другую форму. Достоевский бросил всякую политику и общественность, отложил в сторону всякие житейские вопросы, а ударился в субъективность, зарылся в самую глубину души, в ту таинственную область, где гнездятся восторженная вера, всерешающая мистика и созерцательный самозаключенный аскетизм. Вот в эту-то область и увлекает Достоевский всякого интеллигентного человека, витающего в облаках и желающего возвратиться к почве.
Подробности этого кульминационного пункта в развитии мировоззрения Достоевского таковы в их общих чертах. Русский простой необразованный народ есть самый религиозный народ в мире; он стоит на самой высшей степени религиозного совершенства и духовного просвещения, так что для него не нужно никакое мирское просвещение. Русский народ есть «народ-богоносец», как выражается старец Зосима, псевдоним Достоевского. Просвещение есть свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце; и Достоевский уже прямо от себя утверждает, что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть (?) Христа и учение его», что хотя наша земля и нищая, но ее всю «исходил, благословляя, Христос». Кроме общей религиозности, русский простой народ отличается еще особенною любовью и уважением к мистицизму и аскетизму, к усиленным подвигам поста, послушания, целомудрия и всяких других родов умерщвления греховной плоти – словом, к тем подвигам, которые практикуются в монастырях и скитах. «От народа спасение Руси», говорит псевдоним Достоевского; «русский же монастырь искони был с народом». Из этих двух посылок силлогизма всякий, даже не учившийся в семинарии ни Barbara-м, ни Celarent-ам, сразу выведет заключение: следовательно, спасение от монастыря. Европейское же просвещение и образование в этом отношении диаметрально противоположно духу простого русского народа; оно неизбежно ведет к неверию, к самомнению, к умственной кичливости, к превозношению и гордыне; оно порождает равнодушие, холодность и даже презрение к аскетизму, к посту, целомудрию и умерщвлению плоти, а тем самым отчуждает от спасительного монастыря. Поэтому, если русский человек захочет умственно развиться и получить научное европейское образование, то он вместе с образованием незаметно всасывает яд неверия, умственной гордыни и отчуждения от монастыря, – словом, отрывается от почвы. Вследствие этого-то русская интеллигенция так бессильна и бесплодна. Все ее построения не имеют фундамента и стоят на песке; все ее заботы, все ее планы об устройстве или улучшении общественных отношений и об облегчении участи простого народа оказываются напрасными и не достигают цели. И это будет продолжаться до тех пор, пока интеллигенция не возвратится к почве, к простому народу. И путь этого возвращения после вышесказанного ясен сам собою.
Интеллигенция должна отказаться от своего просвещения, должна отвергнуть зловредное европейское образование, отречься от него, смирить свою гордость и свой ум, овладеть собою, «подчинить себя себе»; а самое лучшее средство для этого – отправиться в монастырь и выбрать себе в руководители какого-нибудь старца, отдаться в его полное распоряжение, быть у него на послушании, отречься от своей воли и предаться его воле во всем, как это и сделал один из героев романа, Алеша Карамазов – самое любимое детище автора. Тогда только интеллигенция, смирив самолюбивую и гордую волю, найдет правду в себе, достигнет истинной свободы духа и осуществления всех тех своих стремлений, которым она безуспешно старалась удовлетворить беспочвенными гражданскими идеалами и заботою о злобе дня. Приблизительно через такой же цикл развития прошел лично сам Достоевский. «Не говорите же мне, – восклицает он в своем „Дневнике“ за прошлый год, – что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в европейского либерала». Убедить и других последовать тем же путем, то есть бросить всякие гражданские идеалы, всякие мирские злобы дня, и искать свободы и правды только внутри себя и притом по указаниям и под руководством монастыря и скитских старцев, – такова мысль, такова цель, такова тенденция как романа «Братья Карамазовы», так и речи Достоевского о Пушкине и его полемики по поводу этой речи.
Да ведь это все та же старая песня, скажет читатель, которую мы слышим и слышали столько раз! Совершенно верно. Это даже не новая вариация на старую тему, а просто та же старая тема, которую всегда развивали и развивают все обскуранты и ретрограды, противящиеся всяким улучшениям во внешнем быте и общественном положении и состоянии людей, та же старая песня, которую тянули старые и тянут теперь новые славянофилы, та же песня, которую Лазарем распевал Бурачек в «Маяке» и в своих отдельных брошюрках, выходивших в 60-х годах, которую лицемерно и фальшиво пел Аскоченский, которую элегантно исполняют разные великосветские Редстоки и Пашковы, и, наконец, та же старая песня, которую по воле какой-то злой судьбы запел под конец своей жизни и наш бессмертный Гоголь в своей злосчастной «Переписке с друзьями». В своей «Авторской исповеди» он провозгласил, как аксиому, следующее положение: «Верховная инстанция всего есть церковь (как у Достоевского монастырь), и разрешение вопросов жизни в ней». Во многих пунктах Гоголь и Достоевский буквально сходятся между собой; например, оба они восстают против гордыни ума и превозношения науки и рекомендуют смирение и покорную веру; оба они прославляют простой русский народ, как самый религиозный в мире, и т. п. К счастью для русской литературы, Гоголь не омрачил ни одного из своих художественных произведений этой тенденцией; он не произвел ничего, после того как в нем совершился поворот к мистическому аскетизму. Духом своих произведений он был недоволен; но уже ничего не мог поделать с ними и с сожалением вспомнил русскую пословицу: «Слово как воробей, выпустивши его, не схватишь». Зато он с удовольствием сжигал все, что еще не было выпущено и оставалось только в рукописи. Достоевский поступил иначе; он внес свою тенденцию в свои художественные произведения; он продолжал свою художественную деятельность и после того, как в его мыслях совершился окончательный поворот к мистическому аскетизму. Не довольствуясь публицистической пропагандой своего мировоззрения, он стал пропагандировать его и своими романами. Сочинения Гоголя, если от них отнять «Переписку» и «Исповедь», останутся цельным перлом без пятен и трещин, стройным организмом, который оживлен одним общим духом, одною господствующею идеей. Сочинения же Достоевского, если даже исключить из них публицистические статьи и речи и «Дневник», будут представлять разнохарактерную смесь, крайние члены которой проникнуты различным духом и одушевлены неодинаковыми тенденциями.
Уже давно, со времени критики Добролюбова, сделалась избитым общим местом та мысль, что Достоевский есть художник униженных и оскорбленных или забитых людей, в которых, однако, сохранилась искра сознания человеческого достоинства, по временам вспыхивающая слабым протестом, что в его художественных произведениях звучит постоянно струна гуманности, любви к страждущим, даже к преступникам, в которых художник признавал людей, своих ближних. Такая характеристика совершенно неприменима к его последнему произведению. В «Братьях Карамазовых» вместо гуманитарного элемента выступает элемент теологический или мистико-аскетический. Здесь нет всепрощающей любви ко всем и ко всему, а есть строгий, неумолимый аскетический ригоризм, сурово анафемствующий всех отверженцев, отмеченных печатью высшего проклятия. Подобно всем теологическим зелотам, художник обнаружил здесь крайнюю нетерпимость ко всякому иноверию, ко всякому разногласящему мнению. К внешним практическим действиям он снисходителен и гуманно терпим; но он безжалостен к иноверию, а тем паче к безверию. Он простит самое страшное внешнее преступление, но в нем не найдется и капли жалости к самому безобидному теологическому сомнению, а тем более отрицанию. Достоевский в своем последнем романе поступает совершенно так же, как в басне Крылова те адские Мегеры, которые снисходительно отнеслись к грабителю по большим дорогам и разбойнику и, напротив, безжалостно осудили на неугасаемый огонь и вечные усиленные муки писателя, который «вселял безверие» и даже «величал безверие просвещением». В этом романе мы уже не видим оскорбленных и униженных или забитых, за исключением разве штабс-капитана Снегирева, который несколько напоминает прежние излюбленные типы Достоевского. Здесь люди рассматриваются и классифицируются с другой, совершенно особой точки зрения: одесную избранные овцы, а ошую отверженные козлища. Настоящих людей с плотью и духом, со смесью добра и зла здесь нет, а есть только с одной стороны святые, праведники, стоящие выше всяких человеческих слабостей, словом, ангелы во плоти, обязанные всем своим величием и своею праведностью своей твердой, ясной, несомневающейся и неколеблющейся вере, а с другой стороны нераскаянные и непробудные грешники, сомневающиеся и неверующие и вместе с верой потерявшие всякую духовную любовь, стыд и совесть, всякую нравственность, всякое человеческое подобие, – словом, воплощенные дьяволы, с наслаждением предающиеся злу и сеющие его повсюду.
К числу праведников принадлежат следующие лица в романе.
Если не первый, то второй герой романа, Алеша Карамазов, самый младший из трех братьев, ангел во плоти, так что братья так-таки прямо и называли его «ангелом», «херувимом». С самой ранней юности он возлюбил благочестие и бегал блуда и блудных помыслов, или, как выражается автор, «в нем была дикая, исступленная стыдливость и целомудренность; он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин». Даже юные сверстники его, гимназисты, несмотря на все старания, не могли всеми своими соблазнами поколебать его исступленной целомудренности, и когда они начинали заговаривать «про это», то он быстро затыкал уши пальцами. С юности же он возлюбил иноческое житие, убежал от мира и его соблазнов и поступил в обитель, где подвизался великий и благочестивый старец Зосима, и отдал себя в послушание ему. Старец же зело возлюбил богобоязненного юношу, сделал его своим наперсником и достойным сосудом, в который изливал свои благочестивые аскетические поучения; и юноша усердно записывал эти приснопамятные поучения, чтобы сохранить их для потомства. Они напечатаны в конце 1 тома романа, где занимают 30 листов, или, выражаясь по-мирскому, 60 страниц, несомненно определяя физиономию романа. Подобно старцу Зосиме, юношу послушника Алексия любили все добрые и благочестивые люди; куда бы он ни являлся, всюду вносил мир, любовь, благодать, добрые помыслы и исправление; уже один внешний лик его производил благотворное действие даже на грешников. Так, например, был такой случай. Некоей благообразной и благолепной блуднице, Грушеньке, жившей на блудном иждивении у купца Самсонова, диавол вложил в сердце мысль искусить и обольстить своими плотскими прелестями юного инока, вовлечь его в блуд и тем учинить «позор праведного» и «падение из святых во грешники». Для сего она подкупила своего родственника, семинариста Ракитина, за 25 руб., чтобы он привел к ней послушника Алексия. Но едва только она узрела образ Алексия и услышала сладкий глас его речи, как сатанинский умысел отлетел от ее сердца; она чистосердечно исповедалась перед ним в своем грехе, созналась, что «хотела его поглотить», и просила у него прощения. Он простил, а она, тронутая его праведностью, исправилась и с того времени стала добродетельной и самоотверженной женщиной. Откуда же и каким образом развилась в Алеше Карамазове такая сила благочестия и чудодейственного нравственного влияния?
Личность Алеши, как и все другие личности в романе, крайне бледна, неестественна, неопределенна и непонятна; это просто авторское сочинение, фантазия. Чтобы убедить нас в действительности или даже в возможности существования такого удивительного лица, автору следовало показать нам процесс его развития, закончившийся благочестием и поступлением в обитель послушником. Но этого не сделано, и нам благочестие и пустынножительство Алеши представляется врожденным, унаследованным от предков. Но от отца, Федора Павловича Карамазова, он не мог получить такого наследства, так как этот был во всю свою жизнь нераскаянным грешником, отчаянным блудодеем и неудержимым сладострастником. Остается приписать это наследство матери. Намек на это есть и в романе: описывается, что в душе Алеши глубоко запечатлелось воспоминание из самого раннего детства о том, как мать его с молитвой и слезами судорожно сжимала его в своих объятиях и потом подносила его к образу богоматери, как бы отдавая свое детище под ее защиту и покров. Но это обстоятельство хотя и могло иметь свое значение, однако оно не объясняет благочестия и заключения в монастырь. А затем автор ограничивается только фразами о том, что Алеша узнал и понял мирскую злобу и душа его рвалась к свету, который нашла в монастыре, и ни слова не говорит о том, какие именно вопросы волновали ум этого Алеши, не окончившего курс гимназиста, какие явления особенно поразили его и раскрыли для него всю бездну мирской злобы. Вот его собственные слова:
«Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец (?), и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо – нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неутолимого сердца» (т. I, 33). «Скажут, может быть, что Алеша был туп, не развит, не окончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторяю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силою души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же естественно сказал себе: „Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю“» (I, 46).
Но как бы то ни было и от каких бы то ни было причин, а Алеша полюбил пустынножитие и всею душою прилепился к старцу Зосиме и пребывал с ним до самой его смерти. Перед смертью в виде послушания старец повелел ему оставить обитель и благословил его снова возвратиться в мир с его злобой, что свято и исполнял, и здесь в мире завел было даже любовное дело и начал переписку с девицей Lise Хохлаковой, получившей исцеление от старца Зосимы; но дело это, впрочем, осталось без последствий. Жизнь нашего человеколюбца в мире для бессмертия состояла в следующих человеколюбивых подвигах: он был поверенным своих двух старших братьев, Ивана и Димитрия Карамазовых, снисходительным и терпеливым слушателем всех их диких, беспорядочных, но горячих признаний, излияний, откровений, мечтаний, исповедей и порывов, посредником или фактором в их сношениях с их возлюбленными; претерпел укушение пальца на руке от Илюши, сына упомянутого штабс-капитана Снегирева, в отмщение за то, что его брат Димитрий публично и всенародно в трактире и на площади прибил и опозорил этого штабс-капитана, вырвавши у него бороду; дал этому штабс-капитану денежное (200 руб.) и моральное удовлетворение за обиду, нанесенную братом; примирил с этим Илюшей подравшихся было с ним его товарищей-гимназистов, с участием посещал болящего Илюшу, присутствовал на его погребении и сказал над могилой его поучительное слово. Все это, конечно, такие подвиги, для совершения которых далеко не требовалось «жертвовать жизнью». Других же подвигов в романе не видно никаких. А между тем, судя по той торжественности, с какою старец Зосима посылал в мир Алешу на борьбу и подвиги, по его грозным предсказаниям, мы вправе были ожидать от Алеши чего-нибудь большего, кроме факторства и хождения по любовным делам братьев. Вот с какими заповедями Зосима посылал Алешу из обители в мир:
«И знай, сынок, – старец любил его так называть, – что и впредь тебе не здесь место. Запомни сие, юноша, как только сподобит бог представиться мне, и уходи из монастыря. Совсем иди. – Алеша вздрогнул. – Чего ты? не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудеши (NB). А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобою Христос. Сохрани его, и он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Работай, неустанно работай. Запомни слово мое отныне, ибо хотя и буду еще беседовать с тобою, но не только дни, а и часы мои сочтены. В лицо Алеши опять изобразилось сильное движение. Углы губ его тряслись» (I, 125–126).
Другой инок, отец Паисий, напутствовал Алешу в мир так:
«Помни, юный, неустанно, что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде, и врата адовы не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыблемо! Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. Запомни сие особенно, юный, ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим. Может, вспоминая сей день великий, не забудешь и слов моих, ради сердечного тебе напутствия данных, ибо млад еси, а соблазны в мире тяжелые и не твоим силам вынести их. Ну, теперь ступай, сирота» (I, 267–270).
Вообще фигура Алеши крайне неопределенна в романе, а при сопоставлении ее с приведенной миссией старца Зосимы, святотатственно скопированной с известной евангельской беседы, представляется даже жалкой и комической, хотя, повторяем, этой фигуре принадлежат все симпатии автора.
Но самый великий праведник в романе – это старец Зосима, все его поклонники уже при жизни считали его святым. Вся его богоугодная деятельность состояла в аскетических поучениях и моральных благотворениях. Он был прибежищем, духовною опорою и утешением всех страждущих, обремененных, скорбящих и озлобленных и помощи требующих. Все верующие, всех возрастов, званий и состояний и обоих полов, доверчиво, искренно и чистосердечно раскрывали перед ним свой ум и сердце, свои сомнения и недоумения, свои духовные нужды и печали, свои прегрешения и греховные помыслы. И всех святой старец удовлетворял и успокаивал, и никто не уходил от него без облегчения и душевного умиротворения. «Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое» (I, 51). «Богомольцы стекались к нему со всех сторон. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их» (I, 52–53). Вот приходит баба и плачет об умершем сынишке; старец и говорит ей, что «младенцы пред престолом божиим дерзновенны и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном», что поэтому ее младенец находится «в ангельском чине», есть «единый от ангелов божиих», а следовательно, она должна не плакать, а радоваться, идти домой к мужу и беречь его. Баба совершенно успокоилась и весело отправилась домой, сказавши: «Сердце ты мое разобрал». Другая баба сообщила ему на ухо какой-то грех; он, узнав, что она исповедалась и приобщилась, сказал ей: «Ничего не бойся, и никогда не бойся и не тоскуй; только бы покаяние не оскудевало в тебе – и все бог простит» и т. д. Является, наконец, великосветская «маловерная дама», Хохлакова, мать упомянутой, исцеленной старцем Lise, исповедуется, что она страдает неверием не относительно бога, а относительно будущей жизни, и это ее мучит. Старец рассеял ее сомнения, успокоил ее, сказав, что уже много значит одно сознание ею своего греха и скорбь об нем и т. д.
Вообще благотворения великого старца, равно как и его поучения, имели чисто духовный, теоретический, так сказать, платонический характер; старец был, что называется, созерцательный мистический аскет. О деятельном же, практическом аскетизме ни о. Зосима, ни его автор не имеют ни малейшего понятия. Больше всего доставалось старческих поучений на долю окружающих его лиц, именно, кроме Алеши, еще о. Паисия и о. Иосифа, ученого монастырского библиотекаря и многих других лиц из монастырской братии. Соберутся они, бывало, в келии старца и начнут вести мудрую беседу о божественных предметах или хоть о земных предметах, но с божественной точки зрения; решающий голос всегда, конечно, принадлежит старцу, он всех поучает. Эти его поучения также изложены подробно в разных местах романа. Иногда на этих беседах обсуждались брошюры и статьи по разным современным вопросам, например, об отношении между церковью и государством, о суде гражданском и церковном. Зосима купно с другими иноками решил, что на Западе, у лютеран и католиков, церковь исчезла, а сохраняется только у нас, что идеал общества и государства есть превращение их в церковь (в этом пункте иноки сходятся с нашим мистиком-философом г. Соловьевым), что гражданский суд совершенно неудовлетворителен и останется таким, пока не будет заменен судом церкви.
«Царство небесное, – говорил отец Паисий, – разумеется, не от мира сего, а в небе; но в него входят не иначе, как чрез церковь, которая основана и установлена на земле. Церковь же есть воистину царство, и определена царствовать, и в конце своем должна явиться как царство на всей земле, несомненно, на что имеем обетование… По иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве за то как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, – и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди!.. Там, на Западе, церквей уже и нет вовсе, говорил отец Зосима, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство. А потому сам преступник членом церкви уж и не сознает себя и, отлученный, пребывает в отчаянии. Во многих случаях, казалось бы, и у нас то же; но в том и дело, что, кроме установленных судов, есть у нас сверх того еще и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но все же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим несомненно, инстинктом души его, признаваемый… Правда, усмехнулся старец, теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведных; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преображения из общества, как союза почти еще языческого, во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться» (I, 101–108).
Старец Зосима был даже провидцем и многое пророчествовал. Одна вдовица, долго не получавшая известий от сына, хотела его поминать за упокой и пришла посоветоваться со старцем, который уверил ее, что сын скоро приедет или письмо пришлет. И действительно, сын скоро приехал. Однажды старец ни с того ни с сего поклонился в ноги Димитрию Карамазову, во время ссоры его с отцом в присутствии старца. Вое недоумевали, что это значит; но старец сказал по секрету Алеше: «Я поклонился его великому будущему страданию». Это оракульское изречение скоро разъяснилось и оправдалось: Митя Карамазов безвинно пострадал. Вследствие этого поклонники о. Зосимы считали его еще при жизни формально святым и с уверенностью ожидали, что тотчас же после смерти он начнет творить чудеса, что от тела его немедленно станет исходить благоухание. Но эти надежды не оправдались, и тело Зосимы вскоре после смерти начало издавать на благоухание, а зловоние, или, как выражается автор для эвфемизма, «тлетворный дух», что глубоко и неприятно поразило Алешу. Автор очень подробно останавливается на этом чувстве юного послушника, которое, по его словам, составило в душе его «перелом и переворот, потрясший, но укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели». Автор посвятил много страниц в романе на то, чтобы разъяснить истинный смысл этой скорби Алеши и доказать, что в ней не было ничего предосудительного. Автор горячо заверяет, что скорбь Алеши о «тлетворном духе» от тела о. Зосимы не была легкомысленным и нетерпеливым ожиданием чудес, которые были бы нужны для укрепления его в вере, а проистекала только из горячей любви к почившему старцу, не была ропотом на бога, а проистекала из желания высшей справедливости, которая требовала, чтобы тело старца было прославлено благоуханием, а не низвержено и опозорено тлетворным духом, и т. д. и т. д. Словом, автор пустился здесь в такую казуистику и схоластику, что обыкновенному не просвещенному мистикой человеку и не понять его аргументации.
Третьим праведником в романе или по крайней мере принадлежащим к десной стороне овец был брат Алеши, Димитрий Карамазов. Это был человек нрава буйного и неукротимого, кутила, безобразник и дебошир, отличался, вероятно, унаследованным от отца сладострастием и склонностью к блуду. Но при всем том это был человек верующий, имевший в сердце бога и совесть и потому любивший и уважавший Алешу, откровенно каявшийся перед ним во всех своих прегрешениях и сгоравший желанием исправиться и начать новую, вполне богобоязненную и благочестивую жизнь. Он был страстно влюблен в упомянутую Грушеньку, которая имела поразительное сходство с ним в нравственном отношении, так как, несмотря на свое блудное сожительство с купцом Самсоновым, она все-таки была женщина верующая, имела в сердце бога и совесть, любила и почитала Алешу и старцу Зосиму каялась в своих согрешениях и желала исправления. Первоначально она была влюблена – странно сказать – в поляка, пана Муссяловича, который в изображении его автором очень напоминает пана Копычинского в «Юрии Милославском»; и этот представлен таким же глупым, пошлым и трусливым, каким изображен у Загоскина тот. Сопоставив пана Муссяловича с Митей Карамазовым, Грушенька сразу почувствовала презрение к негодному полячку, отдала предпочтение Мите и любила его всецело и безраздельно до самого конца романа.
Этому Мите Карамазову посвящена большая часть романа, так что его можно считать главным героем. Несмотря на дебоширство и сладострастие, несмотря на то, что и он тоже не кончил гимназии, Митя был замечательным религиозным философом и мистиком, и многие его суждения буквально были согласны с поучениями старца Зосимы, хотя из романа не видно, чтобы он слышал или читал их. Большею частью он изливал свою душу и делал откровения перед Алешей, и эти излияния были до того беспорядочны и дики, до того бурны и энтузиастичны, что автор заставлял его в это время попивать коньячок, чтобы излияния казались естественнее. Он говорит о себе, что как бы ни пал он глубоко и позорно, но в нем все-таки сохранится искра божия, и самое падение послужит для восстания.
У Мити была невеста Катерина Ивановна, однажды вручившая ему для отсылки кому-то три тысячи рублей, которые он утаил и растратил. Затем он изменил невесте для Грушеньки; но он не хотел остаться подлецом перед невестой и решил во что бы то ни стало достать где-нибудь три тысячи и возвратить ей. Но, несмотря на все поиски и попытки, он нигде не достал денег; и к этому горю его прибавилось другое: Грушенька отправилась к своему прежнему возлюбленному, пану Муссяловичу; Митей овладело отчаяние, и он решил покончить с собой; но предварительно он хотел последний раз свидеться с Грушенькой. При этом свидании оказалось, что она вовсе не любит Муссяловича и даже презирает его, а всей душой предана Мите, который до того этому обрадовался, что бросил мысль о самоубийстве и стал мечтать о счастливой и добродетельной жизни с Грушенькой. Но одно неожиданное обстоятельство разрушило вконец его мечты.
Как раз в самый вечер счастливого свидания Мити с Грушенькой был убит отец Карамазов, и автор так ловко придумал все обстоятельства убийства, что подозрение в убийстве пало на Митю, совершенно неповинного. Митя был арестован и предан суду. Здесь-то и обнаружилось все величие души Мити, вся глубина его веры и преданности промыслу. Для славы божией и для искупления своих прежних грехов он решился пострадать безвинно. Кроме того, однажды он видел во сне страдающее дитя или «дитё», и с тех пор его постоянно мучила мысль, отчего, почему и для чего страдает дитё и чем может быть искуплено его страдание. Вот теперь он решил кстати заодно пострадать и для искупления страданий этого дитё. Представлялось здесь ему несколько искушений, но он устоял перед ними. К нему в тюрьму повадился ходить Ракитин, семинарист-безбожник, чтобы выпрашивать у него денег, а вместе с тем чтобы поколебать его веру и совратить в безбожие, – и с этою целью толковал ему, что душа и весь духовный мир – это одна химия и нервные хвостики, в подтверждение чего ссылался почему-то на авторитет Клод Бернара, совершенно неизвестного как Мите, так, вероятно, и его автору. Но дьявольские наветы семинариста только временно смутили, а вовсе не поколебали Митю. Затем брат его, Иван Карамазов, предлагал ему для уклонения от суда и наказания бежать в Америку; он же отверг и это искушение. Но предоставим самому Мите изложить его планы и рассказать об его искушениях.
«И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но и я целую край той ризы, в которую облекается бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть» (I, 172).
«Господа, – сказал Митя следователям, постановившим заключить его под стражу, – все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех – пусть уж так будет решено теперь – из всех я самый подлый гад! Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь! Ведь может быть и очищусь, господа, а? Но услышьте, однако, в последний раз: в крови отца моего неповинен» (II, 283).
«Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе (Алеше) душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! Что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, – не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замерзшее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить, наконец, из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое страдание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много. Их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось „дитё“ в такую минуту? „Отчего бедно дитё?“ „Это“ пророчество мне было в ту минуту! За „дитё“ и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех „дитё“, потому что есть малые и большие дети. Все – „дитё“. За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! Мне это здесь все пришло… вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подземных-то, с молотками в руках. О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость, это его привилегия, великая… Господи, истай человек в молитве! как я буду там под землей без бога? Врет Ракитин: если бога с земли изгонят, мы под землей его сретим! каторжнику без бога быть невозможно, невозможнее даже, чем не каторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость! Люблю его» (II, 410–411).
«А меня бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? тогда если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога, ну, это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину; „ты, говорит он мне сегодня, о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями“. Я ему на это и отмочил: „А ты, говорю, без бога-то, сам на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку“. Рассердился. Ибо что такое добродетель? Отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, у китайца другая – вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный. Ты не засмеешься, если скажу, что две ночи не спал я от этого. Я удивляюсь только тому, что люди так живут и об этом ничего не думают» (II, 412).
«Брат Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю: все предупреждено, все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу! Ну, как ее там ко мне не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без Груши что я там под землею с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание – отверг указание, был путь очищения – поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке „при добрых наклонностях“ можно больше пользы принести, чем под землею. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятья убежал! Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто, для других это глупости, бред, вот все то, что я тебе про гимн говорил. Скажут – с ума сошел аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак» (II, 416).
Решение Мити безвинно пострадать с тем, чтобы нравственно возродиться и искупить этим чужие страдания, на первый взгляд может показаться капризом, прихотью или болезненною фантазией, а никак не общим моральным принципом, имеющим серьезную основу. Но на деле оказывается, что это решение есть настоящий моральный принцип, что его серьезно и горячо проповедует такой глубокий моралист, как старец Зосима, в своих поучениях, сочиненных, конечно, автором романа, так что, значит, поступок Мити есть только конкретная иллюстрация или практическое осуществление теоретического правила о. Зосимы. Вот как учил поступать святой старец:
«Возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват… Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримою, даже до желания отомщения злодеям, то более всего страшись сего чувства; тотчас же иди и ищи себе мук, так как бы сам был виновен в сем злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил» (I, 502–505). «Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый из всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого да и всякого на земле человека (NB). Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и утолилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас будет в силах весь мир любовию приобрести и слезами своими мировые грехи омыть…» (I, 258).
Предварительное следствие и суд над Митей описаны с такою убийственною длиннотою и с такими скучнейшими подробностями и размазываниями, что стоит больших усилий принудить себя прочитать зараз, без пропусков и перескакиваний, всю эту тянущуюся на 16-ти печатных листах канитель допросов и судебных речей, и притом искусственных, деланых, натянуто вычурных, да еще приправленных очень прозрачной и топорной иронией романиста. Читать эти речи – истинное наказание для читателей, избалованных дельными, а иногда даже блестящими прокурорскими и адвокатскими речами во всех выдающихся уголовных делах, действительных, реальных, а не сочиненных фантазией; и это наказание еще усиливается вследствие антилогической и бессмысленной пунктуации, заимствованной автором от изданий Каткова. Люди, судившие Митю, занимались своими личными делами и целями. Один желал показать свою следственную проницательность; другой из кожи лез, чтобы проявить во всем блеске свои обвинительные таланты и тем доказать, что его не ценят, что его несправедливо обходят; третий хотел блеснуть своим адвокатским красноречием, вызвать в публике смешки или аплодисменты и т. д. Присяжными же были ничего не понимающие мужички. Поэтому Митя достиг своей цели; он был обвинен, и ему представился прекрасный случай безвинно пострадать за «дитё», за всех и за вся. Как он исполнил свой гимн на деле, об этом в романе не говорится.
Переход от праведников, от десных овец к шуйим козлищам, к грешникам, составляет третий брат Карамазов, Иван, неопределенный, нетипичный и неясный, как все переходное. Его нельзя назвать простодушно и твердо верующим, как Алеша и все монастырские старцы, но также нельзя назвать и неверующим, безбожником вроде козлищ – грешников романа, для которых нет ничего выше и святее химии, нервов с хвостиками да Клод Бернара. Он относится к ним отрицательно; «не стану, – говорит он, – перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что что там гипотеза, то у русского мальчика аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров, потому что и профессора русские, весьма часто у нас теперь те же русские мальчики». Иван просто религиозный вольнодумец или религиозный скептик; он видит в мире явления, которые служат для него камнем преткновения и соблазна и не гармонируют с его религиозными представлениями. Все эти свои сомнения и соблазны он откровенно исповедал Алеше, и его бурная, горячечная, иногда даже смахивающая на бред исповедь, так же как и его поэма «Великий инквизитор», представляют единственные поэтические страницы во всем романе, и очень жаль, что эти страницы во многих местах попорчены сентиментальностью и плоскими замечаниями и возражениями Алеши. Конечно, по мыслям, по содержанию эта исповедь религиозно сомневающегося скорее сердца, чем ума, не представляет ничего нового и оригинального; эти сомнения формулированы и кодифицированы давным-давно, и для разбора и умиротворения их существует даже особый отдел в теологической философии, который называется теодицеей. Но форма этих сомнений у Ивана действительно художественна.
Как он сам говорит, он принимает бога «прямо и просто», без умствований и логических рассуждений, без всяких усилий понять его. Но как только он начинает рассуждать, у него являются сомнения; он видит зло в мире, и ему оно кажется несогласимым с идеей промысла божия, и потому в душе его восстает ропот на бога, или «бунт» против него, как выражается Алеша. Митю, как мы видели, сильно поразило страдающее «дитё», и Ивана приводят в страшное недоумение тоже страдания детей. Вот генерал затравил собаками ребеночка, который камнем зашиб ногу любимой его гончей; вот родители образованные бьют, секут, истязают пятилетнюю девочку, запирают ее на ночь в отхожее место, «обмазывали ей все лицо калом и заставляли ее есть этот кал». Нечего уже и говорить о том, что делали турки с славянскими детьми. Иван никак не может понять причины и цели этих безвинных страданий и не может примириться с ними даже с религиозной точки зрения. С негодованием он отвергает мысль, что страдания эти необходимы для какой-то общей гармонии. А если есть такая гармония, то эти страдания должны быть искуплены. Но искупить их нечем. Наказать мучителей? Но эти наказания не воротят страданий, не уничтожат мучений, погубивших столько детей. Простить мучителей? Но такое решение кажется Ивану неудовлетворительным и неприятным. Да и кто может и имеет право простить? В мире нет такого существа, решил Иван. На возражение Алеши, что таким существом может быть «единый безгрешный», Иван ответил поэмой «Великий инквизитор». В ней развивается та известная ходячая мысль, что католичество и преимущественно иезуиты, снисходя к человеческой слабости, смягчили строгость христианской морали, сделали ее более доступной и удобоисполнимой для слабых сил человека; что они были снисходительны к человеческим немощам, делали поблажки человеческим слабостям с тем, чтобы вернее завладеть совестью и волею людей для их же собственного блага. Инквизитор убежден, что счастье людей не в свободе, а в порабощении воли, в подчинении авторитету, как учил и о. Зосима, что люди скоро пресыщаются свободой, не дающей им счастья, и с жаром бросаются в объятия своих духовных отцов, своих монастырских старцев, говорящих, действующих от имени высшего авторитета. К инквизитору явился «единый безгрешный», которого он запер в тюрьму и к которому обратился с такими речами:
«Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?.. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“» – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой болезни и на тысячу лет сократить страдания людей, – ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали…» Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики… Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и сердится, что он бунтует. Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются, наконец, глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками без сомнения хотел посмеяться над ними… О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих» (I, 396–407).
Вольнодумствуя открыто и неосторожно, Иван соблазнил одного слугу своего отца, Смердякова, жадно ловившего каждое его антирелигиозное слово и по-своему разъяснявшего и перетолковывавшего эти слова. Но об этом речь будет дальше.
В числе козлищ-грешников первое место занимает уже упоминавшийся семинарист Ракитин, отчаянный, сухой и бессердечный безбожник, который индифферентен и глух даже к тем вопросам, которые волнуют вольнодумный ум Ивана Карамазова. Ракитин ни во что не верит, никого не любит, не имеет никаких высших интересов. Он презирает ангела Алешу, глумится – страшно сказать – над самим старцем Зосимою и всею монастырскою братиею. Единственная страсть у него – страсть к деньгам, выше и желательнее которых для него нет ничего. Вопреки своей гуманности, автор изобразил эту личность не человеком, а каким-то извергом, настоящим сатаною, в котором нет ни одной человеческой черты. Он чувствует ненависть и злобу к этому своему созданию, как к своему личному врагу и обидчику; это преступник, к которому нет жалости и сострадания и который не заслуживает прощения, так как он хуже тех, которые мучат детей. Автор бывает чрезвычайно доволен собою и рад, когда ему удается как-нибудь поддеть и уязвить Ракитина, поставить его в глупое или неловкое положение, унизить и опозорить его публично. Был, например, такой случай. В торжественном заседании суда по делу Мити, при многочисленном стечении лучшей публики, Ракитин, давая свои показания, хвастался и пускал пыль в глаза своим либерализмом. Вслед за этим автор выводит на сцену Грушеньку и заставляет ее на вопрос адвоката показать, что мать ее и Ракитина были родные сестры, но что он постоянно просил ее никому об этом не говорить. Итак, либерал Ракитин есть кузен блудницы! Какой позор! Ракитин побагровел; все гражданское благородство его либеральных показаний, говорит автор, было на этот раз уже «окончательно похерено и уничтожено в общем мнении». Относительно Ракитина странно только одно: автор говорит о нем, что он усердно сеял свои лжеучения и старался распространять свои заблуждения; он старался смутить Митю, как мы видели, так же он соблазнял юных гимназистов. Спрашивается, с какою целью и по каким мотивам он это делал? Ужели это доставляло ему большие деньги, которые составляли единственную цель его жизни?
Столь же ужасным грешником был и Карамазов-отец, Федор Павлович. Он был не только безбожником и сребролюбцем, как Ракитин, но еще ужасным сладострастником и блудодеем. Единственною целью, идеалом и задачей его жизни было блудодейство; он мечтал и жаждал как можно дольше прожить, и все это для того, чтобы как можно дольше блудодействовать. И, кроме того, он был циничен до пошлости, до отвратительности. Вообразите такую сцену: этот отец, старый блудодей, дает своим детям, и в том числе Алеше, идеалу целомудрия и девственной стыдливости, такое нравоучение: «Я, говорит он сыну Ивану, покажу тебе в деревне одну девчонку, которую давно насмотрел; хотя она босоножка, но не пугайся босоножек, не презирай – перлы». И затем, обращаясь к обоим сыновьям, он преподал им такую родительскую заповедь своей опытности.
«Эй, вы, ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня… даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молоко течет, не вылупились! По моему правилу во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, что ни у которой другой не найдешь, – только надобно уметь находить, вот где штука. Это талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего… да где вам это понять! Даже вьельфильки и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить – вот как надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни» (I, 217–218).
И затем, обращаясь к Алеше, он с таким же бесстыдным цинизмом начинает вспоминать о его покойной матери и рассказывать, как он побеждал и увлекал ее своими блудодейственными приставаниями. Бедный юноша, благоговейно любивший свою мать и хранивший о ней святое воспоминание, не выдержал, с ним сделался истерический припадок. Эта картина, хоть, может быть, она и очень реалистична, но производит гадкое впечатление.
Вот до какой гадости и скотоподобия может унизиться человек, потерявший в сердце своем искру божию и утративший веру, и унизиться именно вследствие этой утраты. Карамазов-отец – безбожник и разделяет убеждения, диаметрально противоположные мировоззрению своего автора, который поэтому так и беспощаден к нему. Отец спрашивает у сыновей, есть ли бог и бессмертие; Алеша утверждает, что есть, а Иван полушутя, полусерьезно говорит, что нет. Отец решает, что Иван прав, пускается в вольнодумную философию, начинает либеральничать насчет монастырей и монахов. Он в монастыре сделал сцену, обидел игумена и братию и, намекая на это, говорит Алеше: «Ведь, коли бог есть, существует, – ну, конечно, я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе – то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают». У него даже явилась мысль, свойственная многим либералам, вовсе упразднить монастыри. «Взять бы, – говорит он, – всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтобы окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило». Впрочем, когда Иван пугнул отца, что при ограблении и упразднении монастырей также ограбят и упразднят его самого, то он струсил и примирился с существованием монастырей. Но бог и бессмертие все-таки очень его смущали. «Господи, – философствует он, – подумаешь только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком?»
Существовала на свете девка, Лизавета Смердящая, безобразная, грубая, грязная, совершенная идиотка, почти без дара слова; она скиталась без всякого пристанища, зимою и летом ходила босая и в одной посконной рубашке, и все существо ее было пропитано грязью и зловонием; словом, это было животное, да даже, пожалуй, хуже животного. Однакоже Карамазов-отец, верный своей теории, что во всякой женщине непременно есть нечто женское, не погнушался даже Лизаветой Смердящей, находил, что «тут даже нечто особого рода пикантное», и сотворил блуд с нею; она зачала и родила сына, которого поэтому назвали Смердяковым. Карамазов-отец взял его на воспитание, вырастил и сделал его своим слугою. Это исчадие, этот плод греха оказался вполне достойным своего родителя и своего греховного происхождения. Этот Смердяков был такой ужасный, закоренелый, холодный и методический злодей, какого трудно себе и представить. Это был не человек, а просто сатана во плоти. И у него порочность и преступность вытекали из неверия и атеистических заблуждений, которые он подслушал у своего барина-отца и барина-брата, Ивана Карамазова, и перетолковал по-своему. И что всего замечательнее, этот ужасный злодей был не славянофил, так как из славянофилов не может выйти такого злодея, а крайний западник, чем и объясняется его злодейство. Он отвергает поэзию и стихи, считая их «существенным вздором-с»; русского патриотизма в нем ни капли. Он сам делал перед своей возлюбленной на любовном свидании следующие признания: «Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна, не только не желаю быть военным гусариком, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с. В 12-м году было на России великое нашествие императора Наполеона французского Первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с». Уже под старость он усердно изучал французские вокабулы, «чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда-нибудь в тех счастливых местах Европы, может, придется быть».
Вот какой любопытный субъект: лакей, западник, либерал и злодей! Вообще автор наделил Смердякова таким диалектическим талантом, что это даже представляется невероятным. Вот, например, какие диалектические тонкости он отмачивал. По поводу разговора о подвиге солдата, который не хотел отречься от веры даже и тогда, когда турки начали сдирать с него кожу, Смердяков заметил, что не было бы большой беды, если бы солдат и отрекся от веры для своего спасения. На представленные ему возражения он отвечал такой аргументацией. Как только, рассуждает он, у меня явится хоть мимолетное намерение отречься от веры, тотчас же «я самым высшим божиим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучен совершенно, как бы иноязычником, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет-с, как я отлучен». А раз человек отлучен от церкви, от христианства, то формальное отречение уже не имеет значения и смысла. «Коли я уж не христианин, значит я не могу от Христа отрекнуться, ибо не от чего тогда мне и отрекаться будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, хотя и в небесах, за то, что он не христианином родился… Даже сам бог вседержитель с татарина если и будет спрашивать, когда тот помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием, рассудив, что ведь не повинен же он в том, что если от поганых родителей поганым на свет произошел». А затем он огорошил своих противников таким возражением: в писании сказано, что кто имеет хоть слабую веру, тот если прикажет горе двинуться в море, то она и двинется, а никто из вас этого не может сделать, значит, вы сами люди неверующие.
Этот Смердяков убил Федора Павловича Карамазова-отца, вполне ему доверявшего. Это убийство задумано и совершено с такою сатанинскою обдуманностью и предусмотрительностью, с таким адским хладнокровием и методичностью, что у читателей волосы должны были бы стать дыбом от ужаса перед титаничностью такого преступника, если бы ежеминутно к ним не закрадывалось в голову справедливое подозрение, что автор пересаливает, шаржирует и фантазирует. Слыша от Ивана Карамазова правило, что «все дозволено», Смердяков намотал себе на ус это правило. Затем по некоторым признакам и намекам Смердяков догадывался, что Ивану в видах наследства была бы приятна и желательна смерть отца, и он рассчитывал, что отца убьет другой сын, Митя, который ненавидел отца, ревновал его к Грушеньке, до безумия очаровавшей старика, и имел с ним какие-то нескончаемые денежные счеты. В том случае, если бы Митя убил отца, Смердяков собирался похитить три тысячи рублей, хранившиеся в известном ему одному месте. Иван и Алеша, получивши наследство только на двоих, не стали бы доискиваться этих трех тысяч или же сочли бы их похищенными Митей. Если же Митя не убьет отца, то сам Смердяков сделает это. И при этом Смердяков составил план совершить убийство при таких обстоятельствах, чтобы подозрение пало только на Митю, а он бы остался вне всякого подозрения. В этом случае он, во-первых, все-таки похитил бы те три тысячи и, кроме того, рассчитывал получить от Ивана награду. Этот план был приведен им в исполнение так искусно, все обстоятельства были подстроены так ловко, и следователи с прокурорами попались в расставленные для них Смердяковым тенета и силки так глупо, что действительно был заподозрен, предан суду и осужден только Митя, а Смердяков остался вне всякого подозрения и не был предан суду. Кончил он свою злодейскую жизнь достойным образом. Узнавши о том, что Иван вовсе не желал смерти отца и что поэтому он не может ожидать от него никакой награды, он возвратил ему похищенные три тысячи, как некогда предатель Иуда возвратил тридцать сребреников, а сам повесился тоже подобно Иуде.