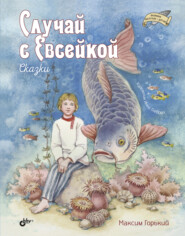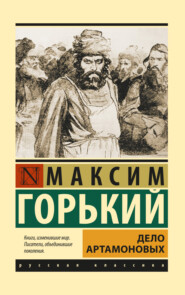По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дело Артамоновых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дело Артамоновых
Максим Горький
100 великих романов
Роман Максима Горького (1868–1936) о семейном бизнесе выходцев из крепостных крестьян – непростая история жизни трех поколений семьи русских фабрикантов. Горький хорошо знал эту среду и понимал, что слишком быстрый социальный рост нередко приводит к вырождению, губит людей, превращая их из хозяев «дела» в его рабов.
Максим Горький
Дело Артамоновых
© Клех И. Ю., вступительная статья, 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Знак информационной продукции 12+
Максим Горький, 1868–1936
Предыстория катастрофы
Отчего столь успешно затеянное и процветавшее на протяжении полувека «дело Артамоновых» – ткацкая фабрика – оказалось делом проигранным и гиблым? Роман Максима Горького (1868–1936) о семейном бизнесе выходцев из крепостных крестьян написан им в эмиграции и увидел свет в 1925 году, но задуман был намного раньше.
Еще на рубеже XX века в разговоре с Толстым Горький поделился своим недоумением: отчего так часто в России уже в третьем поколении предпринимателей происходит вырождение и накопленный капитал распыляется? А Горький хорошо знал эту среду и узнал еще лучше, когда, став писателем-миллионером, осуществлял посредничество между капиталистами и марксистами, добывая деньги на революцию в России где только возможно. Ничего особо нового в таком наблюдении не было: «новые деньги» всегда и везде вызывают недоверие и имеют тенденцию к распылению, а чересчур быстрое возвышение, так называемый социальный рост, неустойчиво и чревато крушением. Слишком это очевидно, оттого и первая половина романа «Дело Артамоновых» так добротна, пресновата и предсказуема. И недаром он был написан Горьким только четверть века спустя, когда История проделала свою часть работы над сюжетом, преобразив его до неузнаваемости – превратив семейную драму в историческую трагедию. Две революции 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война будут событиями посерьезнее истории разорения семейства каких-то купцов или фабрикантов. Грандиозная их тень легла на историю дела Артамоновых и накрыла их самих. Писатель не довел ее до начала Гражданской войны – только до Февраля, отречения царя, остановки фабрики и смертоносного дыхания начинающейся смуты. Работает не хуже, чем саспенс в фильмах Хичкока, когда рука с ножом уже занесена, но все тянет с нанесением удара. Начиная с угара купеческого кутежа на ярмарке, все возрастающей дезориентации людей в провинции, абсурдности рассуждений и политиканских разговоров младших Артамоновых, обреченности и беспомощности мышления старшего Артамонова, сужения, фрагментации и распада сознания героев повествование приобретает черты модернистского романа, а не реалистического и социального. Между прочим, Горький не показал читателю самого «дела Артамоновых» – ни разу не завел читателя в цеха фабрики или в жилища рабочих, в отличие, скажем, от Золя в его романах или в своем собственном, заслуженно забытом ныне пропагандистском романе «Мать», написанном после первой русской революции двумя десятилетиями ранее, когда все только начиналось. Мы издали видим только фабричные корпуса «цвета сырого мяса» и от автора знаем, что построены они на песчаном грунте у реки (поскольку в тогдашней России способную родить землю берегли). Младшему Артамонову, горбуну Никите, немалых трудов стоило разбить на таком грунте сад. Но не в этом суть.
Дело Артамоновых не оползень уничтожил или некомпетентность управляющих фабрикой, а другой оползень – исторический, когда социальный вулкан заработал, сметя с лица земли прежнюю полупатриархальную и химерическую Россию. Катаклизм, впрочем, вполне предсказуемый. Горький заодно со всеми пожал плоды той революции, которой так страстно жаждал и наступлению которой всеми силами способствовал, – и ужаснулся. Смятение и подвигло его попробовать осмыслить в эмиграции произошедшее.
В 1922 году в Берлине он опубликовал статью «О русском крестьянстве», в которой попытался возложить вину за трагические последствия бунта и социального переворота на крестьянство, на ту «среду, в которой разыгралась и разыгрывается трагедия русской революции. Это – среда полудиких людей». Таких как Артамоновы и те рабочие, что пришли из деревень трудиться на их фабрике, и те крестьяне, что остались в деревнях, чтобы обрабатывать обещанную им революционерами землю, и те солдаты, что вернулись с фронта искалеченными или дезертировали с оружием. А это подавляющее большинство населения в крестьянской стране, иначе говоря – народ. Горький в своей статье приводит множество примеров якобы специфической грубости и жестокости крестьян, да и русских людей в целом, находя тому подтверждение в нашем фольклоре и сказках. Он что же, немецких сказок не читал?! Или не знал, какие жестокости в Западной Европе и повсюду творились веками? Начитанный же был человек. Напротив, вполне обоснованно писатель увидел в революции закономерный результат тысячелетнего противостояния организованных горожан и разобщенного крестьянства – как бы восстание сил земли и природы против достижений техники и культуры. Философию с идеологией Алексей Максимович уважал и сам охотно подвизался на их поприще, пытаясь соперничать в этом с Достоевским и Толстым, но в данном случае сплоховал, по собственному признанию: «В чем, где корни человеческой жестокости? Я много думал над этим и – ничего не понял, не понимаю». Показателен следующий пассаж в его статье: «Великий князь Сергей Романов рассказал мне, что в 1913 году, когда праздновалось трехсотлетие династии Романовых и царь Николай был в Костроме, Николай Михайлович – тоже великий князь, талантливый автор целого ряда солидных исторических трудов, – сказал царю, указывая на многотысячную толпу крестьян: “А ведь они совершенно такие же, какими были в XVII веке, выбирая на царство Михаила, такие же; это – плохо, как ты думаешь?” Царь промолчал. Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы».
Здесь-то и зарыта собака – ключ, ответ и информация к размышлению о путях модернизации и трансформации, которые переживали, переживают и будут переживать впредь все без исключения народы, втянутые во всемирную историю. Но слишком уж болезненными для Горького были чудовищные впечатления от войны всех со всеми и угрызения совести. Тем не менее появился у него собственный ответ с оправданием происходящего в духе жестокого романтизма этого «сокола» и «буревестника» социального катаклизма: «Как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень – все те почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их заменит новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей». Таким ответом должна была стать ФАБРИКА ЛЮДЕЙ (так называлась изданная с предисловием Горького книга о перевоспитании беспризорников чекиста и педагога Погребинского, предшественника Макаренко, по которой вскоре снят был первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь», отмеченный наградой I Венецианского МКФ и прокатанный в ста с лишним странах).
В конце концов Горький вернется из эмиграции на родину, чтобы в одной упряжке со Сталиным, как приглашенный «инженер человеческих душ», заняться строительством подобной «фабрики людей». И самое поразительное, что у них это получится – ценой огромных потерь успех будет впечатляющим! Хотя не полным и не окончательным. Потому что с продукцией этой фабрики, хомо советикусом, постепенно начнет происходить трансформация – по причине принудительного поголовного ликбеза, реабилитации в 1937 году Пушкина, а впоследствии и царской России, в которой не все так уж плохо было, на плечи военных вернутся погоны, в уцелевшие и восстановленные церкви возвратятся попы; со временем вправятся вывихи, срастутся суставы, только ныть и побаливать будут к непогоде. По-настоящему смешную и жутковатую поговорку приводит Горький в той злополучной статье: «Бей русского – часы сделает». Но не кипятись, читатель, кем бы ты ни был, и не сей ветер – беду накличешь в очередной раз. Утром будем сажать, а вечером выкапывать и жаловаться, что опять не уродился картофель у нас. Уроки Истории ведь просты и в тысячный раз сводятся к повторению элементарных истин – для великодушных и начитанных: «Mea culpa», для малодушных и дремучих: «Иди и не греши больше».
Та статья Горького разрыхлила почву, на которой выросло его «Дело Артамоновых». Кое-что из нее буквально «перетекло» в роман, как афоризм, например: «Как я могу врать, ежели ничего не знаю?» Это слова самого загадочного героя горьковского романа, тягостного спутника Артамоновых – землекопа и дворника Тихона Вялова. Более всего он походит на героев Андрея Платонова и выражается так же темно и коряво, но точно, как оказывается. Смысл проходящей рефреном дурацкой его присказки «потеряла кибитка колесо» только в конце романа доходит до Петра Артамонова на его смертном одре.
Пожалуй, самое интересное и художественно значимое в романе Горького – это фатальная неспособность его героев думать. Они пытаются, но «слова, как мухи», мешают им «думать о чем-то важном», пока «в лютом озлоблении плоти» не приходят они к выводу, «что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя». Все они или живут по привычке (соответственно заветам и примеру отцов и дедов и находя подходящее случаю обоснование в бездонной сокровищнице русского фольклора), или тугодумы (для мозговых извилин которых мучительно и непосильно прохождение всякой посторонней и самодеятельной мысли), или легковесные говоруны и путаники (от которых не продохнуть будет в следующем, грандиозном и неоконченном романе Горького «Жизнь Клима Самгина» – повторной попытке писателя взять неподъемный «вес» приключившейся с Россией беды). Трагизм и плачевные последствия подобного безъязычия и безмыслия понимали только лучшие русские поэты и писатели, и Горький в их числе.
Стоит только добавить, что горьковские Артамоновы начисто лишены той опоры, которой обладали старообрядцы, представлявшие собой становой хребет русского купечества и предпринимательства. Эти своего рода православные «протестанты», применительно к ведению дел и деловой этике, имели твердые моральные устои. Помимо веры высшей ценностью для этих трудолюбивых, расчетливых и строгих людей было целомудрие в широком смысле – как забота об общем благе данного народа. И непререкаемой ценностью для старообрядцев являлось «купеческое слово» – нарушителей слова и уходящих в запои «разгильдяев» было принято буквально «стирать в порошок»: писать мелом имя на доске, стирать тряпкой и не вести больше с ними никаких дел. Первых было немного, но на них все держалось, а вторых развелось в пореформенной России немерено. Артамоновы не относились ни к первым, ни ко вторым. Превыше всего для них было их «дело», о котором лучше всего сказал тот же Вялов: «Дело – перила человеку; по краю ямы ходим, за них держимся». Но и дело может быть мертво, о чем тот же Вялов изрек: «Делам черт Каина обучил». И Каина не «от балды» упомянул – его брата-грабителя убил основатель артамоновского дела кистенем когда-то, а сам он тогда бегством спасся, как выясняется в конце романа. Намеревался было отомстить за смерть брата, да передумал, нанявшись к Артамоновым и став для них не столько затаившимся злым гением, сколько помощником, невразумительным оракулом и свидетелем конца затеянного ими дела. Темная лошадка. Как тот описанный Достоевским в «Записках из Мертвого дома» каторжник, что перекрестился, прежде чем зарезать у всех на глазах товарища. Что здесь можно понять в таких дебрях темного сознания? Как не способны были понять логику друг друга следователь и «злоумышленник», отвинтивший крепежные гайки от рельсов на грузила для рыбалки, в известном рассказе Чехова. Спасибо писателям, которые делали хотя бы попытку проникнуть в эти кромешные дебри – осветить их, насколько это бывает возможно.
Горький был богоборцем и отпустил усы, как у Ницше, одно время увлекался квазимарксистским богостроительством, да разочаровался в нем, заявив: «Бог выдуман – и плохо выдуман! – для того, чтобы укрепить власть человека над людьми, и нужен он только человеку-хозяину, а рабочему народу он – явный враг».
Кабы не талант и самообразование, быть бы ему кем-то вроде Распутина, а не соцреалистического «Толстого», – того же замеса человек, человечище.
Игорь Клех
Ромэну Роллану, человеку, поэту
Глава I
Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого», – ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дремове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой глаза, и было отмечено, что, когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.
Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили – прасол, другие – бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:
– Уповательно – из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.
А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:
– Видали, – лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.
Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.
После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:
– Кто таков?
Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:
– Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.
Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:
– Зовут – Илья, прозвище – Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело – не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа – в четвертом.
Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.
Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился самчетверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:
– Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.
Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего – Петр, горбатого – Никита, а третий – Олешка, племянник, но – усыновлен им, Ильей.
– Лен мужики наши мало сеют, – раздумчиво заметил Баймаков.
– Заставим сеять больше.
Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший – похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей – кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.
– В солдаты одного? – спросил Баймаков.
– Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.
И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:
– Выдьте вон.
А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:
– Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.
Максим Горький
100 великих романов
Роман Максима Горького (1868–1936) о семейном бизнесе выходцев из крепостных крестьян – непростая история жизни трех поколений семьи русских фабрикантов. Горький хорошо знал эту среду и понимал, что слишком быстрый социальный рост нередко приводит к вырождению, губит людей, превращая их из хозяев «дела» в его рабов.
Максим Горький
Дело Артамоновых
© Клех И. Ю., вступительная статья, 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Знак информационной продукции 12+
Максим Горький, 1868–1936
Предыстория катастрофы
Отчего столь успешно затеянное и процветавшее на протяжении полувека «дело Артамоновых» – ткацкая фабрика – оказалось делом проигранным и гиблым? Роман Максима Горького (1868–1936) о семейном бизнесе выходцев из крепостных крестьян написан им в эмиграции и увидел свет в 1925 году, но задуман был намного раньше.
Еще на рубеже XX века в разговоре с Толстым Горький поделился своим недоумением: отчего так часто в России уже в третьем поколении предпринимателей происходит вырождение и накопленный капитал распыляется? А Горький хорошо знал эту среду и узнал еще лучше, когда, став писателем-миллионером, осуществлял посредничество между капиталистами и марксистами, добывая деньги на революцию в России где только возможно. Ничего особо нового в таком наблюдении не было: «новые деньги» всегда и везде вызывают недоверие и имеют тенденцию к распылению, а чересчур быстрое возвышение, так называемый социальный рост, неустойчиво и чревато крушением. Слишком это очевидно, оттого и первая половина романа «Дело Артамоновых» так добротна, пресновата и предсказуема. И недаром он был написан Горьким только четверть века спустя, когда История проделала свою часть работы над сюжетом, преобразив его до неузнаваемости – превратив семейную драму в историческую трагедию. Две революции 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война будут событиями посерьезнее истории разорения семейства каких-то купцов или фабрикантов. Грандиозная их тень легла на историю дела Артамоновых и накрыла их самих. Писатель не довел ее до начала Гражданской войны – только до Февраля, отречения царя, остановки фабрики и смертоносного дыхания начинающейся смуты. Работает не хуже, чем саспенс в фильмах Хичкока, когда рука с ножом уже занесена, но все тянет с нанесением удара. Начиная с угара купеческого кутежа на ярмарке, все возрастающей дезориентации людей в провинции, абсурдности рассуждений и политиканских разговоров младших Артамоновых, обреченности и беспомощности мышления старшего Артамонова, сужения, фрагментации и распада сознания героев повествование приобретает черты модернистского романа, а не реалистического и социального. Между прочим, Горький не показал читателю самого «дела Артамоновых» – ни разу не завел читателя в цеха фабрики или в жилища рабочих, в отличие, скажем, от Золя в его романах или в своем собственном, заслуженно забытом ныне пропагандистском романе «Мать», написанном после первой русской революции двумя десятилетиями ранее, когда все только начиналось. Мы издали видим только фабричные корпуса «цвета сырого мяса» и от автора знаем, что построены они на песчаном грунте у реки (поскольку в тогдашней России способную родить землю берегли). Младшему Артамонову, горбуну Никите, немалых трудов стоило разбить на таком грунте сад. Но не в этом суть.
Дело Артамоновых не оползень уничтожил или некомпетентность управляющих фабрикой, а другой оползень – исторический, когда социальный вулкан заработал, сметя с лица земли прежнюю полупатриархальную и химерическую Россию. Катаклизм, впрочем, вполне предсказуемый. Горький заодно со всеми пожал плоды той революции, которой так страстно жаждал и наступлению которой всеми силами способствовал, – и ужаснулся. Смятение и подвигло его попробовать осмыслить в эмиграции произошедшее.
В 1922 году в Берлине он опубликовал статью «О русском крестьянстве», в которой попытался возложить вину за трагические последствия бунта и социального переворота на крестьянство, на ту «среду, в которой разыгралась и разыгрывается трагедия русской революции. Это – среда полудиких людей». Таких как Артамоновы и те рабочие, что пришли из деревень трудиться на их фабрике, и те крестьяне, что остались в деревнях, чтобы обрабатывать обещанную им революционерами землю, и те солдаты, что вернулись с фронта искалеченными или дезертировали с оружием. А это подавляющее большинство населения в крестьянской стране, иначе говоря – народ. Горький в своей статье приводит множество примеров якобы специфической грубости и жестокости крестьян, да и русских людей в целом, находя тому подтверждение в нашем фольклоре и сказках. Он что же, немецких сказок не читал?! Или не знал, какие жестокости в Западной Европе и повсюду творились веками? Начитанный же был человек. Напротив, вполне обоснованно писатель увидел в революции закономерный результат тысячелетнего противостояния организованных горожан и разобщенного крестьянства – как бы восстание сил земли и природы против достижений техники и культуры. Философию с идеологией Алексей Максимович уважал и сам охотно подвизался на их поприще, пытаясь соперничать в этом с Достоевским и Толстым, но в данном случае сплоховал, по собственному признанию: «В чем, где корни человеческой жестокости? Я много думал над этим и – ничего не понял, не понимаю». Показателен следующий пассаж в его статье: «Великий князь Сергей Романов рассказал мне, что в 1913 году, когда праздновалось трехсотлетие династии Романовых и царь Николай был в Костроме, Николай Михайлович – тоже великий князь, талантливый автор целого ряда солидных исторических трудов, – сказал царю, указывая на многотысячную толпу крестьян: “А ведь они совершенно такие же, какими были в XVII веке, выбирая на царство Михаила, такие же; это – плохо, как ты думаешь?” Царь промолчал. Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы».
Здесь-то и зарыта собака – ключ, ответ и информация к размышлению о путях модернизации и трансформации, которые переживали, переживают и будут переживать впредь все без исключения народы, втянутые во всемирную историю. Но слишком уж болезненными для Горького были чудовищные впечатления от войны всех со всеми и угрызения совести. Тем не менее появился у него собственный ответ с оправданием происходящего в духе жестокого романтизма этого «сокола» и «буревестника» социального катаклизма: «Как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень – все те почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их заменит новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей». Таким ответом должна была стать ФАБРИКА ЛЮДЕЙ (так называлась изданная с предисловием Горького книга о перевоспитании беспризорников чекиста и педагога Погребинского, предшественника Макаренко, по которой вскоре снят был первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь», отмеченный наградой I Венецианского МКФ и прокатанный в ста с лишним странах).
В конце концов Горький вернется из эмиграции на родину, чтобы в одной упряжке со Сталиным, как приглашенный «инженер человеческих душ», заняться строительством подобной «фабрики людей». И самое поразительное, что у них это получится – ценой огромных потерь успех будет впечатляющим! Хотя не полным и не окончательным. Потому что с продукцией этой фабрики, хомо советикусом, постепенно начнет происходить трансформация – по причине принудительного поголовного ликбеза, реабилитации в 1937 году Пушкина, а впоследствии и царской России, в которой не все так уж плохо было, на плечи военных вернутся погоны, в уцелевшие и восстановленные церкви возвратятся попы; со временем вправятся вывихи, срастутся суставы, только ныть и побаливать будут к непогоде. По-настоящему смешную и жутковатую поговорку приводит Горький в той злополучной статье: «Бей русского – часы сделает». Но не кипятись, читатель, кем бы ты ни был, и не сей ветер – беду накличешь в очередной раз. Утром будем сажать, а вечером выкапывать и жаловаться, что опять не уродился картофель у нас. Уроки Истории ведь просты и в тысячный раз сводятся к повторению элементарных истин – для великодушных и начитанных: «Mea culpa», для малодушных и дремучих: «Иди и не греши больше».
Та статья Горького разрыхлила почву, на которой выросло его «Дело Артамоновых». Кое-что из нее буквально «перетекло» в роман, как афоризм, например: «Как я могу врать, ежели ничего не знаю?» Это слова самого загадочного героя горьковского романа, тягостного спутника Артамоновых – землекопа и дворника Тихона Вялова. Более всего он походит на героев Андрея Платонова и выражается так же темно и коряво, но точно, как оказывается. Смысл проходящей рефреном дурацкой его присказки «потеряла кибитка колесо» только в конце романа доходит до Петра Артамонова на его смертном одре.
Пожалуй, самое интересное и художественно значимое в романе Горького – это фатальная неспособность его героев думать. Они пытаются, но «слова, как мухи», мешают им «думать о чем-то важном», пока «в лютом озлоблении плоти» не приходят они к выводу, «что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя». Все они или живут по привычке (соответственно заветам и примеру отцов и дедов и находя подходящее случаю обоснование в бездонной сокровищнице русского фольклора), или тугодумы (для мозговых извилин которых мучительно и непосильно прохождение всякой посторонней и самодеятельной мысли), или легковесные говоруны и путаники (от которых не продохнуть будет в следующем, грандиозном и неоконченном романе Горького «Жизнь Клима Самгина» – повторной попытке писателя взять неподъемный «вес» приключившейся с Россией беды). Трагизм и плачевные последствия подобного безъязычия и безмыслия понимали только лучшие русские поэты и писатели, и Горький в их числе.
Стоит только добавить, что горьковские Артамоновы начисто лишены той опоры, которой обладали старообрядцы, представлявшие собой становой хребет русского купечества и предпринимательства. Эти своего рода православные «протестанты», применительно к ведению дел и деловой этике, имели твердые моральные устои. Помимо веры высшей ценностью для этих трудолюбивых, расчетливых и строгих людей было целомудрие в широком смысле – как забота об общем благе данного народа. И непререкаемой ценностью для старообрядцев являлось «купеческое слово» – нарушителей слова и уходящих в запои «разгильдяев» было принято буквально «стирать в порошок»: писать мелом имя на доске, стирать тряпкой и не вести больше с ними никаких дел. Первых было немного, но на них все держалось, а вторых развелось в пореформенной России немерено. Артамоновы не относились ни к первым, ни ко вторым. Превыше всего для них было их «дело», о котором лучше всего сказал тот же Вялов: «Дело – перила человеку; по краю ямы ходим, за них держимся». Но и дело может быть мертво, о чем тот же Вялов изрек: «Делам черт Каина обучил». И Каина не «от балды» упомянул – его брата-грабителя убил основатель артамоновского дела кистенем когда-то, а сам он тогда бегством спасся, как выясняется в конце романа. Намеревался было отомстить за смерть брата, да передумал, нанявшись к Артамоновым и став для них не столько затаившимся злым гением, сколько помощником, невразумительным оракулом и свидетелем конца затеянного ими дела. Темная лошадка. Как тот описанный Достоевским в «Записках из Мертвого дома» каторжник, что перекрестился, прежде чем зарезать у всех на глазах товарища. Что здесь можно понять в таких дебрях темного сознания? Как не способны были понять логику друг друга следователь и «злоумышленник», отвинтивший крепежные гайки от рельсов на грузила для рыбалки, в известном рассказе Чехова. Спасибо писателям, которые делали хотя бы попытку проникнуть в эти кромешные дебри – осветить их, насколько это бывает возможно.
Горький был богоборцем и отпустил усы, как у Ницше, одно время увлекался квазимарксистским богостроительством, да разочаровался в нем, заявив: «Бог выдуман – и плохо выдуман! – для того, чтобы укрепить власть человека над людьми, и нужен он только человеку-хозяину, а рабочему народу он – явный враг».
Кабы не талант и самообразование, быть бы ему кем-то вроде Распутина, а не соцреалистического «Толстого», – того же замеса человек, человечище.
Игорь Клех
Ромэну Роллану, человеку, поэту
Глава I
Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого», – ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дремове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой глаза, и было отмечено, что, когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.
Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили – прасол, другие – бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:
– Уповательно – из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.
А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:
– Видали, – лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.
Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.
После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:
– Кто таков?
Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:
– Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.
Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:
– Зовут – Илья, прозвище – Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело – не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа – в четвертом.
Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.
Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился самчетверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:
– Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.
Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего – Петр, горбатого – Никита, а третий – Олешка, племянник, но – усыновлен им, Ильей.
– Лен мужики наши мало сеют, – раздумчиво заметил Баймаков.
– Заставим сеять больше.
Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший – похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей – кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.
– В солдаты одного? – спросил Баймаков.
– Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.
И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:
– Выдьте вон.
А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:
– Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.