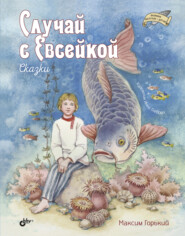По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
День в центре культуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
День в центре культуры
Максим Горький
«Огромный город накрыт грязновато-серой тучей. Она опустилась так низко, что кажется плоской и такой плотной, что разорвать её может только сила урагана. На крыши великолепных зданий, на оголённые деревья, чёрные зонтики людей и асфальт мостовой сеется мокрая пыль, смешанная с горьким запахом дыма и грибов, которые загнили. Тёмно-каменные стены домов осклизли, они как будто покрыты плесенью, чёрная мостовая траурно блестит. Гудят, звонят автобусы, автомобили, трамваи, трещат мотоциклеты, и этот треск заставляет подумать, что у города расстроен желудок. Шум почти заглушает голоса людей, люди кажутся немыми, лишь изредка слух ловит сердитые окрики и печальное всхлипывание воды в трубах водостоков. Быстро идут навстречу друг другу пешеходы, и есть что-то враждебное в том, как неохотно уступает дорогу один другому. Мелькают в глазах жёлтые ноги женщин. Женщины, покрытые зонтиками, похожи на ожившие грибы более, чем мужчины…»
Максим Горький
День в центре культуры
Огромный город накрыт грязновато-серой тучей. Она опустилась так низко, что кажется плоской и такой плотной, что разорвать её может только сила урагана. На крыши великолепных зданий, на оголённые деревья, чёрные зонтики людей и асфальт мостовой сеется мокрая пыль, смешанная с горьким запахом дыма и грибов, которые загнили. Тёмно-каменные стены домов осклизли, они как будто покрыты плесенью, чёрная мостовая траурно блестит. Гудят, звонят автобусы, автомобили, трамваи, трещат мотоциклеты, и этот треск заставляет подумать, что у города расстроен желудок. Шум почти заглушает голоса людей, люди кажутся немыми, лишь изредка слух ловит сердитые окрики и печальное всхлипывание воды в трубах водостоков. Быстро идут навстречу друг другу пешеходы, и есть что-то враждебное в том, как неохотно уступает дорогу один другому. Мелькают в глазах жёлтые ноги женщин. Женщины, покрытые зонтиками, похожи на ожившие грибы более, чем мужчины.
За высокой стеною, сшитой из гладко выстроганного тёса, возводится, уплотняя город, ещё одно огромное здание. Стена, снизу доверху, ярко расписана рекламами, у основания её отсыревшая старуха, окутав голову и плечи изношенной, грязной шалью, молча продаёт газеты. Одна из реклам изображает женщину в голубой пижаме, она сидит в жёлтом кресле, пред изящным столиком, на нём – кофейный прибор. Тонкими пальчиками розовой ручки женщина держит маленькую чашку. Всё – очень красиво и соблазнительно, только ноги женщины неестественно длинные.
К ним прижался спиною человек в чёрных очках, на деревяшке вместо правой ноги и без кисти на правой руке, левая висит вдоль тела, в ней зажата измятая серая шляпа. Он – неподвижен и тоже кажется неуместно написанным на рекламе художником-реалистом. Но он – живой, и каждые две-три минуты шевелится, подставляя прохожим шляпу. Жест этот он делает очень странно и сложно: сначала сгибает руку в локте, потом заносит её медленно к правому плечу и, делая ею косой полукруг справа налево и сверху вниз, протягивает вперёд. Лицо его морщится, перекосив рот, он двигает губами. Рука его держится вытянутой четверть минуты, не более, и снова бессильно падает вдоль тела. Этот сложный и трудный жест – бесполезен, – милостыню человеку в чёрных очках не подают, в течение двух часов никто не бросил монету в шляпу его. Чёрные стёкла на месте глаз делают лицо его мёртвым, и после каждого жеста он снова неподвижен, точно написанный на рекламе о пижамах. Он, должно быть, один из героев войны, «защитник отечества», «борец за национальную культуру». Рекламу он портит, он, вероятно, сотрёт своей спиною ноги элегантной женщины, которая так изящно держит розовой ручкой маленькую чашку для кофе.
Широкие витрины магазинов показывают тысячи метров разноцветных материй, струятся потоки шёлка, и всюду – чулки, чулки! Пред витриной с чулками стоит группа женщин, над ними – многосводный пузырь чёрных зонтиков, он совершенно скрывает головы и лица. Женщины думают о ногах своих, и, вероятно, многие из них сожалеют о том, что природа создала их только двуногими. На четыре ноги можно бы натянуть две пары прелестных чулок.
Стремительно скользит по мокрому асфальту авто «Скорой помощи» и круто поворачивает на панель, почти упираясь в дверь магазина измерительных приборов, – дорогу ему пересёк маленький шикарный автомобильчик на двоих; из него высовывается голова в блестящем цилиндре, жёлтое лицо с моноклем в глазу и кулак в рыжей перчатке, кулак гневно грозит шофёру «Скорой помощи», в другой руке человека с моноклем букет цветов. Спешно подошёл полицейский в плаще, уже собралась небольшая толпа зрителей, – в авто «Скорой помощи» что-то неблагополучно, дверь в него открыта, суетятся два санитара, поднимая кучу мокрой и грязной одежды, полицейский отдаёт честь человеку в цилиндре и, подойдя к шофёру «Скорой помощи», вынимает из-под плаща книжку, карандаш.
– Виноват не я, – кричит шофёр.
– Не он, – подтверждают зрители. Человек в цилиндре уже уехал. Полицейский молча пишет.
У витрины магазина готового платья для мужчин стоит некто в мокром пиджаке, окурок папиросы приклеен к его синей нижней губе. Воротник пиджака поднят, одна рука засунута в карман измятых брюк, другая держит под мышкой маленький ящик, в нём шевелится, повизгивает кудлатый щенок. За стеклом витрины стоят великолепно одетые люди с головами из мастики, у всех верхние части черепов пристёгнуты глазами к скулам, точно пуговицами, раскрашенные лица ангельски красивы, но несколько идиотичны. Вполне возможно, что без голов эти люди были бы внушительнее, но традиция требует, чтоб человек имел голову даже и в том случае, если она не нужна ему. Человек с кутёнком под мышкой и окурком на губе смотрит на этих людей так, точно он горестно сожалеет: почему он не манекен и не стоит за стеклом? Он тоже умеет стоять неподвижно, и от куклы его отличает только сухой, осторожный кашель. На серую кепку его регулярно, через определённое число секунд, падает крупная капля воды. Только одна почему-то.
Некоторые магазины налиты светом, и кажется, что люди в них плавают, точно рыбы в воде аквариумов. В одном разноцветно сверкают флаконы духов, рядом витрина резиновых изделий – игрушки для детей, игрушки для отцов, которые не желают иметь детей. Далее – выставка очень ярких картин; одна из них изображает фиолетовое дерево, а может быть, стог сена и синеватую женщину в тени его. Женщина – голая и лежит на боку в позе невероятно трудной – одновременно и лицом и спиной к зрителю. Синее тело её наводит на мысль, что она не только лежит, но и разлагается. Напротив – магазин ювелира, торговля перчатками, серебряная посуда. На углу – роскошный магазин дамского белья, и снова чулки, чулки! И снова группы желтоногих женщин очарованно застыли в сырости и запахе бензина, карболовой кислоты, лизола – туман прижимает все запахи к земле. Тут же, на углу, маленький, уютный писсуар, железные стенки его украшены заявлениями врачей-венерологов о их готовности лечить болезни, которые сопровождают любовь.
Откуда-то появляется тележка, запряжённая большой лохматой собакой, с красными глазами; очень старая собака, глаза её гноятся. На тележке, впереди её и сзади, торчат две палки, третья соединяет их, и на ней развешены старые, хорошо выглаженные брюки. Сзади тележки идёт, виновато улыбаясь, сухонький человечек небольшого роста, кривые ноги его шагают по асфальту нерешительно, как по тонкому стеклу. Из-под полей старого котелка виден рот, растянутый улыбкой, и острый, небритый подбородок. Это – честный торговец, он не скрывает изъянов своего товара, – вся коллекция брюк в заплатах, к одной паре пришиты от колен продолжения из материи другого цвета, темнее; можно думать, что бывшему носителю этой пары брюк отрезали ноги. Пешеходы посматривают на торговца с недоумением.
Величественным жестом руки полицейский останавливает подвижной магазин брюк; собака устало садится на мокрый асфальт, но тотчас же встаёт и, оглянувшись назад, нюхает воздух. Что-то не понравилось ей, так же как и полицейскому. Он угрожающе поднял толстый белый палец, затем жестом полководца с дешёвой картины протянул руку в глубину тихой улицы, украшенной двумя рядами мокрых деревьев; на каждом из них – по десятку жёлтых листьев, они как будто сосчитаны и оставлены только для того, чтоб напомнить людям о возможности весны. Хозяин магазина брюк, сняв котелок, обнажив лысый череп, указывает полицейскому куда-то за его плечо, но полицейский неумолимо недвижим, и собака, зевнув, поворачивает тележку с брюками туда, куда повелевает власть.
– Всё, что может быть куплено, должно быть продано; так или не так?
Это говорит седой, курчавый, горбоносый человек, в зелёном переднике, протирая тряпкой стекло витрины, забрызганное грязью.
– Да. Но – скорей, скорей, – торопит его маленький, круглый приказчик, стоя у двери магазина.
Похоронная процессия тоже торопится. Чёрные люди в цилиндрах, ведя за собою тощих чёрных лошадей, шагают слишком быстро, они как будто смущены тем, что в таком великолепном городе, на такой богатой улице им пришлось провожать кого-то, кто не мог заработать себе на похороны более приличные. Чёрная колесница судорожно трясёт кистями и тихонько поскрипывает, внутри её стоит гроб, небольшой, рыжий, он похож на чемодан. За колесницей следует наёмный автомобиль, рядом с шофёром – человек без шляпы, длинноволосый, с растрёпанной седой бородкой, в очках. А сзади автомобиля сердито стучит грузовик, наполненный бочками, они распространяют запах солёной рыбы, на бочках, прикрыв плечи брезентом, сидит парень в шляпе из клеёнки; презрительно оттопырив губы, он наблюдает, как безуспешно шофёр грузовика пытается обогнать чёрный катафалк, и, сплёвывая на мостовую, покрикивает что-то шофёру.
– Снимите шляпу! Уважение к мёртвым, – строго внушает толстый большой человек прохожему, который обогнал его. Но тот, очевидно, не уважает ни мёртвых, ни живых; надвинув шляпу на лоб, наклонив голову, он стремительно несётся вперёд, расталкивая людей локтями рук, засунутых в карманы непромокаемого пальто. Он похож на сыщика из английского уголовного романа.
– Глупая голова, – бормочет толстяк, провожая его отталкивающим жестом, и, толкнув сразу двух дам, – не извиняется перед ними.
В залах выставки картин молодых художников бродят десятка два юношей и девиц, шагает, точно цапля, человек с большим животом на длинных ногах и длинным лицом; кости лица обтянуты багровой кожей, круглые глаза болезненно вытаращены, рот полуоткрыт, зубы у него зеленоватые и два – золотых. Он вызывает впечатление человека очень несчастного, возможно, что это – художественный критик. Беспощадно яркие картины кажутся недописанными, видимо, художники делали их крайне поспешно, нимало не заботясь об анатомической правильности линий человеческого тела и о законах перспективы. Вот – женщина, левая нога у неё вывихнута, впрочем, художник оправдал этот вывих тем, что надел на ноги женщины деревянные чулки и туфли с каблуками различной высоты: левый выше правого сантиметра на три.
На деревьях с листвою серого цвета стоит красный дом, сильно помятый ураганом, один его угол втиснут внутрь, колоды окон искривлены, из одного окна смотрит человек без ушей, с медным маятником часов вместо правой щеки. У подножья серых деревьев – ярко-зелёные пятна, издали они напоминают ежей, но, может быть, это просто трава, только не было времени написать её.
Сковородка с яичницей из двух несвежих яиц, шампиньоном и кусочком помидора, конечно – «натюр морт». Но девушка в клетчатом пальто, посмотрев на сковородку, говорит спутнику своему:
– Я её знаю, это – жена его брата. Очень похожа.
Человек с длинными ногами смотрит на картины очень пристально и долго, потом отходит к окну и механическим пером пишет в толстенькой книжке. Лицо его становится всё более несчастным и унылым, на этой выставке ярчайших красок он как будто окончательно убеждается в своей бездарности.
В залах, так же как на улице, сильный запах бензина и плесени. На десятках полотен вихри красок хотят вырваться из тусклой действительности, но, ещё более искажая её, преодолеть не могут. Картины убеждают, что искусство живописи, теряя волшебную способность украшать жизнь, подчиняется грубой силе текущего дня, но всё ещё немножко бунтует против его и, прикрываясь «наивностью», создает злые шаржи. Грустное и нелестное для художников впечатление вызывает этот бунт из-за угла.
Хотя глаза утомлены бессвязной пестротой красок, истеричными мазками кистей, но после этого испытания мокрые улицы каменного города кажутся ещё более мрачными, а весь город – декорацией трагедии, исполнители которой опаздывают начать игру. Группа рабочих, вырыв на площади длинную яму, хоронит в ней широкую трубу. Другая группа разбивает асфальт кирками, третья копается в глубокой канаве, удлиняя её. Работают молча, торопливо, с ожесточением, из-под шин авто на них брызгает жидкая грязь. Стоят два полицейских в плащах, оба точно склёпанные из железа. Они как бы олицетворяют несокрушимое равнодушие прохожих и проезжих обывателей города к людям, которые работают для их удобств.
Огромное, тяжёлое здание набито оружием, которым «защищал свою свободу» народ этой страны против народов других стран, которые «защищали свою свободу» от натиска народа этой страны. Здесь можно любоваться всеми формами орудий убийства от простой дубины, окованной железом, и от самострела до пулемёта и чудовищной, длинной пушки с оторванным концом хобота. Рыцарские доспехи и современные ружья, мечи, кинжалы и штыки, которыми можно колоть, рубить, пилить. Очень много вещей сделано художественно, а в общем – огромное количество испорченного металла. Пройдут года, разразится та, последняя война, которая уничтожит возможность массовых убийств, столь выгодных империалистам, на эту выставку придут дети, и очень трудно будет им поверить, что предки их, живя впроголодь, тратили неисчислимое количество средств и сил для того, чтоб истреблять друг друга.
Ресторан туго наполнен обедающими. Все они сидят на стульях замечательно крепко, плотно и кушают так, как будто завтра им уже не дадут есть. Дымно, и в сизом дыме плавают, точно угри в воде, слуги, разнося пищу по столам. Пианино, скрипка и саксофон пытаются заглушить лязг ножей, вилок, дребезг посуды, звон стаканов и ворчливые голоса. На саксофоне играет человек с голодным лицом и стеклянным глазом, мёртвый взгляд этого глаза неподвижно устремлён в широкую, голую спину женщины, – она чистит яблоко, срезая с него очень тонкий слой кожицы, чистит медленно. Наверное, она скушала бы яблоко вместе с кожей, если б на одном из её пальцев не сверкал крупный бриллиант. Женщины, у которых нет бриллиантов, показывают ноги.
Ресторан – скромный. Дамы раскрашены умеренно, мужчины в меру толсты. Все вместе они кажутся членами огромного семейства, которое выработало для каждой единицы и для всех обязательную манеру есть, пить, ковырять в зубах, улыбаться, одни и те же поклоны, жесты, междометия. Вполне допустимо думать, что каждый из них обязан круговой порукой употреблять определённое количество точно установленных слов, например – сто тринадцать. Человек, который употребляет сто тридцать три слова, – уже непонятен и считается «вольнодумцем».
Слуга нечаянно плеснул пивом из кружки на колено гостя, тот вскочил со стула и, яростно размахивая салфеткой пред лицом слуги, указывая всеми пятью пальцами на колено своё, закричал, как будто его облили серной кислотой или расплавленным свинцом. Десятки пар глаз смотрят на слугу уничтожающе, и все люди, ближайшие к месту драмы, прячут колени свои под столы. Один из них громко «констатирует факт»:
– Эти люди служат всё хуже.
– О, да, – соглашаются с ним.
Какое единодушие, какая солидарность чувств и мнении!
Если б ресторан загорелся, члены этой секты сытых, наверное, вышли бы из огня целы и невредимы. В случаях катастроф они тоже оставляют женщин позади себя, а если женщины мешают им спасать пиджаки, брюки и кожу, – мужья и любовники избивают женщин, как это бывало всегда и было ещё недавно в одном из «центров национальной культуры».
На улице стало светлее, чем днём, город богато засеян разноцветными огнями, дождь падает серебряной и золотой пылью, на крышах, на фасадах зданий сверкают огненные рекламы, витрины магазинов – точно жерла печей, где горят, плавятся и создаются вещи всех форм и цветов, всюду блестят круглые глаза автомобилей. Отражая эту безумнейшую игру земных огней, небо смущённо покраснело – в нём ни одной звезды. Совершенно ясно, что один из центров земной культуры богаче светом, чем эти старенькие, прокопчённые дымом, выпачканные облаками небеса с их созвездиями и Млечным Путём, более тусклым и бледным, чем рекламы кино.
Вспоминается напечатанный в библии анекдот о распутном царе Валтасаре. Однажды на стене его дворца появились написанные огнём слова:
«Мани, текел, фарес!»
Смысл этих слов остался неразгаданным и до сего дня, но библия утверждает, что Валтасар погиб, а царство его было разрушено.
В наши дни огненные слова, никого не пугая, соблазнительно кричат о зубной пасте, о кондитерских и сереньком наслаждении кинофильм. Дерзкий богоборец Прометей, похитив огонь с небес, действительно оказал серьёзнейшую услугу торговой рекламе. И давно бы пора ставить на улицах культурных центров, на месте неуклюжих фонарей, фигуры врага богов с фонарём в руке. Этого не делают, вероятно, потому, чтоб вольнодумцы не выдавали Прометея за циника Диогена, который долго и безуспешно искал с фонарём в руке человека на земле.
Диоген, живи он среди нас, вероятно, заметил бы человека, который уютно устроился на панели между дверями в магазин часов и магазин художественных изделий. Это – человек, сокращённый до минимума, ноги у него отрезаны по колени, правая рука – по плечо, левая – по локоть. Голова – цела, покрыта серебром волос, между ними – тёмные клочья ещё не успевших поседеть, он как будто в серебряном шлёме, художественно украшенном чернью. Глаз – один, другой закрыт чёрной повязкой. Лицо – неестественно измято. Между обрубками его ног стоит жестяная коробка из-под бисквитов; наклонив голову немножко набок, он смотрит уцелевшим глазом в эту коробку, ожидая, когда её наполнят монетами. Бесконечной вереницей мимо его идут двуногие, цельные люди, одетые тепло и красиво, скользят авто, похрюкивая, точно огромные безголовые жирные свиньи.
Из магазина художественных изделий выходит высокий человек с большими усами, в пенснэ, в мягкой, серой шляпе, в длинном пальто, рядом с ним окутанная мехом дама на тонких ножках и высоких каблуках; бережно ставя золотистые туфельки на кафли панели, она ведёт за собою на цепочке маленькую рыжую мохнатую собачку. Собачка останавливает её и, подняв изящную ножку, орошает обрубок ноги человека. И тут, заметив калеку, усатый бросает в жестяную коробку монету, великодушно возмещая собачкино неприличие. Затем усатый помогает даме своей и мехам её поместиться в маленький авто фисташкового цвета, а толстенький пешеход, весьма похожий на того, который требовал «уважения мёртвым», говорит спутнику своему:
– Шикарна!
– Да, – соглашается спутник и добавляет: – Но содержать такую – очень дорого!
Они входят в кино. Там показывают «блестящий боевик», безмолвно разыгрывается серая тяжёлая драма: полицейский, честный старик, имеет сына, тоже честного полицейского. Сын арестует воровку, очень красивую, богато одетую девушку, усаживает её в автомобиль, везёт в полицию. Девушка артистически плачет, она буквально моет слезами лицо своё, и мягкосердечная публика тронута, тысячи две мужчин и женщин сокрушённо молчат. Может быть, кое-кто думает:
«Да, чёрт побери! В мире нашем немало слёз и страданий, и, если это хорошо подать, – оно волнует».
Но услужливый режиссёр, зная публику, знает, что ей не нравится, если долго играть на одной струне, – девица забавно пудрит свой оплаканный нос, и этого вполне достаточно, чтоб публика захихикала. Затем преступная девица уговаривает честного полицейского заехать к ней на квартиру, квартира оказывается богато обставленной, очень трудно поверить, чтоб в ней жила воровка. Шикарная обстановка квартиры настраивает публику ещё более гуманно, девица снова артистически плачет, и кое-кто, наверное, думает:
«Нет, чёрт побери! Мир устроен не так плохо, если и на уменье плакать можно заработать хорошие деньги!»
Честный полицейский ходит из комнаты в комнату, осматривая роскошную квартиру, а возвратясь в ту, где он оставил девицу плакать, находит её лежащей в широчайшей кровати, под великолепным одеялом. Девица объявляет, что она устала, взволнована, больна, не может ехать в полицию, и при этом оказывается, что у неё очень красивые плечи. Дальнейшее поглощается серой пустотой, затем вспыхивают сотни лампочек, освещая не очень довольные лица публики, – картину морального падения охранителя порядка прервали на самом интересном месте. Деньги берут большие, могли бы показать ещё что-нибудь… Не всё, конечно.
Максим Горький
«Огромный город накрыт грязновато-серой тучей. Она опустилась так низко, что кажется плоской и такой плотной, что разорвать её может только сила урагана. На крыши великолепных зданий, на оголённые деревья, чёрные зонтики людей и асфальт мостовой сеется мокрая пыль, смешанная с горьким запахом дыма и грибов, которые загнили. Тёмно-каменные стены домов осклизли, они как будто покрыты плесенью, чёрная мостовая траурно блестит. Гудят, звонят автобусы, автомобили, трамваи, трещат мотоциклеты, и этот треск заставляет подумать, что у города расстроен желудок. Шум почти заглушает голоса людей, люди кажутся немыми, лишь изредка слух ловит сердитые окрики и печальное всхлипывание воды в трубах водостоков. Быстро идут навстречу друг другу пешеходы, и есть что-то враждебное в том, как неохотно уступает дорогу один другому. Мелькают в глазах жёлтые ноги женщин. Женщины, покрытые зонтиками, похожи на ожившие грибы более, чем мужчины…»
Максим Горький
День в центре культуры
Огромный город накрыт грязновато-серой тучей. Она опустилась так низко, что кажется плоской и такой плотной, что разорвать её может только сила урагана. На крыши великолепных зданий, на оголённые деревья, чёрные зонтики людей и асфальт мостовой сеется мокрая пыль, смешанная с горьким запахом дыма и грибов, которые загнили. Тёмно-каменные стены домов осклизли, они как будто покрыты плесенью, чёрная мостовая траурно блестит. Гудят, звонят автобусы, автомобили, трамваи, трещат мотоциклеты, и этот треск заставляет подумать, что у города расстроен желудок. Шум почти заглушает голоса людей, люди кажутся немыми, лишь изредка слух ловит сердитые окрики и печальное всхлипывание воды в трубах водостоков. Быстро идут навстречу друг другу пешеходы, и есть что-то враждебное в том, как неохотно уступает дорогу один другому. Мелькают в глазах жёлтые ноги женщин. Женщины, покрытые зонтиками, похожи на ожившие грибы более, чем мужчины.
За высокой стеною, сшитой из гладко выстроганного тёса, возводится, уплотняя город, ещё одно огромное здание. Стена, снизу доверху, ярко расписана рекламами, у основания её отсыревшая старуха, окутав голову и плечи изношенной, грязной шалью, молча продаёт газеты. Одна из реклам изображает женщину в голубой пижаме, она сидит в жёлтом кресле, пред изящным столиком, на нём – кофейный прибор. Тонкими пальчиками розовой ручки женщина держит маленькую чашку. Всё – очень красиво и соблазнительно, только ноги женщины неестественно длинные.
К ним прижался спиною человек в чёрных очках, на деревяшке вместо правой ноги и без кисти на правой руке, левая висит вдоль тела, в ней зажата измятая серая шляпа. Он – неподвижен и тоже кажется неуместно написанным на рекламе художником-реалистом. Но он – живой, и каждые две-три минуты шевелится, подставляя прохожим шляпу. Жест этот он делает очень странно и сложно: сначала сгибает руку в локте, потом заносит её медленно к правому плечу и, делая ею косой полукруг справа налево и сверху вниз, протягивает вперёд. Лицо его морщится, перекосив рот, он двигает губами. Рука его держится вытянутой четверть минуты, не более, и снова бессильно падает вдоль тела. Этот сложный и трудный жест – бесполезен, – милостыню человеку в чёрных очках не подают, в течение двух часов никто не бросил монету в шляпу его. Чёрные стёкла на месте глаз делают лицо его мёртвым, и после каждого жеста он снова неподвижен, точно написанный на рекламе о пижамах. Он, должно быть, один из героев войны, «защитник отечества», «борец за национальную культуру». Рекламу он портит, он, вероятно, сотрёт своей спиною ноги элегантной женщины, которая так изящно держит розовой ручкой маленькую чашку для кофе.
Широкие витрины магазинов показывают тысячи метров разноцветных материй, струятся потоки шёлка, и всюду – чулки, чулки! Пред витриной с чулками стоит группа женщин, над ними – многосводный пузырь чёрных зонтиков, он совершенно скрывает головы и лица. Женщины думают о ногах своих, и, вероятно, многие из них сожалеют о том, что природа создала их только двуногими. На четыре ноги можно бы натянуть две пары прелестных чулок.
Стремительно скользит по мокрому асфальту авто «Скорой помощи» и круто поворачивает на панель, почти упираясь в дверь магазина измерительных приборов, – дорогу ему пересёк маленький шикарный автомобильчик на двоих; из него высовывается голова в блестящем цилиндре, жёлтое лицо с моноклем в глазу и кулак в рыжей перчатке, кулак гневно грозит шофёру «Скорой помощи», в другой руке человека с моноклем букет цветов. Спешно подошёл полицейский в плаще, уже собралась небольшая толпа зрителей, – в авто «Скорой помощи» что-то неблагополучно, дверь в него открыта, суетятся два санитара, поднимая кучу мокрой и грязной одежды, полицейский отдаёт честь человеку в цилиндре и, подойдя к шофёру «Скорой помощи», вынимает из-под плаща книжку, карандаш.
– Виноват не я, – кричит шофёр.
– Не он, – подтверждают зрители. Человек в цилиндре уже уехал. Полицейский молча пишет.
У витрины магазина готового платья для мужчин стоит некто в мокром пиджаке, окурок папиросы приклеен к его синей нижней губе. Воротник пиджака поднят, одна рука засунута в карман измятых брюк, другая держит под мышкой маленький ящик, в нём шевелится, повизгивает кудлатый щенок. За стеклом витрины стоят великолепно одетые люди с головами из мастики, у всех верхние части черепов пристёгнуты глазами к скулам, точно пуговицами, раскрашенные лица ангельски красивы, но несколько идиотичны. Вполне возможно, что без голов эти люди были бы внушительнее, но традиция требует, чтоб человек имел голову даже и в том случае, если она не нужна ему. Человек с кутёнком под мышкой и окурком на губе смотрит на этих людей так, точно он горестно сожалеет: почему он не манекен и не стоит за стеклом? Он тоже умеет стоять неподвижно, и от куклы его отличает только сухой, осторожный кашель. На серую кепку его регулярно, через определённое число секунд, падает крупная капля воды. Только одна почему-то.
Некоторые магазины налиты светом, и кажется, что люди в них плавают, точно рыбы в воде аквариумов. В одном разноцветно сверкают флаконы духов, рядом витрина резиновых изделий – игрушки для детей, игрушки для отцов, которые не желают иметь детей. Далее – выставка очень ярких картин; одна из них изображает фиолетовое дерево, а может быть, стог сена и синеватую женщину в тени его. Женщина – голая и лежит на боку в позе невероятно трудной – одновременно и лицом и спиной к зрителю. Синее тело её наводит на мысль, что она не только лежит, но и разлагается. Напротив – магазин ювелира, торговля перчатками, серебряная посуда. На углу – роскошный магазин дамского белья, и снова чулки, чулки! И снова группы желтоногих женщин очарованно застыли в сырости и запахе бензина, карболовой кислоты, лизола – туман прижимает все запахи к земле. Тут же, на углу, маленький, уютный писсуар, железные стенки его украшены заявлениями врачей-венерологов о их готовности лечить болезни, которые сопровождают любовь.
Откуда-то появляется тележка, запряжённая большой лохматой собакой, с красными глазами; очень старая собака, глаза её гноятся. На тележке, впереди её и сзади, торчат две палки, третья соединяет их, и на ней развешены старые, хорошо выглаженные брюки. Сзади тележки идёт, виновато улыбаясь, сухонький человечек небольшого роста, кривые ноги его шагают по асфальту нерешительно, как по тонкому стеклу. Из-под полей старого котелка виден рот, растянутый улыбкой, и острый, небритый подбородок. Это – честный торговец, он не скрывает изъянов своего товара, – вся коллекция брюк в заплатах, к одной паре пришиты от колен продолжения из материи другого цвета, темнее; можно думать, что бывшему носителю этой пары брюк отрезали ноги. Пешеходы посматривают на торговца с недоумением.
Величественным жестом руки полицейский останавливает подвижной магазин брюк; собака устало садится на мокрый асфальт, но тотчас же встаёт и, оглянувшись назад, нюхает воздух. Что-то не понравилось ей, так же как и полицейскому. Он угрожающе поднял толстый белый палец, затем жестом полководца с дешёвой картины протянул руку в глубину тихой улицы, украшенной двумя рядами мокрых деревьев; на каждом из них – по десятку жёлтых листьев, они как будто сосчитаны и оставлены только для того, чтоб напомнить людям о возможности весны. Хозяин магазина брюк, сняв котелок, обнажив лысый череп, указывает полицейскому куда-то за его плечо, но полицейский неумолимо недвижим, и собака, зевнув, поворачивает тележку с брюками туда, куда повелевает власть.
– Всё, что может быть куплено, должно быть продано; так или не так?
Это говорит седой, курчавый, горбоносый человек, в зелёном переднике, протирая тряпкой стекло витрины, забрызганное грязью.
– Да. Но – скорей, скорей, – торопит его маленький, круглый приказчик, стоя у двери магазина.
Похоронная процессия тоже торопится. Чёрные люди в цилиндрах, ведя за собою тощих чёрных лошадей, шагают слишком быстро, они как будто смущены тем, что в таком великолепном городе, на такой богатой улице им пришлось провожать кого-то, кто не мог заработать себе на похороны более приличные. Чёрная колесница судорожно трясёт кистями и тихонько поскрипывает, внутри её стоит гроб, небольшой, рыжий, он похож на чемодан. За колесницей следует наёмный автомобиль, рядом с шофёром – человек без шляпы, длинноволосый, с растрёпанной седой бородкой, в очках. А сзади автомобиля сердито стучит грузовик, наполненный бочками, они распространяют запах солёной рыбы, на бочках, прикрыв плечи брезентом, сидит парень в шляпе из клеёнки; презрительно оттопырив губы, он наблюдает, как безуспешно шофёр грузовика пытается обогнать чёрный катафалк, и, сплёвывая на мостовую, покрикивает что-то шофёру.
– Снимите шляпу! Уважение к мёртвым, – строго внушает толстый большой человек прохожему, который обогнал его. Но тот, очевидно, не уважает ни мёртвых, ни живых; надвинув шляпу на лоб, наклонив голову, он стремительно несётся вперёд, расталкивая людей локтями рук, засунутых в карманы непромокаемого пальто. Он похож на сыщика из английского уголовного романа.
– Глупая голова, – бормочет толстяк, провожая его отталкивающим жестом, и, толкнув сразу двух дам, – не извиняется перед ними.
В залах выставки картин молодых художников бродят десятка два юношей и девиц, шагает, точно цапля, человек с большим животом на длинных ногах и длинным лицом; кости лица обтянуты багровой кожей, круглые глаза болезненно вытаращены, рот полуоткрыт, зубы у него зеленоватые и два – золотых. Он вызывает впечатление человека очень несчастного, возможно, что это – художественный критик. Беспощадно яркие картины кажутся недописанными, видимо, художники делали их крайне поспешно, нимало не заботясь об анатомической правильности линий человеческого тела и о законах перспективы. Вот – женщина, левая нога у неё вывихнута, впрочем, художник оправдал этот вывих тем, что надел на ноги женщины деревянные чулки и туфли с каблуками различной высоты: левый выше правого сантиметра на три.
На деревьях с листвою серого цвета стоит красный дом, сильно помятый ураганом, один его угол втиснут внутрь, колоды окон искривлены, из одного окна смотрит человек без ушей, с медным маятником часов вместо правой щеки. У подножья серых деревьев – ярко-зелёные пятна, издали они напоминают ежей, но, может быть, это просто трава, только не было времени написать её.
Сковородка с яичницей из двух несвежих яиц, шампиньоном и кусочком помидора, конечно – «натюр морт». Но девушка в клетчатом пальто, посмотрев на сковородку, говорит спутнику своему:
– Я её знаю, это – жена его брата. Очень похожа.
Человек с длинными ногами смотрит на картины очень пристально и долго, потом отходит к окну и механическим пером пишет в толстенькой книжке. Лицо его становится всё более несчастным и унылым, на этой выставке ярчайших красок он как будто окончательно убеждается в своей бездарности.
В залах, так же как на улице, сильный запах бензина и плесени. На десятках полотен вихри красок хотят вырваться из тусклой действительности, но, ещё более искажая её, преодолеть не могут. Картины убеждают, что искусство живописи, теряя волшебную способность украшать жизнь, подчиняется грубой силе текущего дня, но всё ещё немножко бунтует против его и, прикрываясь «наивностью», создает злые шаржи. Грустное и нелестное для художников впечатление вызывает этот бунт из-за угла.
Хотя глаза утомлены бессвязной пестротой красок, истеричными мазками кистей, но после этого испытания мокрые улицы каменного города кажутся ещё более мрачными, а весь город – декорацией трагедии, исполнители которой опаздывают начать игру. Группа рабочих, вырыв на площади длинную яму, хоронит в ней широкую трубу. Другая группа разбивает асфальт кирками, третья копается в глубокой канаве, удлиняя её. Работают молча, торопливо, с ожесточением, из-под шин авто на них брызгает жидкая грязь. Стоят два полицейских в плащах, оба точно склёпанные из железа. Они как бы олицетворяют несокрушимое равнодушие прохожих и проезжих обывателей города к людям, которые работают для их удобств.
Огромное, тяжёлое здание набито оружием, которым «защищал свою свободу» народ этой страны против народов других стран, которые «защищали свою свободу» от натиска народа этой страны. Здесь можно любоваться всеми формами орудий убийства от простой дубины, окованной железом, и от самострела до пулемёта и чудовищной, длинной пушки с оторванным концом хобота. Рыцарские доспехи и современные ружья, мечи, кинжалы и штыки, которыми можно колоть, рубить, пилить. Очень много вещей сделано художественно, а в общем – огромное количество испорченного металла. Пройдут года, разразится та, последняя война, которая уничтожит возможность массовых убийств, столь выгодных империалистам, на эту выставку придут дети, и очень трудно будет им поверить, что предки их, живя впроголодь, тратили неисчислимое количество средств и сил для того, чтоб истреблять друг друга.
Ресторан туго наполнен обедающими. Все они сидят на стульях замечательно крепко, плотно и кушают так, как будто завтра им уже не дадут есть. Дымно, и в сизом дыме плавают, точно угри в воде, слуги, разнося пищу по столам. Пианино, скрипка и саксофон пытаются заглушить лязг ножей, вилок, дребезг посуды, звон стаканов и ворчливые голоса. На саксофоне играет человек с голодным лицом и стеклянным глазом, мёртвый взгляд этого глаза неподвижно устремлён в широкую, голую спину женщины, – она чистит яблоко, срезая с него очень тонкий слой кожицы, чистит медленно. Наверное, она скушала бы яблоко вместе с кожей, если б на одном из её пальцев не сверкал крупный бриллиант. Женщины, у которых нет бриллиантов, показывают ноги.
Ресторан – скромный. Дамы раскрашены умеренно, мужчины в меру толсты. Все вместе они кажутся членами огромного семейства, которое выработало для каждой единицы и для всех обязательную манеру есть, пить, ковырять в зубах, улыбаться, одни и те же поклоны, жесты, междометия. Вполне допустимо думать, что каждый из них обязан круговой порукой употреблять определённое количество точно установленных слов, например – сто тринадцать. Человек, который употребляет сто тридцать три слова, – уже непонятен и считается «вольнодумцем».
Слуга нечаянно плеснул пивом из кружки на колено гостя, тот вскочил со стула и, яростно размахивая салфеткой пред лицом слуги, указывая всеми пятью пальцами на колено своё, закричал, как будто его облили серной кислотой или расплавленным свинцом. Десятки пар глаз смотрят на слугу уничтожающе, и все люди, ближайшие к месту драмы, прячут колени свои под столы. Один из них громко «констатирует факт»:
– Эти люди служат всё хуже.
– О, да, – соглашаются с ним.
Какое единодушие, какая солидарность чувств и мнении!
Если б ресторан загорелся, члены этой секты сытых, наверное, вышли бы из огня целы и невредимы. В случаях катастроф они тоже оставляют женщин позади себя, а если женщины мешают им спасать пиджаки, брюки и кожу, – мужья и любовники избивают женщин, как это бывало всегда и было ещё недавно в одном из «центров национальной культуры».
На улице стало светлее, чем днём, город богато засеян разноцветными огнями, дождь падает серебряной и золотой пылью, на крышах, на фасадах зданий сверкают огненные рекламы, витрины магазинов – точно жерла печей, где горят, плавятся и создаются вещи всех форм и цветов, всюду блестят круглые глаза автомобилей. Отражая эту безумнейшую игру земных огней, небо смущённо покраснело – в нём ни одной звезды. Совершенно ясно, что один из центров земной культуры богаче светом, чем эти старенькие, прокопчённые дымом, выпачканные облаками небеса с их созвездиями и Млечным Путём, более тусклым и бледным, чем рекламы кино.
Вспоминается напечатанный в библии анекдот о распутном царе Валтасаре. Однажды на стене его дворца появились написанные огнём слова:
«Мани, текел, фарес!»
Смысл этих слов остался неразгаданным и до сего дня, но библия утверждает, что Валтасар погиб, а царство его было разрушено.
В наши дни огненные слова, никого не пугая, соблазнительно кричат о зубной пасте, о кондитерских и сереньком наслаждении кинофильм. Дерзкий богоборец Прометей, похитив огонь с небес, действительно оказал серьёзнейшую услугу торговой рекламе. И давно бы пора ставить на улицах культурных центров, на месте неуклюжих фонарей, фигуры врага богов с фонарём в руке. Этого не делают, вероятно, потому, чтоб вольнодумцы не выдавали Прометея за циника Диогена, который долго и безуспешно искал с фонарём в руке человека на земле.
Диоген, живи он среди нас, вероятно, заметил бы человека, который уютно устроился на панели между дверями в магазин часов и магазин художественных изделий. Это – человек, сокращённый до минимума, ноги у него отрезаны по колени, правая рука – по плечо, левая – по локоть. Голова – цела, покрыта серебром волос, между ними – тёмные клочья ещё не успевших поседеть, он как будто в серебряном шлёме, художественно украшенном чернью. Глаз – один, другой закрыт чёрной повязкой. Лицо – неестественно измято. Между обрубками его ног стоит жестяная коробка из-под бисквитов; наклонив голову немножко набок, он смотрит уцелевшим глазом в эту коробку, ожидая, когда её наполнят монетами. Бесконечной вереницей мимо его идут двуногие, цельные люди, одетые тепло и красиво, скользят авто, похрюкивая, точно огромные безголовые жирные свиньи.
Из магазина художественных изделий выходит высокий человек с большими усами, в пенснэ, в мягкой, серой шляпе, в длинном пальто, рядом с ним окутанная мехом дама на тонких ножках и высоких каблуках; бережно ставя золотистые туфельки на кафли панели, она ведёт за собою на цепочке маленькую рыжую мохнатую собачку. Собачка останавливает её и, подняв изящную ножку, орошает обрубок ноги человека. И тут, заметив калеку, усатый бросает в жестяную коробку монету, великодушно возмещая собачкино неприличие. Затем усатый помогает даме своей и мехам её поместиться в маленький авто фисташкового цвета, а толстенький пешеход, весьма похожий на того, который требовал «уважения мёртвым», говорит спутнику своему:
– Шикарна!
– Да, – соглашается спутник и добавляет: – Но содержать такую – очень дорого!
Они входят в кино. Там показывают «блестящий боевик», безмолвно разыгрывается серая тяжёлая драма: полицейский, честный старик, имеет сына, тоже честного полицейского. Сын арестует воровку, очень красивую, богато одетую девушку, усаживает её в автомобиль, везёт в полицию. Девушка артистически плачет, она буквально моет слезами лицо своё, и мягкосердечная публика тронута, тысячи две мужчин и женщин сокрушённо молчат. Может быть, кое-кто думает:
«Да, чёрт побери! В мире нашем немало слёз и страданий, и, если это хорошо подать, – оно волнует».
Но услужливый режиссёр, зная публику, знает, что ей не нравится, если долго играть на одной струне, – девица забавно пудрит свой оплаканный нос, и этого вполне достаточно, чтоб публика захихикала. Затем преступная девица уговаривает честного полицейского заехать к ней на квартиру, квартира оказывается богато обставленной, очень трудно поверить, чтоб в ней жила воровка. Шикарная обстановка квартиры настраивает публику ещё более гуманно, девица снова артистически плачет, и кое-кто, наверное, думает:
«Нет, чёрт побери! Мир устроен не так плохо, если и на уменье плакать можно заработать хорошие деньги!»
Честный полицейский ходит из комнаты в комнату, осматривая роскошную квартиру, а возвратясь в ту, где он оставил девицу плакать, находит её лежащей в широчайшей кровати, под великолепным одеялом. Девица объявляет, что она устала, взволнована, больна, не может ехать в полицию, и при этом оказывается, что у неё очень красивые плечи. Дальнейшее поглощается серой пустотой, затем вспыхивают сотни лампочек, освещая не очень довольные лица публики, – картину морального падения охранителя порядка прервали на самом интересном месте. Деньги берут большие, могли бы показать ещё что-нибудь… Не всё, конечно.