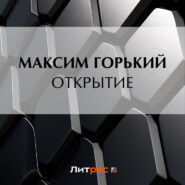По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Васса Железнова (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А – ну? Уть!
Изот поднял меня, и это, кажется, еще более расположило его в мою пользу.
– Ничего, ты – здоров! – утешил он меня. – Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мной на Волгу. Ночью на Волге – царствие небесное!
Учился он усердно, довольно успешно и – очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря:
– Читаю ведь, мать его курицу!
И повторяет, закрыв глаза:
Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой…
– Видал?
Несколько раз он, вполголоса, осторожно спрашивал:
– Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я знаю их – слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны, – как это?
Что я мог ответить ему? И мое «не знаю» огорчало человека.
– Колдовство! – говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет.
Была в нем приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское; он все более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь.
Смотрел на звезды и спрашивал:
– Хохол говорит – и там, может, кое-какие жители есть, в роде нашем, – как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить – как живут? Поди-ка – лучше нас, веселее…
В сущности, он был доволен своей жизнью, он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своем тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня:
– Ты не гляди, что они ласковы, это – хитряга народ, фальшивый, ты им не верь! Сейчас они с тобою – так, а завтра – иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело – каторгой считают.
И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о «мироедах»:
– Они – почему богаче других? Потому что – умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный: крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно – сила! А они расщепляют деревню, как полено на лучину, ведь вот что! Сами себе враги. Это – злодейский народ. Вот как Хохол мается с ними…
Красивый, сильный, он очень нравился женщинам, и они одолевали его.
– Конечно, в этом я избалован, – добродушно каялся он. – Для мужьев – обидно это, я сам бы обижался на ихом месте. Однако баб нельзя не пожалеть, баба – она вроде как вторая твоя душа. Живет она – без праздников, без ласки; работает, как лошадь, и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я – свободный человек. Многих, в первый же год после свадьбы, мужья кулаками кормят. Да, я в этом – грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу: вы, бабы, только не сердитесь друг на друга, меня хватит на всех! Не завидуйте одна другой, все вы мне одинаковы, всех жалею…
И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал:
– Я даже чуть-чуть с барыней одной не пошалил, – на дачу приехала из города барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосья – лен. И глазенки синеваты, добрые. Я ей рыбу продавал и все, бывало, гляжу на нее. «Ты – что?» – спрашивает. «Сами знаете», – говорю. «Ну, хорошо, говорит, я к тебе ночью приду, жди!» И – верно! Пришла. Только – комаров она стеснялась, закусали ее комары, ну, и не вышло у нас ничего. «Не могу, говорит, кусают очень», а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то, – с грустью и упреком кончил он. – Комары им жить мешают…
Изот очень хвалил Кукушкина:
– Вот, приглядись к мужику, – хорошей души этот! Не любят его, ну – напрасно! Болтун, конечно, так ведь – у всякого скота своя пестрота.
Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе-батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а когда их не было – сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить.
– Михайло Антонов – слыхал ты? Тиньковский урядник в монахи идет, от своей должности, – не желаю, бает, мужиков мордовать, – шабаш!
Хохол серьезно говорил:
– Вот так все начальство и разбежится от вас.
Вытаскивая из нечесаных русых волос на голове соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин соображает:
– Все – не убегут, а которые совесть имеют – им, конечно, тяжко на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я. А ведь без совести и при большом уме не проживешь! Вот, послушай случай…
И рассказывает о какой-то «умнейшей» помещице:
– Такая злодейка была, что даже губернатор, невзирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. «Сударыня, – говорит, – будьте осторожнее на всякий случай, слухи, говорит, о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли!» Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: «Поезжайте с богом, не могу я переломить характер мой!» Прошло три года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков: «Вот, говорит, вам вся моя земля и прощайте, и простите меня, а я…»
– В монастырь, – подсказывает Хохол.
Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает:
– Верно, в игуменьи! Значит – и ты слыхал про нее?
– Никогда не слыхал.
– А – откуда же знаешь?
– Я – тебя знаю.
Фантазер бормочет, покачивая головой:
– До чего ты не верующий людям…
И так – всегда: плохие, злые люди его рассказов устают делать зло и «пропадают без вести», но чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на «свалку».
У него являются неожиданные и странные мысли, – он вдруг нахмурится и заявляет:
– Напрасно мы татар победили, – татары лучше нас!
А о татарах никто не говорил, говорили в это время об организации артели садовладельцев.
Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет:
– Если селедку года два-три не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба!
Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки, но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок.
– Пустобрех, – зовут его солидные люди, и только щеголь Панков говорит серьезно: