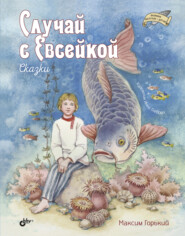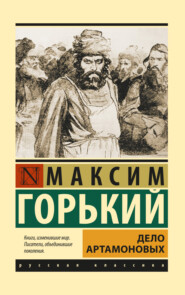По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На дне. Избранное (сборник)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Помню, «Простое сердце» Флобера я читал в троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, – шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и – я не выдумываю – несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса.
Мне знакомы были десятки книг, в которых описывались таинственные и кровавые преступления. Но вот я читаю «Итальянские хроники» Стендаля и снова не могу понять – как же это сделано? Человек описывает жестоких людей, мстительных убийц, а я читаю его рассказы, точно «жития святых», или слышу «Сон богородицы» – повесть о ее «хождении по мукам» людей в аду.
И уже совершенно поражен был я, когда в романе Бальзака «Шагреневая кожа» прочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, многогласие которого я как будто слышу. Но главное – в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира.
Вообще искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и, когда я впервые увидал картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа. Нравились мне и сухие, четкие, как рисунки пером, книги Гонкуров и угрюмая, темными красками, живопись Золя. Романы Гюго не увлекали, даже «Девяносто третий год» я прочитал равнодушно; причина этого равнодушия стала мне понятна после того, как я познакомился с романом Анатоля Франса «Боги жаждут». Романы Стендаля я читал уже после того, как научился многое ненавидеть, и спокойная речь, скептическая усмешка его очень утвердили мою ненависть.
Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло неплохо, и потому очень советую молодым писателям изучать французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике и у них учиться искусству слова.
«Большую» русскую литературу – Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Лескова – я читал значительно позднее. Лесков несомненно влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта, писатель, все еще не оцененный по заслугам перед нашей литературой. А. П. Чехов говорил, что очень многим обязан ему. То же, я думаю, мог бы сказать и А. Ремизов.
Указываю на эти взаимные связи и влияния для того, чтобы повторить: знание истории развития иностранной и русской литературы необходимо писателю.
Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие; это смущало и настраивало меня беспокойно, говорливо. Даже читая книги таких мастеров, как Тургенев, я думал иногда, что, пожалуй, мог бы рассказать, например, о героях «Записок охотника» иначе, не так, как это сделано Тургеневым. В эти годы я уже считался интересным рассказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, «босяки», плотники, железнодорожные рабочие, «странники по святым местам» и вообще люди, среди которых я жил. Рассказывая о прочитанных книгах, я все чаще ловил себя на том, что рассказывал неверно, искажая прочитанное, добавляя к нему что-то от себя, из своего опыта. Это происходило потому, что факты жизни и литература сливались у меня в единое целое. Книга – такое же явление жизни, как человек, она – тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком.
Слушали меня интеллигенты и советовали:
– Пишите! Попробуйте писать!
Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтоб «разгрузиться». Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял «ком в горле» и мне хотелось кричать, что стекольщик Анатолий – мой друг, талантливейший парень – погибнет, если не помочь ему; что проститутка Тереза – хороший человек и несправедливо, что она – проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же как не видят, что Матица, старуха-нищая, – умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева.
Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга – красивая река, крендельщик Кузин – Иуда Предатель, а жизнь – сплошное свинство и тоска, убивающая душу.
Стихи писал я легко, но видел, что они – отвратительны, и презирал себя за неуменье, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу – не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов. Но все-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав однако стиль прозы «ритмической», находя простую – непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным. Ритмической прозой я написал огромную «поэму» «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знание», – статья говорила о теории эволюции. Из нее в памяти моей осталась только одна фраза:
«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться», – и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции.
Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к «ритмической» прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я сдобрил рассказ «чем-то похожим на стихи». Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница – описание ливня в степи – написана мною именно этой проклятой «ритмической». Она долго преследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы. Я начинал рассказы какими-то поющими фразами, например, так: «Лучи луны прошли сквозь ветви кизиля и цепкие кусты держидерева», и потом, в печати, мне было стыдно убедиться, что «лучи луны» читаются, как лучины, а «прошли» – не то слово, какое следовало поставить. В другом рассказе у меня «извозчик извлек из кармана кисет» – эти три «из» рядом не очень украшали «томительно бедную жизнь». Вообще я старался писать «красиво».
«Пьяный, прижавшись к столбу фонаря, смотрел, улыбаясь, на тень свою, она вздрагивала», – а ночь – по моим же словам – была тихая, лунная, такими ночами фонарей не зажигали, тень не могла вздрагивать, если нет ветра и огонь горит спокойно. Такие «описки» и «обмолвки» встречались почти в каждом моем рассказе, и я жестоко ругал себя за это.
«Море смеялось», – писал я и долго верил, что это – хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей.
«А печь стоит у вас не так», – заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна». Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня. А. П. Чехов сказал мне о Медынской в «Фоме Гордееве»:
«У нее, батенька, три уха, одно – на подбородке, смотрите!» Это было верно, – так неудачно я посадил женщину к свету.
Такие, будто мелкие, ошибки имеют большое значение, потому что они нарушают правду искусства. Вообще крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногими было сказано много, «чтобы словам было тесно, мыслям – просторно», чтобы слова дали живую картину, кратко отметили основную черту фигуры, укрепили сразу в памяти читателя движения, ход и тон речи изображаемого лица. Одно дело – «окрашивать» словами людей и вещи, другое – изобразить их так «пластично», живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как, часто, хочется потрогать героев «Войны и мира» у Толстого.
Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно, я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке:
«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди ее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони».
Мне показалось, что я написал хорошо, но, когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет.
Вообще – слова необходимо употреблять с точностью самой строгой. Вот пример из другой области: было сказано: «Религия – опиум».
Но врачи дают опиум больным как средство, утоляющее боль, значит – опиум полезен человеку. А о том, что опиум курят, как табак, и что от курения опиума люди погибают, что опиум – яд, значительно более вредный, чем водка-алкоголь, – широким массам неизвестно.
Мои неудачи всегда заставляют меня вспоминать горестные слова поэта:
«Нет на свете мук сильнее муки слова».
Но об этом гораздо лучше, чем я, говорит А. Г. Горнфельд в книжке «Муки слова», изданной Госиздатом в 1927 году.
Очень хорошую книжку эту я усиленно рекомендую вниманию «молодых товарищей по перу».
«Холоден и жалок нищий наш язык», – сказал, кажется, Надсон, и редкий из поэтов не жаловался на «нищету» языка.
Я думаю, что это – жалобы на «нищету» не русского, а вообще человеческого языка, и вызывает их то, что есть чувствования и мысли неуловимые, невыразимые словом. Именно об этом прекрасно говорит книжка Горнфельда. Но, минуя «неуловимое словом», русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы слов – лексиконы – Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова. Последний сам в печати заявил, что он идет от Достоевского, он мог бы сказать, что в некоторых отношениях – укажу на оценку разума – он зависим и от Льва Толстого. Но обе эти зависимости таковы, что свидетельствуют лишь о значительности молодого писателя и отнюдь не скрывают своеобразия его. В романе «Вор» он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно; он уже дал целый ряд своих, очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией. Мне кажется, что Леонов – человек какой-то «своей песни», очень оригинальной, он только что начал петь ее, и ему не может помешать ни Достоевский, ни кто иной.
Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.
Художник – чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он – голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше, и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным явится для него настоящее время, тем сильнее, глубже почувствует он универсальную революционность нашего времени и широту его задач. Обязательно необходимо знать историю народа, и так же необходимо знать его социально-политическое мышление. Ученые – историки культуры, этнографы – указывают, что это мышление выражается в сказках, легендах, пословицах и поговорках. Именно пословицы и поговорки выражают мышление народной массы в полноте особенно поучительной, и начинающим писателям крайне полезно знакомиться с этим материалом не только потому, что он превосходно учит экономии слова, речевой сжатости и образности, а вот почему: количественно преобладающим населением Страны Советов является крестьянство, та глина, из которой история создавала рабочих, мещан, купцов, попов, чиновников, дворян, ученых и художников. Мышление крестьянства наиболее усердно воспитывалось церковниками государственной церкви и отколовшимися от нее сектантами. Оно издавна приучено думать в готовых окостеневших формах, какими и являются пословицы и поговорки, большинство которых не что иное, как сжатые поучения церковников. «Сильную руку – богу судить», «Подумаешь – горе, раздумаешь – божья воля», «Где смерд подумал, там бог не был», «Ты богу угоди, а сам думать – погоди!», «Тише едешь – дальше будешь», «Не в свои сани не садись», «Всяк сверчок знай свой шесток» – существуют сотни таких пословиц, и в любой из них легко можно открыть спрятанные за словами поучения библейских пророков, «отцов церкви» – Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского и других.
Когда я читал книги «консерваторов», «охранителей и защитников самодержавного строя», в книгах этих я не находил ничего нового для себя именно потому, что каждая страница их повторяла в развернутой форме – в расширенном толковании – ту или другую из пословиц, с детства знакомых мне. Было совершенно ясно, что вся премудрость консерваторов – К. Леонтьева, К. Победоносцева и других – пропитана той «народной мудростью», в которой наиболее крепко сжата церковность.
Есть, разумеется, значительное количество пословиц другого смысла, например: «Нам – жить в кротости, а нас палкой по кости», «Богом барину – телятинка жарена, а мужику – хлебушка краюха да – в ухо», «Живем – не тужим, бар не хуже, они – на охоту, мы – на работу, они – спать, а мы – опять, они выспятся да – за чай, а мы – цепами качай».
Вообще пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак, и развертывать слова, крепко сжатые другими, развертывать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них, враждебное задачам эпохи, мертвое.
Я очень много учился на пословицах, иначе – на мышлении афоризмами. Помню такой случай: мой приятель, балагур Яков Солдатов, дворник, метет улицу. Метла новенькая и не омызгана. Посмотрел Яков на меня, подмигнул веселым глазом и сказал:
– Хороша метла, а сорье – не вымести дотла, я его подмету, а соседи поднесут.
Мне стало ясно: дворник верно сказал. Если даже и соседи подметут участки свои, ветер нагонит сору с других улиц; если и все улицы города почистятся, пыль прилетит с поля, с дорог, из других городов. Работа около собственного дома, конечно, необходима, но она будет богаче результатами, если ее расширить на всю свою улицу, на весь город, на всю землю.
Так можно развернуть поговорку, а вот пример того, как она создается: в Нижнем Новгороде начались заболевания холерой и какой-то мещанин стал рассказывать, что доктора морят больных. Губернатор Баранов приказал арестовать его и отправить на работу санитаром в холерный барак. Но, проработав некоторое время, мещанин будто бы благодарил губернатора за урок, а Баранов сказал ему:
– Окунувшись башкой в правду – врать не станешь!
Баранов был человек грубый, но не глупый, я думаю, что он мог сказать такие слова. А впрочем, все равно, кто сказал их.
Вот на таких живых мыслях я учился думать и писать. Эти мысли дворников, адвокатов, «бывших» и всяких других людей я находил в книгах одетыми в другие слова, таким образом факты жизни и литературы взаимно дополняли друг друга.
О том, как создаются мастерами слова «типы» и характеры, я уже говорил выше, но, может быть, следует указать два интересных примера.
«Фауст» Гёте – один из превосходнейших продуктов художественного творчества, которое всегда «выдумка», вымысел или, вернее, «домысел» и – воплощение мысли в образ. «Фауста» я прочитал, когда мне было лет двадцать, а через некоторое время узнал, что лет за двести до немца Гёте о Фаусте писал англичанин Кристофер Марлоу, что польский «лубочный» роман «Пан Твардовский» – тоже «Фауст», так же как роман француза Поля Мюссе «Искатель счастья», и что основой всех книг о «Фаусте» служит средневековое народное сказание о человеке, который в жажде личного счастья и власти над тайнами природы, над людями продал душу свою черту. Сказание это выросло из наблюдений над жизнью и работой средневековых ученых «алхимиков», которые стремились делать золото, выработать эликсир бессмертия. Среди этих людей были честные мечтатели, «фанатики идеи», но были и шарлатаны, обманщики. Вот бесплодность усилий этих единиц достичь «высшей власти» и была осмеяна в истории приключений средневекового доктора Фауста, которому и сам черт не помог достичь всезнания, бессмертия.
А рядом с несчастной фигурой Фауста была создана фигура, тоже известная всем народам: в Италии это – Пульчинелло, в Англии – Понч, в Турции – Карапет, у нас – Петрушка. Это – непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и все: полицию, попов, даже черта и смерть, сам же остается бессмертен. В грубом и наивном образе этом трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце концов именно он преодолеет все и всех.
Эти два примера еще раз подтверждают сказанное выше: «анонимное» творчество, то есть творчество каких-то неизвестных нам людей,[6 - Мы имеем право назвать это творчество «народным», потому что оно возникало, наверное, в цехах ремесленников для представления на сцене во дни цеховых праздников. (Прим. автора.)] тоже подчиняется законам абстракции, отвлечения характерных черт той или иной общественной группы, и конкретизации, обобщения этих черт в одном лице этой группы. Строгое подчинение художника этим законам и помогает ему создавать «типы». Так Шарль де-Костер сделал «Тиля Уленшпигеля» – национальный тип фламандца, Ромэн Роллан – бургундца «Кола Брюньона», Альфонс Додэ – провансальца «Тартарена». Создавать такие яркие портреты «типичных» людей возможно только при условии хорошо развитой наблюдательности, уменья находить сходства, видеть различия, только при условии учиться, учиться и учиться. Где отсутствует точное знание, там действуют догадки, а из десяти догадок девять – ошибки.
Я не считаю себя мастером, способным создавать характеры и типы, художественно равноценные типам и характерам Обломова, Рудина, Рязанова[7 - Очень хорошо сделанный Слепцовым в повести «Трудное время» тип интеллигента-разночинца. (Прим. автора.)] и т. д. Но все же для того, чтобы написать «Фому Гордеева», я должен был видеть не один десяток купеческих сыновей, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов; они смутно чувствовали, что в этой однотонной, «томительно бедной жизни» – мало смысла. Из таких, как Фома, осужденных на скучную жизнь и оскорбленных скукой, задумавшихся людей, в одну сторону выходили пьяницы, «прожигатели жизни», хулиганы, а в другую – отлетали «белые вороны», как Савва Морозов, на средства которого издавалась ленинская «Искра», как пермский пароходчик Н. А. Мешков, снабжавший средствами партию эсеров, калужский заводчик Гончаров, москвич Н. Шмит и еще многие. Отсюда же выходили и такие культурные деятели, как череповецкий городской голова Милютин и целый ряд московских, а также провинциальных купцов, весьма умело и много поработавших в области науки, искусства и т. д. Крестный отец Фомы Гордеева, Маякин, тоже сделан из мелких черточек, из «пословиц», и я не ошибся: после 1905 года – после того, как рабочие и крестьяне вымостили для Маякиных дорогу к власти своими телами, – Маякины, как известно, играли немалую роль в борьбе против рабочего класса, да и теперь еще мечтают вернуться на старые гнезда.
Молодежь ставит мне вопрос: почему я писал о «босяках»?
Потому, что, живя в среде мелкого мещанства, видя пред собою людей, единственным стремлением которых было стремление жульнически высасывать кровь человека, сгущать ее в копейки, а из копеек лепить рубли, я тоже, как девятнадцатилетний корреспондент мой, «всем своим трепетом» возненавидел эту комариную жизнь обыкновенных людей, похожих друг на друга, как медные пятаки чекана одного года.