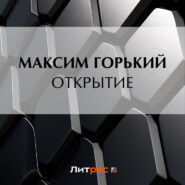По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Н. Е. Каронин-Петропавловский
Автор
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но он выслушал меня, опустив голову, и хоть я и не видел его лица, но чувствовал, что он даже не улыбнулся. И снова это смутило меня.
Посмотрев на меня исподлобья особенно пристальным взглядом, он тихонько сказал:
– А ведь могли быть изувечены. Стихов не жалко – на память знаете? Ну, скажите что-нибудь.
Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка: «Грозно реют огненные крылья…»
– Тютчева читали? – спросил он.
– Нет.
– Прочитайте, у него лучше…
И почти шёпотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать ещё, а после двух-трёх стихотворений сказал просто и ласково:
– В общем – стихи плохие. Вы как думаете?
– Плохие.
Он посмотрел в глаза, спросив:
– Вы это – искренно?
Странный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?
Глядя в лицо мне славными своими глазами, он продолжал, уже не заикаясь:
– Вот, недавно я прочитал очень хорошие строки:
Кто по земле ползёт, шипя на всё змеёю,
Тот видит сор один. И только для орла,
Парящего легко и вольно над землёю,
Вся даль безбрежная светла.
Это Апухтин написал Толстому – красиво? И – верно!
С этой минуты мне стало казаться, что он обо всём говорит стихами и говорил он так, словно сообщал тайны, только ему известные и дорогие ему.
И уговаривал:
– Вы читайте, читайте русскую литературу, как можно больше, всё читайте! Найдите себе работу и – читайте! Это лучшая литература в мире.
Помню его поднятую руку, тонкий вытянутый палец, болезненно покрасневшее, взволнованное лицо и внушающий, ласковый взгляд.
Потом он встал, вытянулся так, что хрустнули кости, и глаза его устало прикрылись. Я ушёл, позабыв о колонии.
В следующий раз я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни; он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и смотрел вниз, под гору. Одетый в длинное широкое пальто и чёрную шляпу, он напоминал расстриженного священника.
Было раннее утро, только что взошло солнце; в кустах под горою шевелились, просыпаясь, жители Миллионной улицы, нижегородские босяки. Я узнал его издали, всходя на гору, к башне, а он, когда я подошёл и поздоровался, несколько неприятно долгих секунд присматривался ко мне, молча приподняв шляпу, и наконец приветливо воскликнул:
– Это вы, к-колонист!
Через минуту мы сидели на скамье, и он говорил оживлённо, помахивая шляпою в своё лицо, с красными пятнами на щеках.
– Я тут часто бываю по утрам – изумительно красивое место, а? Вот – не умею описывать природу, – это несчастие! А странно: из молодых писателей ведь почти никто не пишет природу, да если и пишут, то – сухо, неискусно.
Заглянул вниз и продолжал:
– Наблюдаю этих людей, тоже колонисты, а? Очень хочется сойти туда, к ним, познакомиться, но – боюсь: высмеют ведь? И стащат пальто, да ещё побьют. Ведь в бескорыстный интерес к ним они не поверят, конечно? Вон – смотрите, молится один. Странная фигура. Он, должно быть, или так был пьян, что ещё не выспался, или убеждённый западник, – видите: молится на Балахну, на запад?
– Он сам балахнинский, – сказал я.
– Вы его знаете? – живо спросил Каронин, придвигаясь ко мне. – Расскажите – кто это?
Я уже был знаком с некоторыми из людей, ночевавших в кустах, и стал рассказывать о них. Каронин слушал внимательно, часто перебивая вопросами, и всё время обмахивался шляпой, хотя майское утро было достаточно свежо. Он показался мне иным, чем в первый раз, возбуждённый чем-то, улыбался немножко иронически, недоверчиво, и раза два сказал мне, весело поталкивая меня в бок:
– Ну, это уж романтизм!
– Однако вы, барин, романтик!
Меня его весёлые попрёки не задевали, хотя я и знал уже, что быть романтиком – весьма непохвально.
– Я рассказываю вам так, как они рассказывают о себе, – заметил я.
Он задумчиво сказал:
– Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать, и поэтому незаметно для себя врёт, путая действительность с игрою своего ума. Один мужичок долго и убедительно приглашал меня к себе на пчельник, пришёл я, а пчельника-то у него не только нет, а и не было. Я спрашиваю: «Как же это, Фёдор Васильич, а?» А он: «Да, видишь ты, Федипорыч, больно у пчеляков у этих жизнь хороша. Думал я про них, думал, да на себя и выдумал». Вот и они, эти, тоже выдумывают на себя. Романтики, вроде вас, барин. А то ещё знал я бузулукского мещанина, который выдавал себя за фальшивомонетчика и, показывая людям настоящие казённые деньги, хвастался чистотою своей работы. Добился худой славы и даже обыска, а потом оказалось, что он и не пробовал никогда сам сделать хоть бы один двугривенный. Спрашивают его: «Зачем же ты, брат, оболгал сам себя?» – «Кому, говорит, от этого вред и худо? А мне, чай, приятно думать, что вот захочу и – готово, богат».
Перестал улыбаться, задумался, глядя далеко за реку, почти синюю, в шёлковые, на солнце, луга.
– Это, знаете, у нас черта серьёзная, глубокая черта – под нею, может быть, скрыто бьётся жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмётся за дело – возьмётся, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия. Вот мне тут рассказывали об этих волжанах-судоходцах – какие фигуры, какое сказочное упорство в достижении целей! Нет, русский народ – хороший народ, чудеснейший народ, я вам скажу.
Всё это говорилось торопливо, горячо и настойчиво, как бы в споре с кем-то. Потом он встал, прошёлся по дорожке, оглядываясь вокруг, и снова сел.
– Вот – сзади нас семинария, немного далее – гимназия, против неё – дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий – почти доисторическая жизнь в ямах, под открытым небом, и дикие люди. Над этим стоит подумать, юноша! Надобно подумать. Ужасно плохо мы знаем жизнь и – что ещё того хуже – не хотим знать её, как бы нарочно стараемся видеть меньше, чем можем, бежим в колонии, прячемся в хаты с краю…
И с великой печалью он заговорил о сложной болезни того времени – я не помню точно его слов, но, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».
«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему ещё недавно верили, холод и душевная пустота».
Говорил он тихонько, как бы стыдясь, что приходится говорить о таких печальных вещах, и всё оглядывался, словно не желая, чтобы, кроме меня, его слова слышал ещё кто-нибудь. Сидел согнувшись, крепко стиснув колени пальцами худых рук, на лицо ему падала тень от шляпы, и глаза казались синими.
– Вот, вы рассказывали об этих людях под горою. Но – почему, подумайте, почему у нас люди так легко погибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и – ничего, а вдруг – «сбился с пути». Смотрите – это невольно сказалось: жил, и – ничего! Все ходят как будто по скользкому месту; идёт – пошатнулся – упал и не за что придержаться – ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно – до неизлечимых увечий, хотя падают не бог весть с какой высоты.
Это мне плотно легло в память – я тогда сам был в позиции человека, готового упасть.
Он вдруг вскочил на ноги, потрогал карман жилета, взглянул в небо.