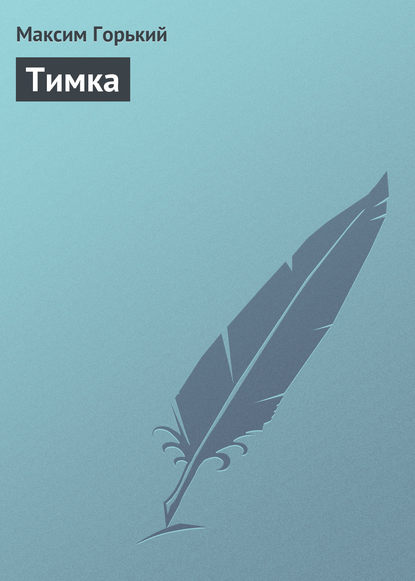По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тимка
Автор
Год написания книги
1917
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Девоньки-и – кричите-е!
И десяток голосов сразу создал целый вихрь испуганных криков; по грядам из огорода на двор бросились две девушки, одна кричала:
– Иван Лукич!
А другая:
– Батюшки!
Я бросился в огород, – там, у забора, около парников, в раскисшей земле лежал вниз лицом Тимка, плотно облепленный мокрой рубахой. Солнце, освещая влажный кумач на его костлявой спине, придавало материи жирный блеск свежесодранной кожи. Левая его рука, странно изогнувшись, пряталась под грудью, закрывая ладонью лицо, правая откинута прочь и утонула в грязи, торчал только мизинец, удивительно белый.
За спиной у меня раздался густой голос дьякона:
– Это – не молнией, а – лопатой, вот она, лопата!
Босою отекшей ногой он трогал замытую в грязь лопату и, мрачно надувшись, смотрел на Хлебникова, который стоял рядом с ним в пиджаке, в подштанниках и одной галоше.
– Не тронь, – крикнул Хлебников. – До полиции ничего нельзя трогать!
Дьякон поднес к его лицу огромный красный кулак и громко сказал:
– Это твое дело!
– Чего-о? – взвизгнул огородник, подпрыгнув. – А ты понимаешь, что сказал, а?
Дьякон угрюмо отошел в сторону, а бабы, наваливаясь одна на другую, бормотали:
– Кто же это, кто?
Старостиха, всхлипывая, крестилась и точно молитву читала, повторяя:
– Ему не надо – кто. Ему ничего не надо!
Влажный ветер, стряхивая с деревьев листья, осыпал ими живых и мертвого.
Хлебников сипло ругался, а дьякон гудел:
– Это всё из-за вас, бабы…
День разгорался ярче, сырой воздух, становясь теплее, обдавал запахом бани, укропа. Я смотрел на мизинец Тимофея, жалобно высунувшийся из грязи, на его вспухший затылок, – дождь гладко причесал жесткие волосы, и под ними было видно синюю кожу.
– А где Кешин? – вдруг закричал огородник. – Зовите его!
– Сейчас я схожу, – услужливо предложил дьякон и пошел, тяжело шлепая по лужам босыми ногами. Я отправился за ним. На дворе дьякон тихонько сказал мне:
– Конечно, – это Хлебников… верно?
Я промолчал.
– Ты как думаешь?
– Не знаю кто…
– И я не знаю, конечно. Кто-нибудь убил же! Без озлобления – не убьешь. А кто злобился на него? Ага!
Дверь в квартиру Кешина была не заперта, мы вошли, оглянулись, – в полутемной комнате было тихо, пусто.
– Где же он? – бормотал дьякон. – Эй, Кешин!
На столе у окна, освещенная солнцем, лежала маленькая книжка, я взглянул в нее и прочитал на чистой странице крупные угловатые слова:
Обупокоенiи
новопреставлиннаго раба Семенна.
– Смотри-ко, – сказал я дьякону.
Он взял книжку в руки, приблизил к лицу, прочитал запись вслух и бросил книжку на стол.
– Обыкновенное поминанье…
– Его тоже Семеном зовут.
– Ну, так что? – спросил дьякон и вдруг посерел, вздрогнул, говоря:
– Стой – новопреставленного? Ново… Он выбежал в сени, на что-то наткнулся там, загремел и дико зарычал:
– У-у…
Потом в двери явилось его туловище, – он, сидя на полу, протягивал руку куда-то в сторону, пытался выговорить какое-то слово и – не мог, дико выкатывая обезумевшие глаза.
Я, испуганный, выглянул за дверь, – в темном углу сеней, около кадки с водою, стоял Кешин, склонив голову на левое плечо, и, высунув язык, дразнился. Его китайские усы опускались неровно, один торчал выше другого, и черное лицо его иронически улыбалось. Несколько секунд я присматривался к нему, догадываясь, что он повесился, но не желая убедиться в этом. Потом меня вышибло из сеней, точно пробку из бутылки, за мною вылез дьякон, сел на ступенях крыльца и жалобно забормотал:
– Вот, – а я на Хлебникова подумал… ах, господи!
По двору бегали бабы, на огороде кто-то выл.
– Скорей!
Шел Хлебников, держа в руке грязную галошу, и пророчески, громко говорил:
– Живущие беззаконно так же и умрут!
– Да будет тебе, Иван Лукич! – заорал дьякон. – Кешин-то повесился…
Какая-то баба охнула, и стало тихо. Хлебников остановился среди двора, уронил галошу, потом подошел к дьякону и строго сказал:
– А ты, зверь, меня оклеветал вслух, при всех! Меня!