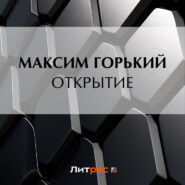По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь Клима Самгина
Автор
Год написания книги
1937
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я, должно быть, немножко поэт, а может, просто – глуп, но я не могу… У меня – уважение к женщинам, и – знаешь? – порою мне думается, что я боюсь их. Не усмехайся, подожди! Прежде всего – уважение, даже к тем, которые продаются. И не страх заразиться, не брезгливость – нет! Я много думал об этом…
– Но говоришь плохо, – отметил Клим.
– Да?
– Неясно.
– Ты – поймешь!
Макаров, снова встряхнув головою, посмотрел в разноцветное небо, крепко сжал пальцы рук в один кулак и ударил себя по колену.
– Это чувство внушила мне Лидия – знаешь?
– Вот как? – неопределенно произнес Клим и насторожился.
– Мы – друзья, – продолжал Макаров, и глаза его благодарно улыбались. – Не влюблены, но – очень близки. Я ее любил, но – это перегорело. Страшно хорошо, что я полюбил именно ее, и хорошо, что это прошло.
Он засмеялся, лицо его радостно сияло.
– Путаю? – спросил он сквозь смех. – Это только на словах путаю, а в душе все ясно. Ты пойми: она удержала меня где-то на краю… Но, разумеется, не то важно, что удержала, а то, что она – есть!
Самгин подумал не без гордости:
«Никогда я не позволил бы себе говорить так с чужим человеком. И почему – «она удержала»?»
– Любить ее, как вообще любят, – нельзя, – строго сказал Макаров.
Клим усмехнулся:
– Почему же?
– Не смейся. Я так чувствую: нельзя. Это, брат, удивительный человек!
Он подумал, прикрыв глаза.
– В библии она прочитала: «И вражду положу между тобою и между женою». Она верит в это и боится вражды, лжи. Это я думаю, что боится. Знаешь – Лютов сказал ей: зачем же вам в театрах лицедействовать, когда, по природе души вашей, путь вам лежит в монастырь? С ним она тоже в дружбе, как со мной.
Клим слушал напряженно, а – не понимал, да и не верил Макарову: Нехаева тоже философствовала, прежде чем взять необходимое ей. Так же должно быть и с Лидией. Не верил он и тому, что говорил Макаров о своем отношении к женщинам, о дружбе с Лидией.
«Это – тоже павлиний хвост. И ясно, что он любит Лидию».
Самгин стал слушать сбивчивую, неясную речь Макарова менее внимательно. Город становился ярче, пышнее; колокольня Ивана Великого поднималась в небо, как палец, украшенный розоватым ногтем. В воздухе плавал мягкий гул, разноголосо пели колокола церквей, благовестя к вечерней службе. Клим вынул часы, посмотрел на них.
– Мне пора на вокзал. Проводишь?
– Конечно.
– Ты в начале беседы очень верно заметил, что люди выдумывают себя. Возможно, что это так и следует, потому что этим подслащивается горькая мысль о бесцельности жизни…
Макаров удивленно взглянул на него и встал:
– Как странно, что ты, ты говоришь это! Я не думал ничего подобного даже тогда, когда решил убить себя…
– Ты в те дни был ненормален, – спокойно напомнил Клим. – Мысль о бесцельности бытия все настойчивее тревожит людей.
– Тебе трудно живется? – тихо и дружелюбно спросил Макаров. Клим решил, что будет значительнее, если он не скажет ни да, ни нет, и промолчал, крепко сжав губы. Пошли пешком, не быстро. Клим чувствовал, что Макаров смотрит на него сбоку печальными глазами. Забивая пальцами под фуражку непослушные вихры, он тихо рассказывал:
– После экзаменов я тоже приеду, у меня там урок, буду репетитором приемыша Радеева, пароходчика, – знаешь? И Лютов приедет.
– Вот как. А где Сомова?
– Учительствует в сельской школе.
Из облака радужной пыли выехал бородатый извозчик, товарищи сели в экипаж и через несколько минут ехали по улице города, близко к панели. Клим рассматривал людей; толстых здесь больше, чем в Петербурге, и толстые, несмотря на их бороды, были похожи на баб.
«Наверное, никого из них не беспокоит мысль о цели бытия», – полупрезрительно подумал он и вспомнил Нехаеву.
«Нет, все-таки она – милая. Даже недюжинная девушка. Как отнеслась бы к ней Лидия?»
Макаров молчал. Подъехали к вокзалу; Макаров, вспомнив что-то, заторопился, обнял Клима и ушел:
– Скоро увидимся!
Посмотря вслед ему, Клим прошел в буфет, сел в угол, к столу. До отхода поезда оставалось более часа. Думать о Макарове не хотелось; в конце концов он оставил впечатление человека полинявшего, а неумным он был всегда. Впечатление линяния, обесцвечивания вызывали у Клима все знакомые, он принимал это как признак своего духовного роста. Это впечатление подсказывала и укрепляла торопливость, с которой все стремились украсить себя павлиньими перьями от Ницше, от Маркса. Климу было досадно вспомнить, что Туробоев тоже видит эту торопливость и умеет высмеивать ее. Да, этот никуда не торопился и не линял. Он говорил, приподняв вышитые брови, поблескивая глазами:
– Я признаю вполне законным стремление каждого холостого человека поять в супругу себе ту или иную идейку и жить, до конца дней, в добром с нею согласии, но – лично я предпочитаю остаться холостым.
Манере Туробоева говорить Клим завидовал почти до ненависти к нему. Туробоев называл идеи «девицами духовного сословия», утверждал, что «гуманитарные идеи требуют чувства веры значительно больше, чем церковные, потому что гуманизм есть испорченная религия». Самгин огорчался: почему он не умеет так легко толковать прочитанные книги?
Казалось, что Туробоев присматривается к нему слишком внимательно, молча изучает, ловит на противоречиях. Однажды он заметил небрежно и глядя в лицо Клима наглыми глазами:
– На все вопросы, Самгин, есть только два ответа: да и нет. Вы, кажется, хотите придумать третий? Это – желание большинства людей, но до сего дня никому еще не удавалось осуществить его.
Оскорбительно было слышать эти слова и неприятно сознавать, что Туробоев не глуп.
Звон колокольчика и крик швейцара, возвестив время отхода поезда, прервал думы Самгина о человеке, неприятном ему. Он оглянулся, в зале суетились пассажиры, толкая друг друга, стремясь к выходу на перрон.
Клим встал и спросил себя, пожав плечами:
«А на что мне Туробоев, Кутузов?»
Глава 4
Солнечный свет, просеянный сквозь кисею занавесок на окнах и этим смягченный, наполнял гостиную душистым теплом весеннего полудня. Окна открыты, но кисея не колебалась, листья цветов на подоконниках – неподвижны. Клим Самгин чувствовал, что он отвык от такой тишины и что она заставляет его как-то по-новому вслушиваться в слова матери.
– Ты очень, очень возмужал, – говорила Вера Петровна, кажется, уже третий раз. – У тебя даже глаза стали темнее.
Она встретила сына с радостью, неожиданной для него. Клим с детства привык к ее суховатой сдержанности, привык отвечать на сухость матери почтительным равнодушием, а теперь нужно было найти какой-то другой тон.
– Но говоришь плохо, – отметил Клим.
– Да?
– Неясно.
– Ты – поймешь!
Макаров, снова встряхнув головою, посмотрел в разноцветное небо, крепко сжал пальцы рук в один кулак и ударил себя по колену.
– Это чувство внушила мне Лидия – знаешь?
– Вот как? – неопределенно произнес Клим и насторожился.
– Мы – друзья, – продолжал Макаров, и глаза его благодарно улыбались. – Не влюблены, но – очень близки. Я ее любил, но – это перегорело. Страшно хорошо, что я полюбил именно ее, и хорошо, что это прошло.
Он засмеялся, лицо его радостно сияло.
– Путаю? – спросил он сквозь смех. – Это только на словах путаю, а в душе все ясно. Ты пойми: она удержала меня где-то на краю… Но, разумеется, не то важно, что удержала, а то, что она – есть!
Самгин подумал не без гордости:
«Никогда я не позволил бы себе говорить так с чужим человеком. И почему – «она удержала»?»
– Любить ее, как вообще любят, – нельзя, – строго сказал Макаров.
Клим усмехнулся:
– Почему же?
– Не смейся. Я так чувствую: нельзя. Это, брат, удивительный человек!
Он подумал, прикрыв глаза.
– В библии она прочитала: «И вражду положу между тобою и между женою». Она верит в это и боится вражды, лжи. Это я думаю, что боится. Знаешь – Лютов сказал ей: зачем же вам в театрах лицедействовать, когда, по природе души вашей, путь вам лежит в монастырь? С ним она тоже в дружбе, как со мной.
Клим слушал напряженно, а – не понимал, да и не верил Макарову: Нехаева тоже философствовала, прежде чем взять необходимое ей. Так же должно быть и с Лидией. Не верил он и тому, что говорил Макаров о своем отношении к женщинам, о дружбе с Лидией.
«Это – тоже павлиний хвост. И ясно, что он любит Лидию».
Самгин стал слушать сбивчивую, неясную речь Макарова менее внимательно. Город становился ярче, пышнее; колокольня Ивана Великого поднималась в небо, как палец, украшенный розоватым ногтем. В воздухе плавал мягкий гул, разноголосо пели колокола церквей, благовестя к вечерней службе. Клим вынул часы, посмотрел на них.
– Мне пора на вокзал. Проводишь?
– Конечно.
– Ты в начале беседы очень верно заметил, что люди выдумывают себя. Возможно, что это так и следует, потому что этим подслащивается горькая мысль о бесцельности жизни…
Макаров удивленно взглянул на него и встал:
– Как странно, что ты, ты говоришь это! Я не думал ничего подобного даже тогда, когда решил убить себя…
– Ты в те дни был ненормален, – спокойно напомнил Клим. – Мысль о бесцельности бытия все настойчивее тревожит людей.
– Тебе трудно живется? – тихо и дружелюбно спросил Макаров. Клим решил, что будет значительнее, если он не скажет ни да, ни нет, и промолчал, крепко сжав губы. Пошли пешком, не быстро. Клим чувствовал, что Макаров смотрит на него сбоку печальными глазами. Забивая пальцами под фуражку непослушные вихры, он тихо рассказывал:
– После экзаменов я тоже приеду, у меня там урок, буду репетитором приемыша Радеева, пароходчика, – знаешь? И Лютов приедет.
– Вот как. А где Сомова?
– Учительствует в сельской школе.
Из облака радужной пыли выехал бородатый извозчик, товарищи сели в экипаж и через несколько минут ехали по улице города, близко к панели. Клим рассматривал людей; толстых здесь больше, чем в Петербурге, и толстые, несмотря на их бороды, были похожи на баб.
«Наверное, никого из них не беспокоит мысль о цели бытия», – полупрезрительно подумал он и вспомнил Нехаеву.
«Нет, все-таки она – милая. Даже недюжинная девушка. Как отнеслась бы к ней Лидия?»
Макаров молчал. Подъехали к вокзалу; Макаров, вспомнив что-то, заторопился, обнял Клима и ушел:
– Скоро увидимся!
Посмотря вслед ему, Клим прошел в буфет, сел в угол, к столу. До отхода поезда оставалось более часа. Думать о Макарове не хотелось; в конце концов он оставил впечатление человека полинявшего, а неумным он был всегда. Впечатление линяния, обесцвечивания вызывали у Клима все знакомые, он принимал это как признак своего духовного роста. Это впечатление подсказывала и укрепляла торопливость, с которой все стремились украсить себя павлиньими перьями от Ницше, от Маркса. Климу было досадно вспомнить, что Туробоев тоже видит эту торопливость и умеет высмеивать ее. Да, этот никуда не торопился и не линял. Он говорил, приподняв вышитые брови, поблескивая глазами:
– Я признаю вполне законным стремление каждого холостого человека поять в супругу себе ту или иную идейку и жить, до конца дней, в добром с нею согласии, но – лично я предпочитаю остаться холостым.
Манере Туробоева говорить Клим завидовал почти до ненависти к нему. Туробоев называл идеи «девицами духовного сословия», утверждал, что «гуманитарные идеи требуют чувства веры значительно больше, чем церковные, потому что гуманизм есть испорченная религия». Самгин огорчался: почему он не умеет так легко толковать прочитанные книги?
Казалось, что Туробоев присматривается к нему слишком внимательно, молча изучает, ловит на противоречиях. Однажды он заметил небрежно и глядя в лицо Клима наглыми глазами:
– На все вопросы, Самгин, есть только два ответа: да и нет. Вы, кажется, хотите придумать третий? Это – желание большинства людей, но до сего дня никому еще не удавалось осуществить его.
Оскорбительно было слышать эти слова и неприятно сознавать, что Туробоев не глуп.
Звон колокольчика и крик швейцара, возвестив время отхода поезда, прервал думы Самгина о человеке, неприятном ему. Он оглянулся, в зале суетились пассажиры, толкая друг друга, стремясь к выходу на перрон.
Клим встал и спросил себя, пожав плечами:
«А на что мне Туробоев, Кутузов?»
Глава 4
Солнечный свет, просеянный сквозь кисею занавесок на окнах и этим смягченный, наполнял гостиную душистым теплом весеннего полудня. Окна открыты, но кисея не колебалась, листья цветов на подоконниках – неподвижны. Клим Самгин чувствовал, что он отвык от такой тишины и что она заставляет его как-то по-новому вслушиваться в слова матери.
– Ты очень, очень возмужал, – говорила Вера Петровна, кажется, уже третий раз. – У тебя даже глаза стали темнее.
Она встретила сына с радостью, неожиданной для него. Клим с детства привык к ее суховатой сдержанности, привык отвечать на сухость матери почтительным равнодушием, а теперь нужно было найти какой-то другой тон.