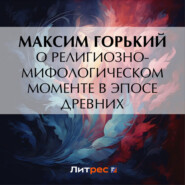По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Говорят – умер, – тихо и таинственно продолжал Яков, – а что такое умер?
– Душа улетела, – сумрачно пояснил Пашка.
– На небо, – добавила Маша и, прижавшись к Якову, взглянула на небо. Там уже загорались звёзды; одна из них – большая, яркая и немерцающая – была ближе всех к земле и смотрела на неё холодным, неподвижным оком. За Машей подняли головы кверху и трое мальчиков. Пашка взглянул и тотчас же убежал куда-то. Илья смотрел долго, пристально, со страхом в глазах, а большие глаза Якова блуждали в синеве небес, точно он искал там чего-то.
– Яшка! – окликнул его товарищ, опуская голову.
– А?
– Я вот всё думаю… – голос Ильи оборвался.
– Про что? – тихонько спросил Яков.
– Как они… Убили человека… суетятся, бегают… говорят разное… А никто не заплакал… никто не пожалел…
– Еремей плакал…
– Он всегда уж… А Пашка-то какой? Ровно сказку рассказывал…
– Форсит… Ему – жаль, только он стыдится. А вот теперь побежал и, чай, так-то ли ревёт, – держись!
Они посидели несколько минут молча, плотно прижавшись друг к другу.
Маша уснула на коленях Якова, лицо её так и осталось обращённым к небу.
– А страшно тебе? – шёпотом спросил Яков.
– Страшно, – так же ответил Илья.
– Теперь душа её ходить будет тут…
– Да-а… Машка-то спит…
– Надо стащить её домой… А и шевелиться-то боязно…
– Идём вместе.
Яков положил голову спящей девочки на плечо себе, охватил руками её тонкое тельце и с усилием поднялся на ноги, шёпотом говоря:
– Погоди, Илья, я вперёд пойду…
Он пошёл, покачиваясь под тяжестью ноши, а Илья шёл сзади, почти упираясь носом в затылок товарища. И ему чудилось, что кто-то невидимый идёт за ним, дышит холодом в его шею и вот-вот схватит его. Он толкнул товарища в спину и чуть слышно шепнул ему:
– Иди скорее!..
Вслед за этим событием начал прихварывать дедушка Еремей. Он всё реже выходил собирать тряпки, оставался дома и скучно бродил по двору или лежал в своей тёмной конуре. Приближалась весна, и в те дни, когда на небе ласково сияло тёплое солнце, – старик сидел где-нибудь на припёке, озабоченно высчитывая что-то на пальцах и беззвучно шевеля губами. Сказки детям он стал рассказывать реже и хуже. Заговорит и вдруг закашляется. В груди у него что-то хрипело, точно просилось на волю.
– Будет тебе! – увещевала его Маша, любившая сказки больше всех.
– По…г-годи!.. – задыхаясь, говорил старик. – Сейчас… отступит…
Но кашель не отступал, а всё сильнее тряс иссохшее тело старика. Иногда ребятишки так и расходились, не дождавшись конца сказки, и, когда они уходили, дед смотрел на них особенно жалобно.
Илья заметил, что болезнь деда очень беспокоит буфетчика Петруху и дядю Терентия. Петруха по нескольку раз в день появлялся на чёрном крыльце трактира и, отыскав весёлыми серыми глазами старика, спрашивал его:
– Как делишки, дедка? Полегче, что ли?
Коренастый, в розовой ситцевой рубахе, он ходил, засунув руки в карманы широких суконных штанов, заправленных в блестящие сапоги с мелким набором. В карманах у него всегда побрякивали деньги. Его круглая голова уже начинала лысеть со лба, но на ней ещё много было кудрявых русых волос, и он молодецки встряхивал ими. Илья не любил его и раньше, но теперь это чувство возросло у мальчика. Он знал, что Петруха не любит деда Еремея, и слышал, как буфетчик однажды учил дядю Терентия:
– Ты, Терёха, надзирай за ним! Он – скаред!.. У него в подушке-то, поди, накоплено немало. Не зевай! Ему, старому кроту, веку немного осталось; ты с ним в дружбе, а у него – ни души родной!.. Сообрази, красавец!..
Вечера дедушка Еремей по-прежнему проводил в трактире около Терентия, разговаривая с горбуном о боге и делах человеческих. Горбун, живя в городе, стал ещё уродливее. Он как-то отсырел в своей работе; глаза у него стали тусклые, пугливые, тело точно растаяло в трактирной жаре. Грязная рубашка постоянно всползала на горб, обнажая поясницу. Разговаривая с кем-нибудь, Терентий всё время держал руки за спиной и оправлял рубашку быстрым движением рук, – казалось, он прячет что-то в свой горб.
Когда дед Еремей сидел на дворе, Терентий выходил на крыльцо и смотрел на него, прищуривая глаза и прислоняя ладонь ко лбу. Жёлтая бородёнка на его остром лице вздрагивала, он спрашивал виноватым голосом:
– Дедушка Ерёма! Не надо ли чего?
– Спасибо!.. Не надо… ничего не надо… – отвечал старик.
Горбун медленно повёртывался на тонких ногах и уходил.
– Не оправиться мне, – всё чаще говорил Еремей. – Видно, – время помирать!
И однажды, ложась спать в норе своей, он, после приступа кашля, забормотал:
– Рано, господи! Дела я моего не сделал!.. Деньги-то… сколько годов копил… На церковь. В деревне своей. Нужны людям божий храмы, убежище нам… Мало накопил я… Господи! Во?рон летает, чует кус!.. Илюша, знай: деньги у меня… Не говори никому! Знай!..
Илья, выслушав бред старика, почувствовал себя носителем важной тайны и понял, кто во?рон.
Через несколько дней, придя из школы и раздеваясь в своём углу, Илья услыхал, что Еремей всхлипывает и хрипит, точно его душат:
– Кш… кшш… про-очь!..
Мальчик боязливо толкнулся в дверь к деду, – она была заперта.
За нею раздавался торопливый шёпот:
– Кшш!.. Господи… помилуй… помилуй…
Илья прислонил лицо к щели в переборке, замер, присмотрелся и увидал, что старик лежит на своей постели вверх грудью, размахивая руками.
– Дедушка! – тоскливо окрикнул мальчик.
Старик вздрогнул, приподнял голову и громко забормотал:
– Петруха, – гляди, – бо-ог! Это ему! Это – на храм… Кш… Во?рон ты… Господи… тво-оё!.. Сохрани… помилуй… помилуй…
Илья дрожал от страха, но не мог уйти, глядя, как бессильно мотавшаяся в воздухе чёрная, сухая рука Еремея грозит крючковатым пальцем.