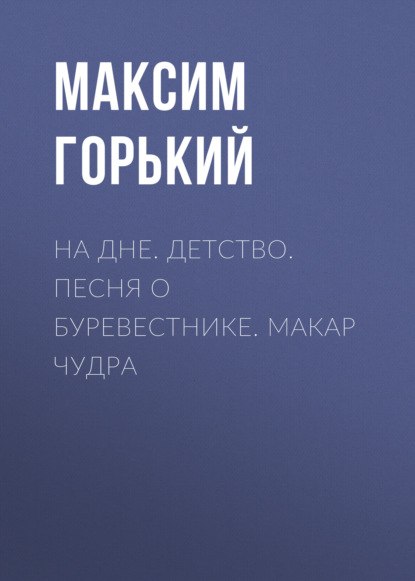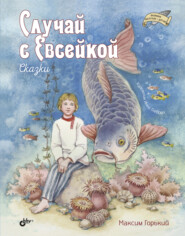По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На дне. Детство. Песня о Буревестнике. Макар Чудра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что я буду делать с ними?
– Ты не любишь рисовать?
– Я не умею.
– Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю.
Подошла мать.
– Мы ведь скоро вернемся, вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад.
Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, но как-то странно было слышать, что человек с бородой все еще учится. Я спросил:
– Ты чему учишься?
– Межевому делу.
Мне было лень спросить – что это за дело? Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь.
Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно прищурясь; зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там.
Мать уехала рано утром на другой день; она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя:
– Ну, прощай.
– Скажи ему, чтобы слушался меня, – угрюмо проговорил дед, глядя в небо, еще розовое.
– Слушайся дедушку, – сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда, – это он помешал ей.
Вот они сели в пролетку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.
– Помоги, али не видишь? – сказал мне дед, – я не помог, туго связанный тоскою.
Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках, бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:
– До-остаточно-о.
На другую пролетку уселась зеленая старуха со старшим сыном, офицером, – она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позевывал.
– Значит – вы на войну пойдете? – спрашивал дед.
– Обязательно!
– Дело доброе. Турок надо бить.
Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком, бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами, дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто:
– Не будет… добра тут… не будет.
Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки, – вот они повернули за угол, и в груди что-то плотно захлопнулось, закрылось.
Было рано, окна домов еще прикрыты ставнями, улица пустынна – никогда я не видал ее такой мертво пустой. Вдали назойливо играл пастух.
– Пойдем чай пить, – сказал дед, взяв меня за плечо. – Видно – судьба тебе со мной жить; так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич!
С утра до вечера мы с ним молча возились в саду; он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу, а я все устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьей навес от солнца и росы, – у меня стало совсем хорошо.
Дед говорил:
– Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать, как лучше.
Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова:
– Теперь ты от матери отрезан ломоть, пойдут у нее другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала.
Долго молчит, будто прислушиваясь, – снова неохотно роняет тяжелые слова:
– Это она второй раз запивает, – когда Михайле выпало в солдаты идти – она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы. Эх, вы-и… А я скоро помру. Значит – останешься ты один, сам про себя – весь тут, своей жизни добытчик – понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим – не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а – упрямо! Слушай всех, а делай, как тебе лучше.
Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:
– Гляди – звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! Значит – сейчас где-то хороший человек родился.
Или указывала мне:
– Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох ты, небо-небушко, риза Богова светлая.
Дед ворчал:
– Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят.
Бывало – зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и – сгорят, ниспадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, – и музыка плывет издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце теплой, мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть, – вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли, и – так странно – не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук – запоет ли птица во сне, пробежит ли еж или где-то тихо вспыхнет человечий голос – все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной.
Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака – все это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.
Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами, – это было привычно и не возбуждало внимания.
Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше.
Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит все ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.
Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим; слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это нимало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду – мое первое самостоятельное дело.
Перестали занимать меня и речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома, она уходила то к дяде Якову, то – к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.
Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал:
– Что молчишь?
– Ты не любишь рисовать?
– Я не умею.
– Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю.
Подошла мать.
– Мы ведь скоро вернемся, вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад.
Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, но как-то странно было слышать, что человек с бородой все еще учится. Я спросил:
– Ты чему учишься?
– Межевому делу.
Мне было лень спросить – что это за дело? Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь.
Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно прищурясь; зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там.
Мать уехала рано утром на другой день; она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя:
– Ну, прощай.
– Скажи ему, чтобы слушался меня, – угрюмо проговорил дед, глядя в небо, еще розовое.
– Слушайся дедушку, – сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда, – это он помешал ей.
Вот они сели в пролетку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.
– Помоги, али не видишь? – сказал мне дед, – я не помог, туго связанный тоскою.
Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках, бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:
– До-остаточно-о.
На другую пролетку уселась зеленая старуха со старшим сыном, офицером, – она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позевывал.
– Значит – вы на войну пойдете? – спрашивал дед.
– Обязательно!
– Дело доброе. Турок надо бить.
Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком, бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами, дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто:
– Не будет… добра тут… не будет.
Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки, – вот они повернули за угол, и в груди что-то плотно захлопнулось, закрылось.
Было рано, окна домов еще прикрыты ставнями, улица пустынна – никогда я не видал ее такой мертво пустой. Вдали назойливо играл пастух.
– Пойдем чай пить, – сказал дед, взяв меня за плечо. – Видно – судьба тебе со мной жить; так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич!
С утра до вечера мы с ним молча возились в саду; он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу, а я все устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьей навес от солнца и росы, – у меня стало совсем хорошо.
Дед говорил:
– Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать, как лучше.
Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова:
– Теперь ты от матери отрезан ломоть, пойдут у нее другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала.
Долго молчит, будто прислушиваясь, – снова неохотно роняет тяжелые слова:
– Это она второй раз запивает, – когда Михайле выпало в солдаты идти – она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы. Эх, вы-и… А я скоро помру. Значит – останешься ты один, сам про себя – весь тут, своей жизни добытчик – понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим – не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а – упрямо! Слушай всех, а делай, как тебе лучше.
Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:
– Гляди – звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! Значит – сейчас где-то хороший человек родился.
Или указывала мне:
– Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох ты, небо-небушко, риза Богова светлая.
Дед ворчал:
– Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят.
Бывало – зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и – сгорят, ниспадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, – и музыка плывет издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце теплой, мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть, – вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли, и – так странно – не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук – запоет ли птица во сне, пробежит ли еж или где-то тихо вспыхнет человечий голос – все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной.
Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака – все это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.
Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами, – это было привычно и не возбуждало внимания.
Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше.
Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит все ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.
Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим; слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это нимало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду – мое первое самостоятельное дело.
Перестали занимать меня и речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома, она уходила то к дяде Якову, то – к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.
Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал:
– Что молчишь?