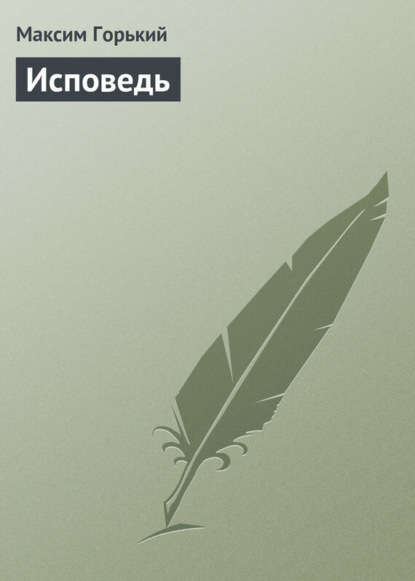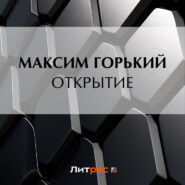По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только раз, под вечер, иду я из Якимовки, – скот у мужиков описывал за долги, – вышел из рощи к селу, гляжу – а на солнечном закате горит мой дом, – как свеча горит!
Сначала я подумал, что это солнце шутит – обняло его красными лучами и поднимает вверх, в небеса к себе, однако вижу – народ суетится, слышу – огонь свистит, дерево потрескивает.
Вспыхнуло сердце у меня, вижу бога врагом себе, будь камень в руке у меня – метнул бы его в небо. Гляжу, как воровской мой труд дымом и пеплом по земле идёт, сам весь пылаю вместе с ним и говорю:
– Хочешь ли ты указать мне, что ради праха и золы погубил я душу мою, – этого ли хочешь? Не верю, не хочу унижения твоего, не по твоей воле горит, а мужики это подожгли по злобе на меня и на Титова! Не потому не верю в гнев твой, что я не достоин его, а потому, что гнев такой не достоин тебя! Не хотел ты подать мне помощи твоей в нужный час, бессильному, против греха. Ты виноват, а не я! Я вошёл в грех, как в тёмный лес, до меня он вырос, и – где мне найти свободу от него?
Не то, чтобы утешали меня эти глупые слова… И ничего не оправдывали они, но будили в душе некое злое упрямство.
Догорел мой дом раньше, чем угасло возмущение моё. Я всё стою на опушке рощи, прислонясь к дереву, и веду мой спор, а белое Ольгино лицо мелькает предо мной, в слезах, в горе.
Говорю я богу дерзко, как равному:
– Коли ты силён, то и я силён, – так должно быть, по справедливости!
Погас пожар, стало тихо и темно, но во тьме ещё сверкают языки огня, – точно ребёнок, устав плакать, тихо всхлипывает. Ночь была облачная, блестела река, как нож кривой, среди поля потерянный, и хотелось мне поднять тот нож, размахнуться им, чтобы свистнуло над землёй.
Около полуночи пришёл я в село – у ворот экономии Ольга с отцом стоят, ждут меня.
– Где же ты был? – говорит Титов.
– На горе стоял, на пожар глядел.
– Чего же не бежал тушить?
– Чудотворец я, что ли, – плюну в огонь, а он и погаснет?..
У Ольги глаза заплаканы, вся она сажей попачкана, в дыму закоптела – смешно мне видеть это.
– Работала? – спрашиваю.
Залилась она слезами.
Титов угрюмо говорит:
– Не знаю, что и делать…
– Сначала, – мол, – надо строить!
Во мне тогда такое упорство сложилось, что я своими руками сейчас же готов был брёвна катать и венцы вязать, и до конца бы всю работу сразу мог довести, потому что хоть я волю бога и оспаривал, а надо было мне наверное знать, – он это против меня или нет?
И снова началось воровство. Каких только хитростей не придумывал я! Бывало, прежде-то по ночам я, богу молясь, себя не чувствовал, а теперь лежу и думаю, как бы лишний рубль в карман загнать, весь в это ушёл, и хоть знаю – многие в ту пору плакали от меня, у многих я кусок из горла вырвал, и малые дети, может быть, голодом погибли от жадности моей, – противно и пакостно мне знать это теперь, а и смешно, – уж очень я глуп и жаден был!
Лики святые смотрят на меня уже не печальными и добрыми глазами, как прежде, а – подстерегают, словно Ольгин отец. Однажды я у старосты с конторки полтинник стянул – вот до какой красоты дошёл!
И раз выпало мне что-то особенное – подошла ко мне Ольга, положила руки свои лёгкие на плечи мои и говорит:
– Матвей, господь с тобой, люблю я тебя больше всего на свете!
Удивительно просто сказала она эти светлые слова, – так ребёнок не скажет «мама». Обогател я силой, как в сказке, и стала она мне с того часа неоценимо дорога. Первый раз сказала, что любит, первый раз тогда обнял я её и так поцеловал, что весь перестал быть, как это случалось со мной во время горячей молитвы.
К покрову дом наш был готов – пёстрый вышел, некоторые брёвна чёрные, обгорелые. Вскоре и свадьбу справили мы; тесть мой пьян нализался и всё время хохотал, как чёрт в удаче; тёща смотрела на нас, плакала, – молчит, улыбается, а по щекам слёзы текут.
Титов орёт:
– Эй, не плачь! Какой у нас зять, а? Праведник!
И матерно ругается.
Гости были важные, – поп, конечно, становой, двое волостных старшин и ещё разные осетры, а под окнами сельский народ собрался, и в нём Мигун – весёлый человек. Балалайка его тренькает.
Я у окна сидел, тонкий голос Савёлкин доходит до меня, хоть и боится он громко шутить, а, слышу я, распевает:
Напились бы вы скорее да полопались!
А наелись бы вы досталь да и треснули!
Насмешки его понравились мне тогда, хоть не до него было, – жмётся ко мне Ольга и шепчет:
– Кончилось бы скорее всё это, еда и питьё!
Тошно было ей глядеть на жадность людскую, да и мне противно.
Как познали мы с нею друг друга, то оба заплакали, сидим на постели обнявшись, и плачем, и смеёмся от великой и не чаянной нами радости супружества. До утра не спали, целовались всё и разговаривали, как будем жить; чтобы видеть друг друга – свечу зажгли.
Говорила она мне, обнимая тёплыми руками:
– Будем жить так, чтобы все любили нас! Хорошо с тобой, Матвей!
Оба мы были как пьяные от неизречённого счастья нашего, и сказал я ей:
– Пусть меня поразит господь, если ты, Ольга, когда-нибудь по вине моей другими слезами заплачешь!
А она:
– Я, – говорит, – от тебя всё приму, буду тебе мать и сестра, одинокий ты мой!
Зажили мы с ней, как в сладком бреду. Дело я делаю спустя рукава, ничего не вижу и видеть не хочу, тороплюсь всегда домой, к жене; по полю гуляем с нею, ходим в лес.
Вспомнил старину – птиц завёл, дом у нас светлый, весёлый, всюду на стенах клетки висят, птицы поют. Жена, тихая, полюбила их; приду, бывало, домой, она рассказывает, что синица делала, как щур пел.
По вечерам я минею или пролог читал, а больше про детство своё рассказывал, про Лариона и Савёлку, как они богу песни пели, что говорили о нём, про безумного Власия, который в ту пору скончался уже, про всё говорил, что знал, – оказалось, знал я много о людях, о птицах и о рыбах.
Всей силы счастья моего словами не вычерпать, да и не умеет человек рассказать о радостях своих, не приучен тому, – редки радости его, коротки во времени.
Ходим в церковь с женой, встанем рядом в уголок и дружно молимся. Молитвы мои благодарные обращал я богу с похвалой ему, но и с гордостью – такое было чувство у меня, словно одолел я силу божию, против воли его заставил бога наделить меня счастьем; уступил он мне, а я его и похваливаю: хорошо, мол, ты, господи, сделал, справедливо, как и следовало!
Эх, язычество нищенское!