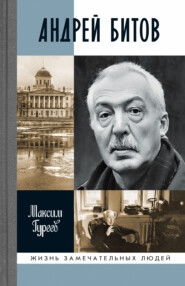По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иосиф Бродский. Жить между двумя островами
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все это складывается в какую-то немыслимую какофонию, которая со временем (когда поезд набирает ход, а старик с дымящейся головой окончательно отстает) превращается в музыку.
Спустя годы на которую Иосиф напишет такие слова:
Ария птиц
Мы, певцы, и мы, певицы,
именуемые «птицы»,
вместе с песнями смогли
оторваться от земли.
Но при этом с каждой рощей
мы язык находим общий,
и идёт зимой и летом
в небе опера с балетом…
Ария рыб
Слышат реки и озёра
песню, скрытую от взора.
Над глубокими местами
дирижируем хвостами.
Мы хористы и солисты.
Наши песни серебристы.
Но ни слова нет, ни слова
не дойдёт до рыболова…
Ария деревьев
Мы, деревья, сами – звуки.
Меж собой всегда в разлуке,
разбредаемся по рощам,
умоляем, шепчем, ропщем.
Разбредаемся лесами.
Всё-то делаем мы сами:
и кручинимся, и блещем,
и поём, и рукоплещем…
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда.
Конечно, те, кто остались в живых, знали этот город другим, но для 4-летнего Иосифа Ленинград всегда был именно таким – состоящим из развалин, прикрытых фанерными щитами с нарисованными на них фасадами домов, с огородами в городских скверах, а также среди величественных руин дворцов классической архитектуры, с заросшими травой историческими площадями и забранными сколоченными из горбыля футлярами статуями в Александровском саду.
Все это напоминало античные руины в стиле Гюбера Робера, чьи полотна хранились в Эрмитаже: благородная древность и посеченные осколками колоннады, неумолимое время и развороченные во время бомбежек портики, одухотворенное одиночество и пустые перспективы Васильевского острова, осознание собственного ничтожества перед лицом анфилад пустых комнат, уходящих за горизонт.
В своем эссе «Путеводитель по переименованному городу» Иосиф Бродский писал: «Для смягченной мифологии Петербург слишком молод, и всякий раз, когда случается стихийное или заранее обдуманное действие, можно заприметить в толпе словно бы изголодавшееся, лишенное возраста лицо с глубоко сидящими побелевшими глазами и услышать шепот: “Говорят же вам, это место проклято!” Вы вздрогнете, но мгновение спустя, когда вы попытаетесь еще раз взглянуть на говорившего, его уже и след простыл. Тщетно вы будете вглядываться в медленно толочущуюся толпу, в мимо ползущий транспорт; вы не увидите ничего – лишь безразличные пешеходы и, сквозь наклонную сетку дождя, величественные очертания прекрасных имперских зданий. Геометрия архитектурных перспектив в этом городе превосходно приспособлена для потерь навсегда».
Пережив блокаду, город постарел на несколько веков, а взгляд его, и без того изрядно безумный, как-то еще более помутнел, словно удостоился видения чего-то потустороннего. Таким взглядом обладает человек, переживший клиническую смерть.
По воспоминаниям Иосифа Бродского, вернувшись из эвакуации, они с матерью обнаружили их комнату в коммуналке на Рылеева опечатанной (у отца была комната на углу Газа и Обводного канала). После известного рода процедур Марии Моисеевне Вольперт комнату все же вернули, и лишь в 1955 году две «однушки» удалось поменять на полторы комнаты в доме Мурузи на Пестеля.
После того как в 1948 году Александр Иванович вернулся в Ленинград с Дальнего Востока, они вместе с сыном часто ходили в Соляной городок на Фонтанку, где находился Музей обороны города, и там бродили до позднего вечера.
Из книги Льва Лосева «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии»: «В нескольких минутах ходьбы от дома Бродских, в Соляном городке, находился Музей обороны Ленинграда, где были выставлены образцы советской и немецкой военной техники вплоть до тяжелой артиллерии, танков и самолетов. Решающие битвы изображались на диорамах с манекенами атакующих и павших солдат на переднем плане в натуральную величину… Отец по возвращении из Китая два года заведовал фотолабораторией в Военно-морском музее. Девяти-десятилетний Иосиф пользовался привилегией бродить по музею после закрытия: “Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы в анфас и в профиль – в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине”. Живое ощущение только что закончившейся войны и победы сливалось с имперскими мифами так же, как на улицах города следы недавней войны были неотделимы от обильной в Петербурге ампирной символики. Из окна своей комнаты мальчик видел ограду Спасо-Преображенского собора, сделанную из трофейных пушек, а на другом конце улицы Пестеля (Пантелеймоновской) стояла Пантелеймоновская церковь, построенная в честь победы русского флота при Гангуте. Мечи, копья, дротики, секиры, щиты, шлемы, дикторские фасции с топориками украшали Пантелеймоновский мост через Фонтанку, как и многие другие ограды и фасады бывшей столицы империи. Неоклассицистический архитектурный декор способствовал не только воспитанию патриотического чувства. «Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги».
Хор, составленный из гладко выбритых адмиралов и гоплитов, вооруженных мечами, копьями, дротиками, секирами и тяжелыми гоплонами, в конце второго эписодия исполняет второй стасим:
«Дети обречены, и спать идут раньше взрослых».
«Того, что спешит под парусом, не обогнать на веслах».
«И темный ужас, как море, захлестывающее остров,
детей поглощает первых». «Как следует зная дело,
зло нарушает душу, но начинает с тела».
«И дети обречены». «Да, для детей стемнело».
Медленно разгораются уличные фонари.
Петроградскую сторону от левого берега отрезает паровой буксир с включенными бортовыми огнями. Он уходит в сторону Володарского моста, а его надрывный гудок еще долго тянется над Невой и затихает только когда захлопывается дверь в парадной на Пестеля.
Эписодий Третий
На Балтийском вокзале зашел в буфет. Путевые обходчики тут пили пиво, громко разговаривали, смеялись.
Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом.
В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.
Спорили в основном о защитнике Марке Геке и полузащитнике Стасе Завидонове, а еще конечно ругали Алова, который развалил команду и довел «Зенит» до задворок турнирной таблицы.
На задворках вокзала шла разгрузка товарняка, рабочие лениво переругивались, по репродуктору сообщили о прибытии почтово-багажного из Пскова на третий путь.
Иосиф вышел на улицу, и город впервые показался ему совершенно незнакомым, чужим, надменным, абсолютно выдуманным, впрочем, в этом была и своя польза.
Спустя годы Бродский скажет: «Если кто и извлек выгоду из войны, то это мы – ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий».
Город, в котором можно жить лишь придуманной жизнью. Так невозможно жить в Череповце или Москве, Вологде или Смоленске, Пскове или Новгороде, а в Ленинграде по-другому жить просто не получится. Иначе можно сойти с ума, если будешь ежедневно и ежечасно вдаваться в подробности и хитросплетения этих перспектив и дворов-колодцев, набережных и напоминающих взлетно-посадочные полосы военных аэродромов проспектов.
Из «Путеводителя по переименованному городу» Иосифа Бродского: «Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков. Неудивительно, что порой этот город производит впечатление крайнего эгоиста, занятого исключительно своей внешностью. Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных. Неистощимое, с ума сводящее умножение всех этих пилястров, колоннад, портиков, намекает на природу этого каменного нарциссизма, намекает на возможность того, что, по крайней мере в неодушевленном мире, вода может рассматриваться, как сгущенное Время».
Время течет мимо гранитных берегов.
Мимо Александро-Невской лавры.
Мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства, Биржи и стоящих на рейде военных кораблей.
Если вот так идти по набережной, то возникает ощущение того, что ты на равных со Временем, что можешь либо опережать его, ускоряя шаг, либо отставать от него, оказываясь в прошлом, в древности, снисходительно взирая при этом на убегающую вперед черную воду Невы. Почему снисходительно? Да потому что ты уже был там, впереди, в будущем, и уже все знаешь о нем.
Конечно, такое знание весьма искусительно, оно рождает чрезмерные амбиции, до поры скрываемые, а порой и доходит (знание) до крайних своих проявлений – истеричности, нетерпимости к тому, что никак не вписывается в сложившуюся панораму реальности. Вернее сказать, ирреальности, того мифа, который и стал обыденностью.
Когда вернулся домой на Пестеля, то обнаружил весь свой класс сидящим в полутора комнатах – полный сюрреализм!
Мать лишь развела руками, увидев бешеный взгляд сына.
– Зачем явились?
И сразу, как из рукомойника на кухне полились нечленораздельные, вихляющие речи, забарабанили по дну бурой раковины о том, что Иосиф не должен бросать школу, что советской стране нужны молодые образованные люди, что надо соблюдать дисциплину и чтить преподавателей, которые отдают своим ученикам душу.
Что-то в этом услышалось дьявольское – душа исторички, секретаря парторганизации школы, кавалера ордена Ленина Лидии Васильевны Лисицыной переселяется в учеников, и они становятся похожими на нее, ходят строем, вместе поют песни, занимаются общественно-полезной работой, участвуют в субботниках, получают на уроках только пятерки.
Спустя годы на которую Иосиф напишет такие слова:
Ария птиц
Мы, певцы, и мы, певицы,
именуемые «птицы»,
вместе с песнями смогли
оторваться от земли.
Но при этом с каждой рощей
мы язык находим общий,
и идёт зимой и летом
в небе опера с балетом…
Ария рыб
Слышат реки и озёра
песню, скрытую от взора.
Над глубокими местами
дирижируем хвостами.
Мы хористы и солисты.
Наши песни серебристы.
Но ни слова нет, ни слова
не дойдёт до рыболова…
Ария деревьев
Мы, деревья, сами – звуки.
Меж собой всегда в разлуке,
разбредаемся по рощам,
умоляем, шепчем, ропщем.
Разбредаемся лесами.
Всё-то делаем мы сами:
и кручинимся, и блещем,
и поём, и рукоплещем…
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда.
Конечно, те, кто остались в живых, знали этот город другим, но для 4-летнего Иосифа Ленинград всегда был именно таким – состоящим из развалин, прикрытых фанерными щитами с нарисованными на них фасадами домов, с огородами в городских скверах, а также среди величественных руин дворцов классической архитектуры, с заросшими травой историческими площадями и забранными сколоченными из горбыля футлярами статуями в Александровском саду.
Все это напоминало античные руины в стиле Гюбера Робера, чьи полотна хранились в Эрмитаже: благородная древность и посеченные осколками колоннады, неумолимое время и развороченные во время бомбежек портики, одухотворенное одиночество и пустые перспективы Васильевского острова, осознание собственного ничтожества перед лицом анфилад пустых комнат, уходящих за горизонт.
В своем эссе «Путеводитель по переименованному городу» Иосиф Бродский писал: «Для смягченной мифологии Петербург слишком молод, и всякий раз, когда случается стихийное или заранее обдуманное действие, можно заприметить в толпе словно бы изголодавшееся, лишенное возраста лицо с глубоко сидящими побелевшими глазами и услышать шепот: “Говорят же вам, это место проклято!” Вы вздрогнете, но мгновение спустя, когда вы попытаетесь еще раз взглянуть на говорившего, его уже и след простыл. Тщетно вы будете вглядываться в медленно толочущуюся толпу, в мимо ползущий транспорт; вы не увидите ничего – лишь безразличные пешеходы и, сквозь наклонную сетку дождя, величественные очертания прекрасных имперских зданий. Геометрия архитектурных перспектив в этом городе превосходно приспособлена для потерь навсегда».
Пережив блокаду, город постарел на несколько веков, а взгляд его, и без того изрядно безумный, как-то еще более помутнел, словно удостоился видения чего-то потустороннего. Таким взглядом обладает человек, переживший клиническую смерть.
По воспоминаниям Иосифа Бродского, вернувшись из эвакуации, они с матерью обнаружили их комнату в коммуналке на Рылеева опечатанной (у отца была комната на углу Газа и Обводного канала). После известного рода процедур Марии Моисеевне Вольперт комнату все же вернули, и лишь в 1955 году две «однушки» удалось поменять на полторы комнаты в доме Мурузи на Пестеля.
После того как в 1948 году Александр Иванович вернулся в Ленинград с Дальнего Востока, они вместе с сыном часто ходили в Соляной городок на Фонтанку, где находился Музей обороны города, и там бродили до позднего вечера.
Из книги Льва Лосева «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии»: «В нескольких минутах ходьбы от дома Бродских, в Соляном городке, находился Музей обороны Ленинграда, где были выставлены образцы советской и немецкой военной техники вплоть до тяжелой артиллерии, танков и самолетов. Решающие битвы изображались на диорамах с манекенами атакующих и павших солдат на переднем плане в натуральную величину… Отец по возвращении из Китая два года заведовал фотолабораторией в Военно-морском музее. Девяти-десятилетний Иосиф пользовался привилегией бродить по музею после закрытия: “Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы в анфас и в профиль – в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине”. Живое ощущение только что закончившейся войны и победы сливалось с имперскими мифами так же, как на улицах города следы недавней войны были неотделимы от обильной в Петербурге ампирной символики. Из окна своей комнаты мальчик видел ограду Спасо-Преображенского собора, сделанную из трофейных пушек, а на другом конце улицы Пестеля (Пантелеймоновской) стояла Пантелеймоновская церковь, построенная в честь победы русского флота при Гангуте. Мечи, копья, дротики, секиры, щиты, шлемы, дикторские фасции с топориками украшали Пантелеймоновский мост через Фонтанку, как и многие другие ограды и фасады бывшей столицы империи. Неоклассицистический архитектурный декор способствовал не только воспитанию патриотического чувства. «Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги».
Хор, составленный из гладко выбритых адмиралов и гоплитов, вооруженных мечами, копьями, дротиками, секирами и тяжелыми гоплонами, в конце второго эписодия исполняет второй стасим:
«Дети обречены, и спать идут раньше взрослых».
«Того, что спешит под парусом, не обогнать на веслах».
«И темный ужас, как море, захлестывающее остров,
детей поглощает первых». «Как следует зная дело,
зло нарушает душу, но начинает с тела».
«И дети обречены». «Да, для детей стемнело».
Медленно разгораются уличные фонари.
Петроградскую сторону от левого берега отрезает паровой буксир с включенными бортовыми огнями. Он уходит в сторону Володарского моста, а его надрывный гудок еще долго тянется над Невой и затихает только когда захлопывается дверь в парадной на Пестеля.
Эписодий Третий
На Балтийском вокзале зашел в буфет. Путевые обходчики тут пили пиво, громко разговаривали, смеялись.
Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом.
В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.
Спорили в основном о защитнике Марке Геке и полузащитнике Стасе Завидонове, а еще конечно ругали Алова, который развалил команду и довел «Зенит» до задворок турнирной таблицы.
На задворках вокзала шла разгрузка товарняка, рабочие лениво переругивались, по репродуктору сообщили о прибытии почтово-багажного из Пскова на третий путь.
Иосиф вышел на улицу, и город впервые показался ему совершенно незнакомым, чужим, надменным, абсолютно выдуманным, впрочем, в этом была и своя польза.
Спустя годы Бродский скажет: «Если кто и извлек выгоду из войны, то это мы – ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий».
Город, в котором можно жить лишь придуманной жизнью. Так невозможно жить в Череповце или Москве, Вологде или Смоленске, Пскове или Новгороде, а в Ленинграде по-другому жить просто не получится. Иначе можно сойти с ума, если будешь ежедневно и ежечасно вдаваться в подробности и хитросплетения этих перспектив и дворов-колодцев, набережных и напоминающих взлетно-посадочные полосы военных аэродромов проспектов.
Из «Путеводителя по переименованному городу» Иосифа Бродского: «Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков. Неудивительно, что порой этот город производит впечатление крайнего эгоиста, занятого исключительно своей внешностью. Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных. Неистощимое, с ума сводящее умножение всех этих пилястров, колоннад, портиков, намекает на природу этого каменного нарциссизма, намекает на возможность того, что, по крайней мере в неодушевленном мире, вода может рассматриваться, как сгущенное Время».
Время течет мимо гранитных берегов.
Мимо Александро-Невской лавры.
Мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства, Биржи и стоящих на рейде военных кораблей.
Если вот так идти по набережной, то возникает ощущение того, что ты на равных со Временем, что можешь либо опережать его, ускоряя шаг, либо отставать от него, оказываясь в прошлом, в древности, снисходительно взирая при этом на убегающую вперед черную воду Невы. Почему снисходительно? Да потому что ты уже был там, впереди, в будущем, и уже все знаешь о нем.
Конечно, такое знание весьма искусительно, оно рождает чрезмерные амбиции, до поры скрываемые, а порой и доходит (знание) до крайних своих проявлений – истеричности, нетерпимости к тому, что никак не вписывается в сложившуюся панораму реальности. Вернее сказать, ирреальности, того мифа, который и стал обыденностью.
Когда вернулся домой на Пестеля, то обнаружил весь свой класс сидящим в полутора комнатах – полный сюрреализм!
Мать лишь развела руками, увидев бешеный взгляд сына.
– Зачем явились?
И сразу, как из рукомойника на кухне полились нечленораздельные, вихляющие речи, забарабанили по дну бурой раковины о том, что Иосиф не должен бросать школу, что советской стране нужны молодые образованные люди, что надо соблюдать дисциплину и чтить преподавателей, которые отдают своим ученикам душу.
Что-то в этом услышалось дьявольское – душа исторички, секретаря парторганизации школы, кавалера ордена Ленина Лидии Васильевны Лисицыной переселяется в учеников, и они становятся похожими на нее, ходят строем, вместе поют песни, занимаются общественно-полезной работой, участвуют в субботниках, получают на уроках только пятерки.