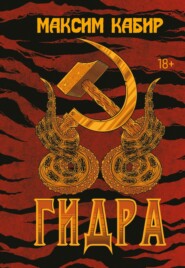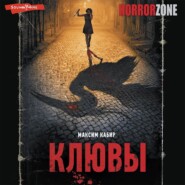По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клювы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Морщинка на лбу (как он любил потом эту морщинку!) разгладилась. Улыбнулись задорно глаза.
Девушка сказала:
– Мы уже победили, глупый.
Встав на цыпочки, она прижалась губами к его пересохшим губам. То не был французский поцелуй, но не был и поцелуй сестринский. Что-то среднее; так целуются накануне краха эпохи.
Она взяла его за руку, и они вместе выкрикивали имена, которые больше не имели для Филипа никакого значения.
Ее звали Яна, она переводила на чешский поэзию сюрреалистов. Позже, познакомившись с будущей невесткой, отец скажет, что она «девка», проститутка, а Филип даст отцу пощечину и на десятилетие оборвет связь с ним.
Яна была старше Филипа на пять лет.
Читала наизусть странные стихи Бретона и Десноса. Они пили вино из горла и занимались сексом во дворе-колодце заколоченного дома. Там громоздилась какая-то рухлядь, кушетки, кресла. От холода соски крошечных Яниных грудок превращались в камушки, в окаменевшие виноградины. Веснушчатые предплечья пахли парным молоком, а лоно – дымом и океаном. Он припадал к огненным зарослям, чтобы языком собрать смолянистый нектар.
И, разумеется, он рисовал ее – одетую и нагую, сидящую на пианино с широко раздвинутыми ногами. Идущую по парку, танцующую, молодую, стареющую.
Политика ушла из сросшихся жизней и не возвращалась впредь. Им было чем себя увлечь, помимо Дубчека и Гавела, помимо телевизора и выборов.
Они поженились в девяностом. Абсолютную идиллию нарушало отсутствие детей. Под рыжими прядями маскировался шнурок шрама. В двадцать Яне удалили из мозга опухоль. Она заново научилась говорить, писать, читать. При операции был затронут мозжечок – врачи предостерегали, что роды могут вызвать рецидив, хотя в случае с кесаревым сечением опасность снижалась.
Филип запретил жене рисковать.
Девяностые они провели в путешествиях: Испания, Франция, Алжир. Его картины выставлялись в галереях, она переводила для больших издательств.
Порой ночью Филип пробуждался от неизбывного страха, что Яна – лишь счастливый сон, что она ускользнула от него, утонула в толпе демонстрантов. Но Яна посапывала рядом, он обнимал ее и утыкался носом в волосы (поседевшие местами).
Он растолстел и облысел.
– Мальчик… – говорила она ему ласково.
Двадцать лет.
А в две тысячи девятом, за год до фарфоровой свадьбы, Яна тайно сняла номер в роскошной гостинице, выпила бокал совиньона, набрала ванну, включила The Animals и вспорола бритвой вены от запястья до локтя.
Ряженый в костюме смерти промаршировал по мосту.
Чертовы недели пришли не сразу – но, придя единожды, сказали, что станут регулярными гостями вдовца.
Карандаш чиркнул по бумаге и сломался, оставив жирную точку. Филип вздрогнул, выронил лист; рисунок спланировал на брусчатку. Улыбка кореянки стремительно завяла. Девушка взвилась, защебетала возмущенно. Заахали ее подружки.
В голову влез дурацкий образ: он, Филип, – апостол Иуда Фаддей, его окружают и вот-вот забьют дубинами язычники. Памятник мученику нравился Филипу больше других скульптур на Карловом мосту. Иуда покровительствовал безнадежным делам, и его часто путали с тезкой-предателем Искариотом.
Филип поднял руки в примирительном жесте: не нужно платить, простите!
Коллега Гинек, бросив пейзажи, семенил на подмогу:
– Девочки, не шумите! Творец всегда прав…
Гинек запнулся, глянув на оброненный листок.
То, что задумывалось как шарж, реализовалось в виде ужасной скалящейся морды, и будь Филип проклят, если он помнил, как рисовал щучьи зубы в кривой щели рта.
2.2
Скорая помощь пронеслась, вереща, по направлению к Нусельскому мосту, известному также как мост Самоубийц. Более двух сотен человек прыгнули с его перил в сорокаметровую бездну, став кляксой на асфальте или потеком на камнях мелкой речушки.
Когда Корней впервые путешествовал по стране, его поезд совершил экстренную остановку – какая-то женщина сиганула под колеса. Он удивлялся: почему люди кончают с собой в благополучной Чехии?
Пожив здесь, он частично избавился от наивно-восторженных шор (как и всякое государство, это имело и недостатки, и уродливые стороны), но не перестал любить Прагу любовью пылкого мальчишки. Он и родился двадцать восьмого сентября – в День чешской государственности. Такое вот пророческое совпадение.
Маринка предпочитала морской отдых: валяться на пляжах, а не карабкаться по холмам с навьюченными рюкзаками. Она ныла, натерев мозоль, а Корней злился. Уже тогда холодок пробежал между ними; он заглядывал в глаза Маринки, прикрытые солнцезащитными очками, только для того, чтобы увидеть свое отражение в стеклах.
Поездка должна была укрепить разболтавшиеся отношения. Они продержались еще год, готовились к свадьбе, ругались, мирились. Разбрелись, как пресловутые корабли. Маринка вышла замуж за коллегу. Корней эмигрировал, реализовал мечту.
Жизнь продолжалась.
В офисе пахло свежим кофе.
Коля Соловьев поедал картошку-фри.
– Здоровый завтрак, шеф?
Соловьев заурчал, похлопал себя по выпирающему животу.
Они познакомились в Днепре пару лет назад. Колина жена Алиса обучала Корнея азам чешского языка. Милая интеллигентная семья, поклонники джаза и классической литературы. Очаровательная дочурка-дошкольница. Соловьевы вскоре переехали за границу, на историческую родину Алисы, но поддерживали с Корнеем связь по вайберу. Пройдя через все круги бюрократической волокиты, Коля открыл в Праге издательство. И сразу предложил Корнею вакансию. А тот сразу согласился.
И как теперь не верить в судьбу?
Соловьев смахнул крошки с бороды, которую отрастил, войдя в возраст Христа.
– Угощайся.
– Спасибо.
Корней выудил из коробки картофельную соломку.
Офис купался в солнечных лучах. Молодое издательство состояло из двух работников. Соловьева и Туранцева.
Большую часть комнаты занимал полупромышленный принтер, способный печатать что угодно, от наклеек и визиток до книг. В его тени расположились ламинатор, переплетчик, скобосшиватель. И смахивающий на футуристическую гильотину польский резак. Корней (его профессия официально называлась grafik) в совершенстве владел программами вроде Corel Draw и Adobe Photoshop, но пользоваться типографической техникой учился с нуля.
– Ну и ночка у меня сегодня была, – сказал Соловьев. – Малая кричала во сне, перепугала нас. Потом кошмары до утра мучили. Ты снился, кстати.
– О, это действительно кошмар.
– Кошмар – что я тебя убил во сне.
– Убил? Как? За что?
Девушка сказала:
– Мы уже победили, глупый.
Встав на цыпочки, она прижалась губами к его пересохшим губам. То не был французский поцелуй, но не был и поцелуй сестринский. Что-то среднее; так целуются накануне краха эпохи.
Она взяла его за руку, и они вместе выкрикивали имена, которые больше не имели для Филипа никакого значения.
Ее звали Яна, она переводила на чешский поэзию сюрреалистов. Позже, познакомившись с будущей невесткой, отец скажет, что она «девка», проститутка, а Филип даст отцу пощечину и на десятилетие оборвет связь с ним.
Яна была старше Филипа на пять лет.
Читала наизусть странные стихи Бретона и Десноса. Они пили вино из горла и занимались сексом во дворе-колодце заколоченного дома. Там громоздилась какая-то рухлядь, кушетки, кресла. От холода соски крошечных Яниных грудок превращались в камушки, в окаменевшие виноградины. Веснушчатые предплечья пахли парным молоком, а лоно – дымом и океаном. Он припадал к огненным зарослям, чтобы языком собрать смолянистый нектар.
И, разумеется, он рисовал ее – одетую и нагую, сидящую на пианино с широко раздвинутыми ногами. Идущую по парку, танцующую, молодую, стареющую.
Политика ушла из сросшихся жизней и не возвращалась впредь. Им было чем себя увлечь, помимо Дубчека и Гавела, помимо телевизора и выборов.
Они поженились в девяностом. Абсолютную идиллию нарушало отсутствие детей. Под рыжими прядями маскировался шнурок шрама. В двадцать Яне удалили из мозга опухоль. Она заново научилась говорить, писать, читать. При операции был затронут мозжечок – врачи предостерегали, что роды могут вызвать рецидив, хотя в случае с кесаревым сечением опасность снижалась.
Филип запретил жене рисковать.
Девяностые они провели в путешествиях: Испания, Франция, Алжир. Его картины выставлялись в галереях, она переводила для больших издательств.
Порой ночью Филип пробуждался от неизбывного страха, что Яна – лишь счастливый сон, что она ускользнула от него, утонула в толпе демонстрантов. Но Яна посапывала рядом, он обнимал ее и утыкался носом в волосы (поседевшие местами).
Он растолстел и облысел.
– Мальчик… – говорила она ему ласково.
Двадцать лет.
А в две тысячи девятом, за год до фарфоровой свадьбы, Яна тайно сняла номер в роскошной гостинице, выпила бокал совиньона, набрала ванну, включила The Animals и вспорола бритвой вены от запястья до локтя.
Ряженый в костюме смерти промаршировал по мосту.
Чертовы недели пришли не сразу – но, придя единожды, сказали, что станут регулярными гостями вдовца.
Карандаш чиркнул по бумаге и сломался, оставив жирную точку. Филип вздрогнул, выронил лист; рисунок спланировал на брусчатку. Улыбка кореянки стремительно завяла. Девушка взвилась, защебетала возмущенно. Заахали ее подружки.
В голову влез дурацкий образ: он, Филип, – апостол Иуда Фаддей, его окружают и вот-вот забьют дубинами язычники. Памятник мученику нравился Филипу больше других скульптур на Карловом мосту. Иуда покровительствовал безнадежным делам, и его часто путали с тезкой-предателем Искариотом.
Филип поднял руки в примирительном жесте: не нужно платить, простите!
Коллега Гинек, бросив пейзажи, семенил на подмогу:
– Девочки, не шумите! Творец всегда прав…
Гинек запнулся, глянув на оброненный листок.
То, что задумывалось как шарж, реализовалось в виде ужасной скалящейся морды, и будь Филип проклят, если он помнил, как рисовал щучьи зубы в кривой щели рта.
2.2
Скорая помощь пронеслась, вереща, по направлению к Нусельскому мосту, известному также как мост Самоубийц. Более двух сотен человек прыгнули с его перил в сорокаметровую бездну, став кляксой на асфальте или потеком на камнях мелкой речушки.
Когда Корней впервые путешествовал по стране, его поезд совершил экстренную остановку – какая-то женщина сиганула под колеса. Он удивлялся: почему люди кончают с собой в благополучной Чехии?
Пожив здесь, он частично избавился от наивно-восторженных шор (как и всякое государство, это имело и недостатки, и уродливые стороны), но не перестал любить Прагу любовью пылкого мальчишки. Он и родился двадцать восьмого сентября – в День чешской государственности. Такое вот пророческое совпадение.
Маринка предпочитала морской отдых: валяться на пляжах, а не карабкаться по холмам с навьюченными рюкзаками. Она ныла, натерев мозоль, а Корней злился. Уже тогда холодок пробежал между ними; он заглядывал в глаза Маринки, прикрытые солнцезащитными очками, только для того, чтобы увидеть свое отражение в стеклах.
Поездка должна была укрепить разболтавшиеся отношения. Они продержались еще год, готовились к свадьбе, ругались, мирились. Разбрелись, как пресловутые корабли. Маринка вышла замуж за коллегу. Корней эмигрировал, реализовал мечту.
Жизнь продолжалась.
В офисе пахло свежим кофе.
Коля Соловьев поедал картошку-фри.
– Здоровый завтрак, шеф?
Соловьев заурчал, похлопал себя по выпирающему животу.
Они познакомились в Днепре пару лет назад. Колина жена Алиса обучала Корнея азам чешского языка. Милая интеллигентная семья, поклонники джаза и классической литературы. Очаровательная дочурка-дошкольница. Соловьевы вскоре переехали за границу, на историческую родину Алисы, но поддерживали с Корнеем связь по вайберу. Пройдя через все круги бюрократической волокиты, Коля открыл в Праге издательство. И сразу предложил Корнею вакансию. А тот сразу согласился.
И как теперь не верить в судьбу?
Соловьев смахнул крошки с бороды, которую отрастил, войдя в возраст Христа.
– Угощайся.
– Спасибо.
Корней выудил из коробки картофельную соломку.
Офис купался в солнечных лучах. Молодое издательство состояло из двух работников. Соловьева и Туранцева.
Большую часть комнаты занимал полупромышленный принтер, способный печатать что угодно, от наклеек и визиток до книг. В его тени расположились ламинатор, переплетчик, скобосшиватель. И смахивающий на футуристическую гильотину польский резак. Корней (его профессия официально называлась grafik) в совершенстве владел программами вроде Corel Draw и Adobe Photoshop, но пользоваться типографической техникой учился с нуля.
– Ну и ночка у меня сегодня была, – сказал Соловьев. – Малая кричала во сне, перепугала нас. Потом кошмары до утра мучили. Ты снился, кстати.
– О, это действительно кошмар.
– Кошмар – что я тебя убил во сне.
– Убил? Как? За что?