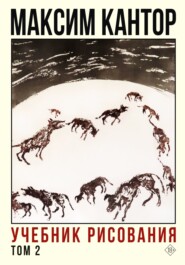По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Империя наизнанку. Когда закончится путинская Россия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь важен вот какой аспект, хочу обратить на него ваше внимание: фашизм, возникая из либерального рынка, не отвергает приобретений, сделанных рынком, – он эти приобретения присваивает.
Именно неравенство, достигнутое рынком, ложится в основу неравенства фашистского общества. Затем это рыночное неравенство закрепляется государством как законодательная иерархия. Фашизм – это легитимизированное неравенство.
Наше общество описало круг: от неравенства к неравенству, от беды к беде, но меня не покидает ощущение, что где-то на протяжении этого пути имелся выход, – мы просто не смогли его найти.
Закончить это письмо я хочу следующим рассуждением. В годы моей юности в начальных классах школы ученикам задавали загадку: как перевезти через реку в лодке волка, козла и капусту, при том что в лодку можно брать только двоих? Очевидно, что если, возвращаясь за третьим компонентом, оставить на противоположном берегу козу и волка, то волк съест козу; если оставить без присмотра козу и капусту, то коза съест капусту. Требуется несколько поездок с таким расчетом, чтобы на берегу всегда оставались только волк и капуста.
Эту загадку легко приложить к истории XX века, когда историей обозначены три общественные модели: коммунизм, фашизм и западная демократия. Позвольте мне назвать фашизм – волком, демократию – капустой, а коммунизм – козлом. Эти силы заключали друг с другом попеременно союзы, ополчаясь на третью силу.
То, что фашизм ХХ века был побежден, является результатом союза демократии и коммунизма. Сегодня мы наблюдаем реставрацию фашизма и гибель коммунистической доктрины: внедрив общее понятие «тоталитаризм», разрушили уравнение, что привело к гибели козла, и позиции волка усилились.
В этом письме я сказал достаточно. Основная мысль состояла в том, что фашизм и либерализм не являются буквальной оппозицией. Оппозицией тому и другому является гуманизм.
Я считаю себя христианином; внутри социума мои христианские взгляды заставляют меня видеть выход в социалистических идеалах. Как католический писатель и католический художник я стою на позиции христианского гуманизма – и неважно то, что в современном мире становится все труднее эту позицию оборонять.
Мийе: Культурная идентичность
Уважаемый Максим, горе сегодняшнего дня – в самосознании Европы, и, подчеркну, в самоопределении французскости, французского духа; в самоопределении национальных культур. Утрата национальной культурной идентичности – это существенная часть разрушения общей концепции мира, существенный компонент общей дехристианизации Европы.
Я согласен с вами в анализе исторических несообразностей, существующих в употреблении слов «фашизм» и «тоталитаризм», но я совсем не уверен, что Ханна Арендт внедрила понятие «тоталитаризма» чтобы обелить Хайдеггера (чей анализ техницизма мне представляется крайне верным).
Хайдеггер значит много больше, нежели его ошибки, несмотря на то, что мы должны сожалеть о том, что он не сумел ответить на поставленный Паулем Целаном вопрос о нацизме. Я думаю, что мы в состоянии выйти за пределы предложенного Арендт толкования тоталитаризма, во всяком случае, современность побуждает нас к этому.
Недавно я был публично поименован «неонацистом», меня назвал так главный редактор одной из французских газет (либеральной левой газеты, фактически рупора пропаганды так называемых либеральных ценностей). В чем был смысл этого обвинения? Во Франции вы обладаете «культурным» правом уничижительно расправляться с оппонентом, преувеличивать его дьявольские свойства; сперва вас назовут реакционером, затем очень быстро фашистом, а в довершение всего вы станете у них нацистом.
Недавняя победа партии «Национальный фронт» на европейском голосовании (25 %) объясняет реальный страх либералов против свободных писателей, и даже против тех свободных писателей, которые не буквально отождествляют себя с Национальным фронтом.
Им, либералам, нужны козлы отпущения, те, кого можно обвинить в росте фашизма во Франции. Обличение гитлеризма – сегодня это вид публичной казни, со всей очевидностью эта казнь применяется бесчестно, и это показывает нам реальное лицо демократии во Франции. Вот какой мир интеллектуальной Франции – с которым я вступил в войну.
Фашизм против тоталитаризма? Нет уже времени вдаваться в эти исторические дефиниции – мне некогда, идет реальная война. Я не историк, и я не читал Нольте, но я знаю тезисы Франсуа Фуре по поводу французской революции.
Возможно, Сталин, Мао, Пол Пот, Ким Чен Ир – наследники Гитлера. Возможно, мы должны сегодня все чаще думать о том, что Маркс называл азиатским деспотизмом, и что вошло в нашу европейскую жизнь. Возможно, пора подумать о разнице между Азией и Европой, если осталась еще такая разница в глобальном мире.
Но я говорю сейчас как писатель.
Вы правы, время не просто тревожное, но катастрофическое: христианская цивилизация проиграла. Я стараюсь описать в некоторых моих работах круги нового Ада: тот демократический мир, каким он создан сегодня благодаря политике Евросоюза и Америки.
Однажды я встречался с Александром Дугиным и заинтересовался его концепцией Евразийского мира. Но мир, в который мы включим и мусульманство тоже, меня страшит: мусульмане, особенно сунниты, благодаря американскому диктату, стали опасностью для христиан на Ближнем Востоке. И вот поэтому я всегда ярый сторонник Ливанских христиан – был таким и в 1975-ом – во время войны; вот вам еще одна причина, по которой меня записали в фашисты.
Если бы я сражался с христианами на стороне палестинцев, это был бы политически корректный поступок, мне бы, возможно, и дали Нобелевскую премию по литературе.
Американская демократия и то, как она манипулирует сознанием, – вот самый главный элемент нового тоталитаризма. Лицемерный американский тоталитаризм, – вот опасность.
Война в Ираке – это не просто военный ужас, это государственное преступление.
Любопытно как вы это квалифицируете: демократия – против фашизма Саддама Хусейна? Нет, не согласен! Демократия принесла бойню. В политике Европа сделалась американской провинцией, в культуре – потребителем всевозможной дряни: ТВ, рока, рэпа, условного английского, спорта, плохой еды, и так далее.
Американский мир – это очевидная цель Зла. И нам необходим экзорцист, тот, кто изгоняет дьявола. Чтобы раскодировать эту сложную машину манипулирования сознанием, чтобы показать, что демократия – это сегодня маска, прячущая (повторяюсь, но должен повторяться) фашизм или тоталитаризм, – надо много трудиться. Вот моя работа.
А что значит для вас быть сегодня католиком? Во Франции быть католиком (если не говорить о левых католиках, которые еще хуже коммунистов и либералов) сегодня уже почти то же самое, что быть фашистом.
Я одинок. Я читаю Библию, Блаженного Августина, Паскаля, Леона Блуа, Шарля Пегу, Честертона, Симону Вайль, Теодора Геккера.
Да, дорогой Максим, объясните, как вы работаете, о чем думаете в этом мире, и почему вы в вашей художественной и писательской деятельности именуете себя католиком? В мире, который ненавидит католицизм?
Кантор: Мираж геополитики
Уважаемый Ришар, вы пишите о гонениях, коим подверглись. Насколько понимаю, вы были обвинены «либералами» («левой икрой», как вы называете этих людей) в том, что придерживаетесь неонацистских взглядов, хотя вы не нацист, так ли это? Я не знаю реальных событий и мне сложно судить.
Безотносительно конкретного эпизода, это распространенный трюк: фашисты и анти-фашисты меняются местами. Так Геббельс именовал оппонентов тиранами и лжецами, в то время как он был, разумеется, защитником народного мнения.
Если учесть, что это народное мнение он сам и формировал, возникал perpetuummobile: пропаганда создает мнение народа, а затем пропагандист выражает волю народа – то есть, волю собственной пропаганды. Мир вывернут наизнанку. Самое печальное в надвигающейся войне то, что война неотвратима: пытаясь лечить мир, мы даем лекарство от иной болезни, не от той, чем мир в реальности болен.
Особенность наступающей войны в том, что ее начала не политика, но геополитика, а у геополитики нет карты – соответственно неизвестно, где и как пойдут бои. Нет карты, стало быть, нет генералов, нет стратегов и нет планов. Это внеисторическая война.
Вы скажете: геополитика ничем не отличается от просто политики. Нет, не согласен.
Никакой веры, помимо веры в геополитику, не осталось. В социализм, в христианскую доктрину, в коммунизм без государственного аппарата тем более – не верит никто. Да и в демократию уже не верят. Демократия это вообще инструмент, который сломался.
Во что же верят? А на это просто ответить: вера стала примитивно-плоской, на место убеждений пришла темная мистическая дисциплина – геополитика, объясняющая мир.
То и дело слышишь: «Это наш геополитический выбор» – словно есть что-то над волей людей помимо разума и этики, что диктует событиям их ход. Словно бы силы планеты, вращение земли, расположение континентов указывают, каким быть завтрашнему дню.
Помилуйте, это же махровое язычество! Но верят в это природное, данное поверх Бога и совести, поскольку идеалов уже нет, а идей и не было. В то время, когда политика (логическая дисциплина), связанная с историей, географией и религией, уже осуществила передел мира, руководствуясь страстями людей, на смену ей выдвинулась дисциплина, в которой нет убеждений, но есть вера в силу вещей. На арену вышла геополитика, трактующая историю и географию мистическим образом.
Надо дать себе отчет в том, что с реальностью эта дисциплина не связана никак. Объективность геополитики – мнимая.
Критически важно то, что циклические попытки вестернизации «русского мира» (используя заклинание путинской пропаганды) или, точнее говоря, западные реформы российской империи всякий раз кончаются одинаково.
Поворот к Западу в середине прошлого века завершился вводом войск в Чехословакию; «оттепель» закончилась 68-м годом. Поворот к Западу сегодняшний завершился вторжением в Украину; «перестройка» закончилась 14-м годом нового века.
Данная цикличность заставляет по-новому взглянуть на хрестоматийный чаадаевский постулат (в России не было истории – главный факт русской истории есть факт географический) – и на пушкинский ответ на чаадаевскую инвективу.
Петр Чаадаев именно утверждал, что Россия – не Европа, страна выпала из исторического процесса христианских государств, и бытие России является «уроком другим народам» (имеются в виду народы христианского круга, разумеется). Пушкин возразил философу сославшись на неповторимую летопись Киевской Руси; Олег и Ольга – разве это не история?
Важно в диалоге то, что Пушкин и Чаадаев говорили о принципиально разных вещах; в силу этого спор их не состоялся – ответа Чаадаева не последовало. Да и на что здесь можно было бы ответить?
Ну да, Ольга и Олег были, и Киевская Русь была, но при чем же здесь собственно история? Чаадаев рассуждал в терминах немецкой философии – под историей он понимал восхождение социума к свободе духа, преодоление природной зависимости нравственным и общественным законом. Чаадаев имел в виду цивилизационное развитие страны, а поэт Пушкин, возражая ему, говорил о преданиях старины глубокой, о фактографии, о социокультурной эволюции. Разумеется, в преданиях и сказаниях также содержится некий нравственный урок, но не пережитый и не осмысленный, данный нам на уровне опыта – но не нравственного сознания общества.
Когда Чаадаев вопрошает (это один из его наиболее радикальных афоризмов): «Может ли быть больше одной цивилизации?» – он, разумеется, не имеет в виду особенности культурного развития страны, которые у всякого социума отличны.
Британская культура не похожа на культуру Испании – разные этносы имели различную социокультурную эволюцию; искусство Англии разительно отлично от испанского искусства; обычаи и кухня, жилища и одежда – все это различается. Но вот нравственный закон, различение добра и зла, лежащее в основе бытия, объединяет различные социумы стран христианского круга.
Именно это состояние развитого общества, то есть, осмысление природного происхождения и культуры нравственным законом – преодоление фактографического опыта, размышление, находящее факту культуры место в общем нравственном положении, – именно это Чаадаев и именует «цивилизацией».
В этом отношении никакой «британской цивилизации», отличной от «испанской цивилизации», нет и в помине. Это Чаадаев (собеседник Шеллинга) и именует собственно историей и говорит, что в России таковой (то есть, нравственного осмысления культуры) не было, на это (для философии истории простое утверждение) Пушкин возражает: «А как же Ольга и древляне?» Ну, что на это мог ответить Чаадаев? Он промолчал.
С тех пор бесперспективный этот спор возобновляется в русской публицистике регулярно и столь же бессмысленно как в случае Чаадаева – Пушкина: собеседники всегда говорят о разном.
Именно неравенство, достигнутое рынком, ложится в основу неравенства фашистского общества. Затем это рыночное неравенство закрепляется государством как законодательная иерархия. Фашизм – это легитимизированное неравенство.
Наше общество описало круг: от неравенства к неравенству, от беды к беде, но меня не покидает ощущение, что где-то на протяжении этого пути имелся выход, – мы просто не смогли его найти.
Закончить это письмо я хочу следующим рассуждением. В годы моей юности в начальных классах школы ученикам задавали загадку: как перевезти через реку в лодке волка, козла и капусту, при том что в лодку можно брать только двоих? Очевидно, что если, возвращаясь за третьим компонентом, оставить на противоположном берегу козу и волка, то волк съест козу; если оставить без присмотра козу и капусту, то коза съест капусту. Требуется несколько поездок с таким расчетом, чтобы на берегу всегда оставались только волк и капуста.
Эту загадку легко приложить к истории XX века, когда историей обозначены три общественные модели: коммунизм, фашизм и западная демократия. Позвольте мне назвать фашизм – волком, демократию – капустой, а коммунизм – козлом. Эти силы заключали друг с другом попеременно союзы, ополчаясь на третью силу.
То, что фашизм ХХ века был побежден, является результатом союза демократии и коммунизма. Сегодня мы наблюдаем реставрацию фашизма и гибель коммунистической доктрины: внедрив общее понятие «тоталитаризм», разрушили уравнение, что привело к гибели козла, и позиции волка усилились.
В этом письме я сказал достаточно. Основная мысль состояла в том, что фашизм и либерализм не являются буквальной оппозицией. Оппозицией тому и другому является гуманизм.
Я считаю себя христианином; внутри социума мои христианские взгляды заставляют меня видеть выход в социалистических идеалах. Как католический писатель и католический художник я стою на позиции христианского гуманизма – и неважно то, что в современном мире становится все труднее эту позицию оборонять.
Мийе: Культурная идентичность
Уважаемый Максим, горе сегодняшнего дня – в самосознании Европы, и, подчеркну, в самоопределении французскости, французского духа; в самоопределении национальных культур. Утрата национальной культурной идентичности – это существенная часть разрушения общей концепции мира, существенный компонент общей дехристианизации Европы.
Я согласен с вами в анализе исторических несообразностей, существующих в употреблении слов «фашизм» и «тоталитаризм», но я совсем не уверен, что Ханна Арендт внедрила понятие «тоталитаризма» чтобы обелить Хайдеггера (чей анализ техницизма мне представляется крайне верным).
Хайдеггер значит много больше, нежели его ошибки, несмотря на то, что мы должны сожалеть о том, что он не сумел ответить на поставленный Паулем Целаном вопрос о нацизме. Я думаю, что мы в состоянии выйти за пределы предложенного Арендт толкования тоталитаризма, во всяком случае, современность побуждает нас к этому.
Недавно я был публично поименован «неонацистом», меня назвал так главный редактор одной из французских газет (либеральной левой газеты, фактически рупора пропаганды так называемых либеральных ценностей). В чем был смысл этого обвинения? Во Франции вы обладаете «культурным» правом уничижительно расправляться с оппонентом, преувеличивать его дьявольские свойства; сперва вас назовут реакционером, затем очень быстро фашистом, а в довершение всего вы станете у них нацистом.
Недавняя победа партии «Национальный фронт» на европейском голосовании (25 %) объясняет реальный страх либералов против свободных писателей, и даже против тех свободных писателей, которые не буквально отождествляют себя с Национальным фронтом.
Им, либералам, нужны козлы отпущения, те, кого можно обвинить в росте фашизма во Франции. Обличение гитлеризма – сегодня это вид публичной казни, со всей очевидностью эта казнь применяется бесчестно, и это показывает нам реальное лицо демократии во Франции. Вот какой мир интеллектуальной Франции – с которым я вступил в войну.
Фашизм против тоталитаризма? Нет уже времени вдаваться в эти исторические дефиниции – мне некогда, идет реальная война. Я не историк, и я не читал Нольте, но я знаю тезисы Франсуа Фуре по поводу французской революции.
Возможно, Сталин, Мао, Пол Пот, Ким Чен Ир – наследники Гитлера. Возможно, мы должны сегодня все чаще думать о том, что Маркс называл азиатским деспотизмом, и что вошло в нашу европейскую жизнь. Возможно, пора подумать о разнице между Азией и Европой, если осталась еще такая разница в глобальном мире.
Но я говорю сейчас как писатель.
Вы правы, время не просто тревожное, но катастрофическое: христианская цивилизация проиграла. Я стараюсь описать в некоторых моих работах круги нового Ада: тот демократический мир, каким он создан сегодня благодаря политике Евросоюза и Америки.
Однажды я встречался с Александром Дугиным и заинтересовался его концепцией Евразийского мира. Но мир, в который мы включим и мусульманство тоже, меня страшит: мусульмане, особенно сунниты, благодаря американскому диктату, стали опасностью для христиан на Ближнем Востоке. И вот поэтому я всегда ярый сторонник Ливанских христиан – был таким и в 1975-ом – во время войны; вот вам еще одна причина, по которой меня записали в фашисты.
Если бы я сражался с христианами на стороне палестинцев, это был бы политически корректный поступок, мне бы, возможно, и дали Нобелевскую премию по литературе.
Американская демократия и то, как она манипулирует сознанием, – вот самый главный элемент нового тоталитаризма. Лицемерный американский тоталитаризм, – вот опасность.
Война в Ираке – это не просто военный ужас, это государственное преступление.
Любопытно как вы это квалифицируете: демократия – против фашизма Саддама Хусейна? Нет, не согласен! Демократия принесла бойню. В политике Европа сделалась американской провинцией, в культуре – потребителем всевозможной дряни: ТВ, рока, рэпа, условного английского, спорта, плохой еды, и так далее.
Американский мир – это очевидная цель Зла. И нам необходим экзорцист, тот, кто изгоняет дьявола. Чтобы раскодировать эту сложную машину манипулирования сознанием, чтобы показать, что демократия – это сегодня маска, прячущая (повторяюсь, но должен повторяться) фашизм или тоталитаризм, – надо много трудиться. Вот моя работа.
А что значит для вас быть сегодня католиком? Во Франции быть католиком (если не говорить о левых католиках, которые еще хуже коммунистов и либералов) сегодня уже почти то же самое, что быть фашистом.
Я одинок. Я читаю Библию, Блаженного Августина, Паскаля, Леона Блуа, Шарля Пегу, Честертона, Симону Вайль, Теодора Геккера.
Да, дорогой Максим, объясните, как вы работаете, о чем думаете в этом мире, и почему вы в вашей художественной и писательской деятельности именуете себя католиком? В мире, который ненавидит католицизм?
Кантор: Мираж геополитики
Уважаемый Ришар, вы пишите о гонениях, коим подверглись. Насколько понимаю, вы были обвинены «либералами» («левой икрой», как вы называете этих людей) в том, что придерживаетесь неонацистских взглядов, хотя вы не нацист, так ли это? Я не знаю реальных событий и мне сложно судить.
Безотносительно конкретного эпизода, это распространенный трюк: фашисты и анти-фашисты меняются местами. Так Геббельс именовал оппонентов тиранами и лжецами, в то время как он был, разумеется, защитником народного мнения.
Если учесть, что это народное мнение он сам и формировал, возникал perpetuummobile: пропаганда создает мнение народа, а затем пропагандист выражает волю народа – то есть, волю собственной пропаганды. Мир вывернут наизнанку. Самое печальное в надвигающейся войне то, что война неотвратима: пытаясь лечить мир, мы даем лекарство от иной болезни, не от той, чем мир в реальности болен.
Особенность наступающей войны в том, что ее начала не политика, но геополитика, а у геополитики нет карты – соответственно неизвестно, где и как пойдут бои. Нет карты, стало быть, нет генералов, нет стратегов и нет планов. Это внеисторическая война.
Вы скажете: геополитика ничем не отличается от просто политики. Нет, не согласен.
Никакой веры, помимо веры в геополитику, не осталось. В социализм, в христианскую доктрину, в коммунизм без государственного аппарата тем более – не верит никто. Да и в демократию уже не верят. Демократия это вообще инструмент, который сломался.
Во что же верят? А на это просто ответить: вера стала примитивно-плоской, на место убеждений пришла темная мистическая дисциплина – геополитика, объясняющая мир.
То и дело слышишь: «Это наш геополитический выбор» – словно есть что-то над волей людей помимо разума и этики, что диктует событиям их ход. Словно бы силы планеты, вращение земли, расположение континентов указывают, каким быть завтрашнему дню.
Помилуйте, это же махровое язычество! Но верят в это природное, данное поверх Бога и совести, поскольку идеалов уже нет, а идей и не было. В то время, когда политика (логическая дисциплина), связанная с историей, географией и религией, уже осуществила передел мира, руководствуясь страстями людей, на смену ей выдвинулась дисциплина, в которой нет убеждений, но есть вера в силу вещей. На арену вышла геополитика, трактующая историю и географию мистическим образом.
Надо дать себе отчет в том, что с реальностью эта дисциплина не связана никак. Объективность геополитики – мнимая.
Критически важно то, что циклические попытки вестернизации «русского мира» (используя заклинание путинской пропаганды) или, точнее говоря, западные реформы российской империи всякий раз кончаются одинаково.
Поворот к Западу в середине прошлого века завершился вводом войск в Чехословакию; «оттепель» закончилась 68-м годом. Поворот к Западу сегодняшний завершился вторжением в Украину; «перестройка» закончилась 14-м годом нового века.
Данная цикличность заставляет по-новому взглянуть на хрестоматийный чаадаевский постулат (в России не было истории – главный факт русской истории есть факт географический) – и на пушкинский ответ на чаадаевскую инвективу.
Петр Чаадаев именно утверждал, что Россия – не Европа, страна выпала из исторического процесса христианских государств, и бытие России является «уроком другим народам» (имеются в виду народы христианского круга, разумеется). Пушкин возразил философу сославшись на неповторимую летопись Киевской Руси; Олег и Ольга – разве это не история?
Важно в диалоге то, что Пушкин и Чаадаев говорили о принципиально разных вещах; в силу этого спор их не состоялся – ответа Чаадаева не последовало. Да и на что здесь можно было бы ответить?
Ну да, Ольга и Олег были, и Киевская Русь была, но при чем же здесь собственно история? Чаадаев рассуждал в терминах немецкой философии – под историей он понимал восхождение социума к свободе духа, преодоление природной зависимости нравственным и общественным законом. Чаадаев имел в виду цивилизационное развитие страны, а поэт Пушкин, возражая ему, говорил о преданиях старины глубокой, о фактографии, о социокультурной эволюции. Разумеется, в преданиях и сказаниях также содержится некий нравственный урок, но не пережитый и не осмысленный, данный нам на уровне опыта – но не нравственного сознания общества.
Когда Чаадаев вопрошает (это один из его наиболее радикальных афоризмов): «Может ли быть больше одной цивилизации?» – он, разумеется, не имеет в виду особенности культурного развития страны, которые у всякого социума отличны.
Британская культура не похожа на культуру Испании – разные этносы имели различную социокультурную эволюцию; искусство Англии разительно отлично от испанского искусства; обычаи и кухня, жилища и одежда – все это различается. Но вот нравственный закон, различение добра и зла, лежащее в основе бытия, объединяет различные социумы стран христианского круга.
Именно это состояние развитого общества, то есть, осмысление природного происхождения и культуры нравственным законом – преодоление фактографического опыта, размышление, находящее факту культуры место в общем нравственном положении, – именно это Чаадаев и именует «цивилизацией».
В этом отношении никакой «британской цивилизации», отличной от «испанской цивилизации», нет и в помине. Это Чаадаев (собеседник Шеллинга) и именует собственно историей и говорит, что в России таковой (то есть, нравственного осмысления культуры) не было, на это (для философии истории простое утверждение) Пушкин возражает: «А как же Ольга и древляне?» Ну, что на это мог ответить Чаадаев? Он промолчал.
С тех пор бесперспективный этот спор возобновляется в русской публицистике регулярно и столь же бессмысленно как в случае Чаадаева – Пушкина: собеседники всегда говорят о разном.