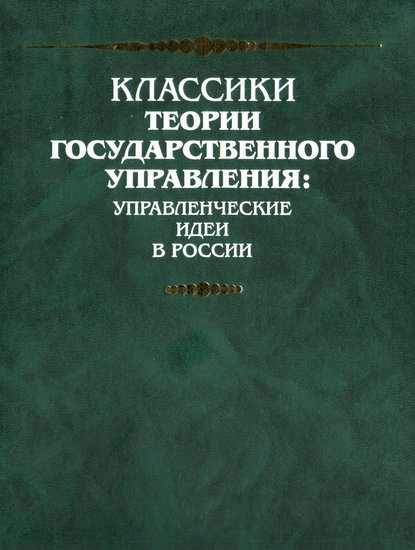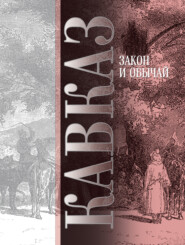По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взаимоотношение свободы и общественной солидарности
Год написания книги
1909
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Взаимоотношение свободы и общественной солидарности
Максим Максимович Ковалевский
«…Не все дошедшее до нас от древности по тому самому должно считаться кладезем народной мудрости; наряду с истинами уцелели и предрассудки или, точнее, предубеждения. К числу таких необходимо отнести представление о том, что свобода и равенство находятся между собой в необходимом, органическом противоречии. …»
М.М. Ковалевский[1 - Ковалевский Михаил Максимович (1851–1916) – русский историк, юрист, социолог, этнограф, академик Петербургской академии наук (1914). Окончил юридический факультет Харьковского университета (1872), дальнейшее образование получил в Берлине, Вене, Париже, Лондоне. С 1880 г. профессор Московского университета, читал лекции по конституционному праву, истории древнего уголовного права, истории сословий на Западе и в России, сравнительной истории семьи и собственности. В 1887 г. был уволен из университета за «отрицательное» отношение к русскому государственному строю. Выехал за границу, где завязал научные и дружеские связи с выдающимися людьми того времени. По праву считался главой либеральной эмиграции. В 1905 г. вернулся в Россию, принял активное участие в политической жизни страны, был избран в I Государственную думу, вошел в состав Государственного совета от академической курии (1907), пытался основать особую партию «демократических реформ». С 1909 г. стал собственником и редактором журнала «Вестник Европы». В 1909–1916 гг. был профессором Петербургского университета.]
Взаимоотношение свободы и общественной солидарности
1909 г.
Если бы люди понимали, что они живут не одной своей жизнью, а жизнью всех, то они знали бы, что, делая добро другим, они делают его себе.
(Лев Толстой. О жизни и смерти. Друкарь, Москва, 1910 г., с. 3)
I
Мы все еще живем традициями. Утверждение тех историков, которые полагают, что человеческое развитие представляет собой непрерывную цепь, не отвечая в строгом смысле слова фактам, отражает на себе наше сознание. Прислушайтесь к тому, что говорится с публичной трибуны и что на все лады повторяют журналы и газеты, брошюры и толстые книги. Свобода и равноправие и, в противовес им, опека и неравенство в обязанностях, а соответственно и в правах, владычество закона или правовой порядок, с одной стороны, спасение народа – высший закон, с другой, – да разве все это не понятие и нередко формулы, одинаково хорошо известные и Древней Греции и Древнему Риму? Ведь справедливость для Платона была немыслима без равенства и не только формального, но и материального; его «диkiа» отвечает многим из тех требований, которые ставят современные общественные реформаторы. О том, что афинская гражданственность стремилась к изополитии, известно любому школьнику, а что то же тяготение существовало в Риме и нашло позднее удовлетворение себе в реформе Каракаллы, уничтожившего всякие средостения между людьми свободными, признается всяким, кто сколько-нибудь занимался историей. Когда с трибуны Государственной думы г. Столыпин говорит, что законы должны молчать, раз того требует интерес государства, он сознательно или бессознательно, подобно Робеспьеру, повторяет сложившуюся еще в Древнем Риме поговорку.
Не все дошедшее до нас от древности по тому самому должно считаться кладезем народной мудрости; наряду с истинами уцелели и предрассудки или, точнее, предубеждения. К числу таких необходимо отнести представление о том, что свобода и равенство находятся между собой в необходимом, органическом противоречии. Я не берусь сказать, как возникло впервые такое представление. Мне легче ответить на вопрос, какими данными оно поддерживалось и поддерживается до наших дней. Деспотии Востока могли первые породить мысль о том, что равенство возможно в бесправии, а следовательно, и при отсутствии свобод. Несомненно, однако, что и на Востоке были и продолжают держаться не только сословные, но и кастовые средостения. Не более спорен и тот факт, что покоренные племена обращались здесь в рабство и что те из них, которым дозволено было сохранить некоторую автономию, все же не уравниваемы были в правах с членами господствующей национальности. Но все это, по-видимому, забывают те, чье внимание приковано к одному бесправию подданного перед властителем. Восточный деспот располагал жизнью и смертью всех ему подвластных; неограниченность его произвола, говорящая только об отсутствии свободы, истолковываема была в смысле равенства в бесправии; таким образом возникло ложное представление о том, что свобода в деспотиях уживается с отсутствием каких бы то ни было наследственных привилегий и преимуществ. В действительности же мы встречаем в деспотиях очень резкие сословные и даже кастовые неравенства при полном отсутствии свободы.
Более убедительным могло показаться противоположение друг другу государств эллинского мира, из которых одни, с аристократическим устройством, сохранили республиканские порядки, а другие, с демократическим, – подпали под владычество тиранов и олигархов. Особенно резко разошлись в этом отношении судьбы Спарты и Афин. Афинская демократия, как известно, продержалась недолго, каких-нибудь сто лет, если считать начальным ее периодом реформу Клисфена, а концом – установление правительства тридцати тиранов. Наоборот, аристократическая Спарта, с ее смешанным образом правления, оказалась жизнеспособной в течение ряда столетий. Немудрено, если и до Ксенофонта, и после него считали возможным ставить спартанские порядки в образец всем тем, кто желал придать республике устойчивый характер; немудрено, если этим сознанием не раз проникались политические реформаторы и если оно лежит в основе учения древних о смешанных формах политического устройства как наилучших, учения, одинаково присущего Аристотелю, Цицерону и Полибшо. Последние два писателя подкрепляли его примером не одной Спарты, но и республиканского Рима, в котором, при неравенстве в правах патрициев и плебеев, граждан и союзников, свободных рабов, в течение столетий сохранилась смешанная форма политики. Современник ее падения, благодаря росту власти императора, Тацит, признавая эти исчезавшие порядки наилучшими из всех существующих, в то же время сомневался в их прочности и продолжительности. Наступали времена единовластия, при котором прирожденные неравенства не спасали народа от произвола, а следовательно, и отсутствия свободы. Наступали времена, когда дальнейшее развитие всесословности, при неограниченности императорской власти, стало поддерживать, в свою очередь, фальшивое представление о том, что равенство непримиримо со свободой. На самом деле факты, на которых опирались эти чересчур поспешные обобщения, нимало не оправдывали того предположения, что с ростом равенства гибнет свобода, и наоборот. Римляне, разумеется, были не менее свободны к концу Пунических войн, чем в эпоху отхода плебеев на Священную гору; а между тем какая бездна отделяет эти две эпохи, если иметь в виду политическое бесправие плебеев в эпоху, предшествовавшую Гракхам. Не все средостения пали с империей; когда провинциалы впервые при Каракалле уравнены были в правах с квиритами, не этот факт вызвал упразднение свободы, так как она была потеряна значительно ранее.
Средневековая политическая мысль питалась мудростью древних. Плутарх, Цицерон и Полибий в первый период схоластики были такими же авторитетами, какими с XIII века стала вновь открытая «Политика» Аристотеля, а с эпохи Возрождения – трактаты Платона «о республике» и «законах». Немудрено поэтому, если и учение о том, что основанная на неравенстве в правах смешанная форма политического устройства всего более благоприятная сохранению свободы, одинаково встречается у тех писателей, для которых высшим учителем политической мудрости был Цицерон и Полибий, и у тех, которые, подобно Фоме Аквинскому, заменяли обоих Аристотелем и пытались распространить его учение о преимуществах смешанного устройства на сословные представительные монархии, в частности на Священную Римскую империю. У Фортескью и Коммина в XV веке, как и у Макиавелли и Бодэна в следующее за тем столетие, мы равно находим отголосок тех взглядов, какие в древности высказывались по поводу Спарты и Рима как типов смешанного политического устройства. Английские и французские писатели одинаково опирались при защите, один – парламента, другой – генеральных и провинциальных штатов, на уподобление отстаиваемого ими строя сословной представительной монархии с аристократическими республиками древности, несравненно более жизнеспособными, утверждали они, чем едва продержавшееся одно столетие «владычество черни» или охлократия в Афинах. Стремление к равенству казалось поэтому исключающим возможность свободы.
И когда к прежним фактам присоединился новый – падение Флорентийской республики благодаря тирании Медичей и, наоборот, упрочение свободных порядков в аристократической Венеции, или республик Св. Марка, доктрина, приписывавшая уравнительным стремлениям разлагающий характер по отношению к свободному государству, приобрела для себя новую пищу. Политические реформаторы Флоренции, как показывает пример Джанотти, стали проникаться желанием содействовать возрождению свободы копированием венецианских порядков. Одновременно сами венецианцы, начиная с Кантарини и Парутта и оканчивая Сарпи, на все лады распространяли тот взгляд, что республика Св. Марка со своим смешанным устройством, напоминающим одинаково Спарту и республиканский Рим, может служить новым доказательством тому, что свобода легче уживается с неравенством, чем наоборот.
Столетие спустя, когда, по свидетельству Гоббса, впервые зародилась в среде английских политиков ненавистная ему мысль о разделении властей и политических противовесах как условиях, благоприятных свободе, к числу фактов, долженствовавших содействовать упрочению доктрины об антагонизме последней с равенством, присоединен был еще один – исчезновение сословных представительных учреждении на континенте Европы, и в частности во Франции, благодаря уравнительной политике континентальных самодержцев, и сохранение свободных учреждений в Англии бок о бок с господством аристократии и сословного неравенства. Один из родоначальников этого нового учения, Альджерион Сидней, прямо говорит об Англии как с порядками римской республики, а Джон Локк, ранее Монтескье построивший доктрину разделения властей с оговоркой, что законодательная имеет перевес над исполнительной, ранее же Монтескье пишет рассуждение о судьбах Рима и ставит их в связи сперва с наличностью, а затем с потерей свойственной ему системы распределения государственных функций между сановниками, сенатом и народными комициями. Зародившееся еще в Англии учение о связи свободы с сохранением сословных средостении и политических привилегий дворянства получает мировое признание благодаря включению его Монтескье в число тех законов или «необходимых отношений, вытекающих из самой природы вещей», раскрытию которых должна была служить его книга. Автор «Духа законов», поставившего впервые в образец всем народам, ищущим свободы, политические порядки Англии, в то же время издает трактат «О величии и падении Рима», в котором красной нитью проходит его любимая мысль о связи свободы с разделением властей и смешанным порядком политического устройства. Эти смешанные порядки, по его мнению, общи были одно время всем тем народам, которые призваны были к жизни германскими нашествиями. Свобода зародилась в лесах Германии, говорит он, и на расстоянии более ста лет ту же мысль повторяет за ним английский историк Фриман, связывающий существование этой свободы с наличностью у германцев в первые периоды их жизни смешанной формы политического устройства – короля, совета и народного собрания. Они кажутся ему зародышами трех составных частой английского парламента – короля, лордов и общин. Признавая за сто с лишним лет до Фримана готическую «монархию» порождением первобытной свободы германцев, Монтескье полагал, что всюду на континенте она упала под ударами уравнительной политики абсолютных правителей.
Сохранилась же она и процвела только в Англии, да еще в немногих странах, им прямо не названных, но в которых легко признать Швецию, Венгрию и Польшу с их уцелевшими сеймами, составленными из сословных представительных палат. Для Монтескье Англия – одновременно и смешанная монархия, постигшая ту истину, что дворянство, как представляющее меньшинство народа, необходимо бы исчезло под ударами уравнительной политики, если бы ему не обеспечена была привилегия служить тормозом по отношению к мерам, принимаемым народными представителями. Отсюда необходимость разделять законодательные функции между палатой общин и палатой лордов; иначе нивелирующая политика монархов, образец которой представили короли Франции, упразднившие штаты и грозящие дальнейшему существованию политических прав высших судебных палат, сотрет с лица земли существование в Англии и сословного неравенства, и тесно связанной с ним политической свободы.
Французская революция воспринимает далеко не в чистом виде доктрину Монтескье. Она отбрасывает все сказанное им о связи разделения властей с политическими привилегиями сословий и строит здание нового государства на почве народного суверенитета. Демократическая монархия, созданная Конституцией 1791 года, вскоре оказывается неустойчивой. Она уступает место уравнительной республике, которая, при главенстве «Комитета общественного спасения», в свою очередь руководимого якобинским клубом, постепенно вырождается в тиранию. Таким образом, людям, пережившим тот ряд событий, который открылся переворотом 10 августа, положившим конец монархии, и далеко не закончился 9-м термидора и наступившим затем белым террором, вполне обоснованным могло показаться утверждение, что оба начала – свободы и равенства – противоречат друг другу.
Одним из первых истолкователей такого учения надо считать Бежамэна Констана, а наиболее полным выразителем его в применении к судьбам французской революции явился не кто иной, как Редерер, одно время выдающийся ее деятель, а впоследствии сотрудник Наполеона Бонапарта при создании им консульства и империи.
Вот приблизительно тот путь, каким шло развитие доктрины, слабый отголосок, которой можно найти и у авторов «Вех». Они не задаются мыслью о ее обосновании, считая излишним всякую аргументацию, когда дело идет о таком труизме. Но труизм ли это? Мы старались показать, что нет. Из всего нами сказанного с очевидностью вытекает то положение, что отсутствие свободы совпадало с неравенством и что исчезновение последнего не только не унимало ее, а, наоборот, пошло с нею рядом. Восточные деспотии построены были на неравенстве, как на неравенстве держалось владычество эвпатридов и патрициев. Нивелирующая политика, императоров ли древности или средневековых королей, имела в виду упразднение сословий. Неравенство исчезло одновременно с упрочением свободы: в 1789 году – благодаря декретам Учредительного собрания, предшествуемым освободительными указами Людовика XVI, в числе других эдиктом о веротерпимости, в наполеоновскую эру – под влиянием насильственного распространения в большей половине Западной Европы, под именем наполеоновских идей, начал гражданского кодекса, подготовленного деятелями революции и «декларации прав человека и гражданина», восходящей к той же эпохе. Революции 1830 и 1848 годов, с отражением и на островах Великобритании, содействовали упрочению в одинаковой степени начал свободы и равенства. Так называемые французами необходимые вольности, т. е. публичные права граждан, не подверглись, следовательно, ограничению по мере умаления избирательного ценза и увеличения как функций представительных палат, так и их независимости по отношению к власти.
Я сказал, что тот же процесс параллельного развития свободы и равенства известен и Англии. В подтверждение этой мысли мне остается сослаться на то, что акт эмансипации католиков в 1829 году только тремя годами предшествовал избирательной реформе 1832 года и демократизации местного управления законом 1835 года. Весь последующий ход развития и избирательного права, я разумею реформы 1867 и 1884 годов, и местного управления в графствах и городах, в смысле все большего и большего расширения круга лиц, призываемых к участию как в общем управлении государства, так и в местном, нимало не сопровождался в Англии ограничением свободы личного самоопределения, а, наоборот, совпал с отменой последних законодательных ограничений, связывавших эту свободу.
Если во второй половине прошлого столетия изредка еще слышался перезвон старинного напева об антагонизме равенства со свободой, то, по-видимому, главным образом в связи с тем фактом, что всеобщее голосование не помешало упрочению во Франции Второй империи, неблагоприятно относившейся к автономии личности, свободе ее физических, а тем более нравственных проявлении. Но всеобщее голосование, восстановленное Наполеоном III, само же подготовило сперва реформу империи на либеральных началах, а со времени франко-прусской войны и замену ее республикой. Таким образом, уравнительное движение на некотором расстоянии оказалось естественным союзником свободы.
Новейшая русская действительность не идет наперекор этой истине: стоит только напомнить, что сокращение размера недавно дарованных нам вольностей следует за контрреформой нашего представительства на началах указа 3 июня 1907 года.
Итак, ни в древней, ни в новой истории нельзя найти оснований для утверждения, что развитие свободы шло в ущерб равенству, а равенства – в ущерб свободе. Этому предубеждению пора положить конец. Вот почему меня немало поразили в «Вехах» фразы вроде следующей: «Тирания общественности искалечила личность». Не менее приведен я был в смущение высказанной авторами «Вех» надеждой, что «тирания гражданственности сломлена ныне, после неуспеха освободительного движения, надолго» и что «в русском человеке мораль альтруизма и общественности растает». Целый ряд других столь же туманных фраз прикрывают собой в «Вехах» какое-то смутное представление о том, что за служением обществу теряется из виду неоцененное благо, каким несомненно является свобода личного самоопределения.
II
В противность еще, по-видимому, модному у нас учению о противоречии равенства и свободы западноевропейская мысль, идет ли она по руслу развития индивидуализма или примыкает ко все более и более развивающемуся потоку социалистического движения, признает почти аксиомой, что прогресс личности немыслим без прогресса общественности и что, в частности, эмансипация индивида связана с развитием опирающейся на равенство солидарности. Эта солидарность, как показали одновременно: в Германии – Зиммель, а во Франции – Дюркгейм, подчеркивая более резко мысли, давно проникшие в сознание социологов положительной школы, сводится к тому, что в обществах первобытных, не знающих разделения труда, группы людей составлены из единиц, однородных и связанных между собой весьма тесно, тогда как самые группы чужды и враждебны друг другу. Прогресс общественности сказывается в том, что тесный круг переходит в более широкий, включающий в себя несколько прежде обособленных общественных единиц. Этот процесс происходит параллельно и в зависимости от другого. Первоначальная однохарактерная по своему составу группа все более и более дифференцируется благодаря разделению труда. Общественная солидарность начинает опираться на новом начале – распределении функций, создающем большую зависимость между лицами, отправляющими каждый только одну из этих функций. Эти мысли, еще крайне отвлеченно изложенные Зиммелем в его небольшой монографии «Soziale Dilferenzierung», несравненно выпуклее выступают в сочинении Дюркгейма «О разделении труда». Отправляясь от той мысли, что солидарность – феномен нравственного порядка, не допускающий поэтому ни прямого наблюдения, ни тем более арифметического подсчета, Дюркгейм полагает, что при решении вопроса о том, в какой степени отдельные человеческие общества проводят это начало, необходимо поставить вместо внутреннего факта солидарности, ускользающего от нашего наблюдения, внешний его символ – право. В эпоху разобщенных и обыкновенно враждебных между собой мелких групп, связанных представлением о действительном или мнимом родстве их членов, сила общественного сознания, говорит Дюркгейм, сказывается одинаково и в умственном единении, и в имущественном, а также в строго репрессивном характере тех карательных норм, которые рассчитаны на удержание от действий, противных солидарности. По мере того как общественное сознание становится менее интенсивным, исчезают указанные особенности архаических обществ. Что же в этом случае служит им заменой? Что продолжает связывать между собой членов все растущей в своем объеме общественной среды, которой ранее был род, теперь племя и союз племен – народ государства? Дюркгейм отвечает: разделение труда. Так как, пишет он, механическая солидарность слабеет со временем, то произойдет одно из двух: или последует упадок общественной жизни, или новая солидарность займет место прежней. Этот последний исход в действительности и имеет место благодаря тому, что разделение труда становится той связью, какая объединяет собой членов социального агрегата высшего типа. Историческим законом надо считать, по мнению Дюркгейма, тот, в силу которого механическая солидарность первоначальных, разобщенных групп заменяется органической.
С переменой в характере солидарности изменяется и сама общественная структура. Двум различным типам солидарности отвечают и два различных социальных уклада. При отсутствии или слабом развитии разделения труда численно небольшая группа представляет собой однородную массу. Дюркгейм выбирает для нее название орды. Группа, которую он имеет в виду, отвечает, однако, несравненно более понятию «стада», чем тому историческому явлению, каким были татарские орды. В доказательство существования таких недифференцированных сообществ Дюркгейм ссылается на быт американских краснокожих и негритосов Новой Голландии. Помимо различий, порождаемых возрастом и полом, индивиды, входящие в состав названных народностей, не знают между собой никаких иных. Руководительство их группами принадлежит старейшинам или советам старейший, причем решающим обстоятельством при выборе тех и других лиц является один возраст. Ни переход от материнства к отечеству, ни обособление правительственных функций не изменяют характера связывающей членов группы солидарности: она остается по-прежнему механической; она остается ею даже тогда, когда власть начальников становится неограниченной. Ее отличительный признак тот, что отношения как власти к подданным, так и подданных между собой, не основаны на принципе взаимности, предполагающем существование договора или соглашения.
Не в личных, а в общественных условиях лежит, по мнению Дюркгейма, ключ к пониманию причин, по которым разделение труда прогрессирует с течением времени. Этот прогресс идет рука об руку с упадком общественных структур, построенных на начале механической солидарности, ведет к разделению труда, потому что между членами, составляющими их, происходит более интимное сближение. Разделение труда, пишет Дюркгейм, прогрессирует по мере того, как растет численный состав самой группы. Решающим обстоятельством является в данном случае сгущение населения, сделавшее возможным активный обмен услуг между членами группы, и происходящее отсюда сближение их. Свою мысль автор доказывает ссылкой на общеизвестный факт, что первобытные общества живут рассеянно, тогда как в культурных происходит концентрация жителей. Та же концентрация, как последствие большего разделения труда, выступает при сравнении города с селом. Но если общество, сгущаясь, тем самым вызывает разделение труда, то, в свою очередь, это разделение увеличивает сплочение общества. Причина, по которой разделение труда в более численных обществах развивается быстрее, лежит в том, что борьба за существование в них более интенсивна. Но если индивиды, живущие бок о бок, принадлежат к различным родам и видам, они менее стесняют друг друга, так как находят различный источник для поддержания своей жизни. Этот закон установлен был Дарвином по отношению к животному царству; люди, говорит Дюркгейм, одинаково подчиняются его действию. В одном и том же городе разные профессии могут существовать рядом, не причиняя вреда друг другу, но чем ближе сходятся функции двух профессий, чем больше между ними общего, тем вероятнее становится их столкновение и соперничество. Понятно, что при таких условиях рост населения, сопровождающийся большей его густотой, необходимо вызывает дальнейшее разделение труда. Но не одной густотой населения обусловливается все большая и большая специализация общественных функций. Дюркгейм указывает и на другие причины. С упадком общественного сознания, поддерживавшего единство в обществе, построенном на механической солидарности, разделении труда становится источником новой. Можно поэтому видеть в упадке общественного сознания причину, благоприятную разделению труда.
В тесной связи с только что намеченной, разумеется, в самых общих чертах доктриной стоит недавняя попытка Дюги показать, что нет коллективного интереса, противоположного индивидуальному. Социализация, рассуждает он, возрастает в прямом отношении к разделению труда. Разделение же труда развивается в полном соответствии с его индивидуализацией. Отсюда следует, по мнению Дюги, что социализация и индивидуализация не исключают друг друга. Противоположение индивидуального коллективному не отвечает действительности, пишет он на странице 81 своей книги «Государство, объективное право и положительный закон». Человек не может сохранить своего существования вне солидарности с себе подобными: только при ней он способен уменьшить сумму своих страданий. Всякий акт индивидуальной воли, клонящийся к реализации общественной солидарности, должен необходимо вызвать к себе уважение, т. е. признание. Первое правило поведения – это уважать всякий акт индивидуальной воли, преследующий реализацию общественной солидарности. Смутно это правило уже проводится на низших ступенях общественности. Но из этого первого правила вытекает и второе, оно гласит, что никто не должен совершать действий, преследующих цели, не отвечающие общественной солидарности или противные ей. Остановилось ли на этом развитие человеческого сознания, спрашивает себя Дюги, или в это сознание проникло и третье правило-обязательности для каждого таких действий, которые бы отвечали общественной солидарности? Дюги дает утвердительный ответ. Рано или поздно, пишет он, люди приходят к убеждению, что обязаны содействовать реализации общественной солидарности. К этому и сводится требование права. Такой запрос обращен ко всем людям. Но так как их способности различны, то это третье правило поведения предъявляет требование разумных действий, направленных к упрочению солидарности, сообразно способностям каждого. Содействовать разделению труда, как необходимому элементу общественной солидарности, равно значительно на деле затрат личных дарований так, чтобы сделался возможным обмен услугами. Ведь от такого обмена и происходит солидарность. Каждый служит обществу, кооперируя с другими по мере своих личных возможностей. Правило поведения, вытекающее из сознания солидарности и которое для Дюги составляет норму права, одинаково обязательно и для властвующих, и для подвластных; им подчиняются как правительство, так и подданные. Отсюда следует, что правительство может пользоваться силой, поставленной в его распоряжение, только в интересах общественной солидарности. Нормы поведения, обязательные в равной мере для властных и подвластных, не отличаются косностью: они и постоянны, и изменчивы, постоянны в том смысле, что их содержанием всегда является требование кооперировать с другими в интересах общественной солидарности; изменчивы же потому, что сама эта солидарность проявляется в разных формах. В прошлом она вылилась сперва в форму орды, позднее – рода, еще позднее – города-государства, а в наши дни она выступает в форме народа-государства. Будущее может поставить нас лицом к лицу с новыми типами общежития. Но всем им одинаково было и будет присуще требование солидарности и отвечающего ей поведения, а следовательно, и права, как обнимающего собой нормы этого поведения. Дюги относится отрицательно к учению естественного права, будто нормы поведения установлены с самого начала и навсегда. Правило поведения, обусловленное интересами общественной солидарности, должны считаться нормами нравственности, все же остальные – нормами права. Мораль имеет в виду оценку действий со стороны их внутреннего достоинства, но когда мы говорим о правилах поведения, вызываемые требованиями общественной солидарности, мы имеем в виду ту или другую их оценку с точки зрения общей пользы. А из этого следует, что мы имеем в данном случае дело с нормами права, а не с нормами нравственности. Всякий индивидуальный акт воли, преследующий цели, согласные с нормами права, может считаться актом юридическим. Если акт индивидуальной воли не вызывается общественной солидарностью, он лишен юридического значения. Организованная и сознательная воля общества не становится в его распоряжение: наоборот, она должна обнаружить свое вмешательство или с целью воспротивиться вытекающим из него последствиям, или с тем, чтобы подавить его и сделать невозможным повторение в будущем.
Такова в общих чертах новейшая доктрина о тесном отношении между правом и требованиями общественной солидарности. Ее конечный вывод не расходится с тем, к какому приводит нас сравнительное изучение права на различнейших ступенях общественности. Он гласит, что гораздо ранее возникновения государства, в эпоху существования сперва материнских, а затем патриархальных родов, уже имелись нормы права. Все они имели в виду упрочение и укрепление того, что мы обнимаем понятием общественной солидарности, в частности сохранение и развитие существующих групп. Отсюда заботливость этих норм о том, чтобы изъять эти группы от действия того обычая кровной мести, которой являлся проявлением в междуродовых отношениях начала борьбы за существование. Только этим можно объяснить, почему убийство человека, не принадлежащего к одному роду с убийцей, считалось похвальным, тогда как убийство родовича недозволенным и сильно осуждаемым действием, почему та же мера применялась к охранению чужого имущества, смотря по тому, принадлежит ли оно постороннему роду или члену одного сообщества с похитителем. Если враждебный акт, совершенный чужеродцем, требует отмщения, то однохарактерный поступок, раз он исходит от родовича, отнюдь не вызывает собой кровной мести; он сопровождается одним лишь удалением виновного из той замиренной среды, какую образует род.
Таким образом, задолго до возникновения государства в интересах устойчивости общежительных союзов, т. е. из-за заботы о сохранении солидарности, возникают уже общеобязательные нормы, которыми индивидуальные поступки признаются дозволенными или недозволенными действиями, сообразно тому, отвечают ли они требованиям общественной солидарности или не отвечают. Те действия, которые не согласны с устойчивостью родового союза, его дальнейшим существованием, осуждаются, другие же наоборот. Поэтому присвоение чужого, будет ли им женщина или имущество, признается похвальным; раз дело идет о лицах, стоящих вне родового общения, и считается, наоборот, предосудительным, когда сторонами являются родовичи. Причина, очевидно, та, что в первом случае нет опасности для целости союза, а в последнем такая опасность существует. Из всего этого следует, что уже на низших ступенях общественности право совпадает с понятием нормы, приводящей свободу индивидуальных лиц в соответствие с требованиями общественной солидарности.
Итак, сравнительно исторический метод в применении к занимающему нас вопросу вполне подтверждает то основное положение, по которому первоначально не было и не могло быть противоположения коллективного индивидуальному. Ведь индивид заинтересован в существовании той общественной группы, которой он является членом; без нее он оставлен был бы на произвол судьбы в борьбе с более сильными, чем он, врагами. Чтобы обезопасить себя от окружающих их опасностей, людям необходимо войти в состав той замиренной среды, какой является материнский или отеческий род. На этой стадии развития закон сохранения энергии требует от каждого члена родового сообщества того сокращения сферы проявления своей мощи, при котором возможно поддержание мира в родственной среде. Отсюда запрет частного присвоения и жен, и имуществ, отсюда первобытный родовой коммунизм и возникновение одного из распространеннейших в мире правил поведения – обычая экзогамии, при котором постоянное брачное сожитие возможно только с чужеродкой. Все эти нормы, с которыми тесно связана и организация начальствования в границах родовых сообществ, положение старейшины, как первого между равными, и отсутствие всяких различий между лицами, ему подчиненными, вызваны также к жизни частным проявлением общего закона сохранения энергии. В условиях охотничьего и рыболовного хозяйства кровные и родовые сообщества, очевидно, могут иметь лишь весьма ограниченный личный состав. Для защиты от врагов членам их надо тесно сплотиться между собой, стать едиными телом и духом. Но это предполагает между ними отсутствие всяких средостении, всяких различий во влиянии и власти, помимо тех, каких требует подчинение общему руководительству. Отсюда равенство в правах и обязанностях, отсюда тесное общение живых поколений с усопшими, построенное на начале взаимного обмена услуг. Совершение поминок и отмщение обид, нанесенных чужеродцами, входит в состав вынуждаемых обычаем норм в такой же степени, как и правила, руководящие выбором невесты или размером имущественного пользования отдельных семей. Равенство прав и обязанностей существует бок о бок с равенством в хозяйственной деятельности. Все входящие в род семьи одинаково участвуют в охоте и улове, нередко производимом большими партиями, причем добыча поступает в большей или меньшей степени в общее пользование. Если разделение труда и сказывается, то только в распределении занятий между полами. Военные походы и охота на дикого зверя – более обычное занятие мужчин.
При увеличении числа членов путем естественного роста, добровольного или насильственного сближения отдельных родов и образования тем самым племенных союзов первобытные промыслы оказываются неспособными поддержать существование возросшего в своей плотности населения. Удачные опыты приручения некоторых животных ведут к развитию скотоводства. Для ухода за стадами оказывается возможным приставить к ним ранее истребляемых пленных. Обладание движимым имуществом и рабами вносит начало неравенства и ведет к дальнейшему росту разделения труда. Когда к другим видам наживы присоединяется утилизация почвы под посев злаков, садоводство и огородничество, рабы приобретают особую ценность, и насильственное применение их труда дает возможность отдельным семьям расширить пределы своего земельного пользования и не приспособлять его к удовлетворению одних неотложных потребностей. Таким образом, возникает обособление профессий; оно присоединяется к начальному разделению труда между полами.
Рост духовного и светского руководительства, обособляющегося в особые касты и сословия, только усиливает и ускоряет процесс дифференциации занятий. С переходом от родовых порядков к государственным индифференцированные группы людей сменяются такими, в которых общественная солидарность построена на обмене услуг между лицами разных профессий, разного экономического положения. В них закон сохранения энергии требует связанного с разделением труда неравенства, но только в тех размерах, при которых оно не препятствует общественному единству или солидарности всех граждан. Отсюда запрет обращать в рабство единородцев и присваивать себе превышающую семейную нужду долю в общих полях. Еще в XVII веке, строя трудовую теорию возникновения собственности, английский мыслитель Локк указывал, что апроприация, производимая этим путем, находит свой предел в требовании, чтобы «для присвоения другими членами гражданского сообщества или государства оставалось достаточное число равнокачественных предметов». Говоря это, Локк высказывает отвлеченное начало, но сравнительная этнография и сравнительная история права вполне подтвердили его теорию. Захватное пользование в пределах неразделенных земель – этот древнейший тип мирского владения – оканчивается там, где новое присвоение сделало бы невозможным утилизацию общей собственности всеми прочими членами civitas, т. е. городской или сельской общины, в границах их действительной нужды. Поддержание в этом отношении требований общественной солидарности ведет к замене захватного пользования уравнительными переделами. Убедиться в этом можно на примере, представляемом историей землевладения в южной России среди казаков донских, черноморских, кубанских и уральских и в равной мере в северозападных провинциях Индии и Пенджабе. Новейшая эволюция сибирского землевладения, так обстоятельно изученная А. Кауфманом, служит новым подтверждением сказанного.
Только что описанный процесс находит необходимое отражение себя и в праве. Общий обычай регулирует порядок подчинения женщин мужчинам, рабов – хозяевам, съемщиков скота – его владельцам, съемщиков земли – ее собственникам. Но проводимое правом неравенство еще относительное. Оно не исключает возможности равной защиты общих всем названным группам интересов – интересов сохранения жизни их членов. Отсюда сравнительно поздно возникающее различие в выкупах за убийства и ранения, смотря по месту, занимаемому обиженным на общественной лестнице. Так, например, по «Русской Правде», повышенное «головничество» взимается только в случае, когда обиженным является огнищанин, т. е. человек, принадлежащий ко двору князя; все же остальные свободные пользуются равной защитой по отношению к нарушителям мира. Сказанному не противоречит и то, что выкуп за раба всегда ниже, чем за свободного. Ведь раб по своему происхождению чужеродец. На него, следовательно, не распространяются нормы защиты, которыми пользуются граждане civitas. Первоначальное отношение обычая к убийству раба – как к пропаже имущества, возмещаемого хозяину равноценным предметом.
Мы не продолжим этого по необходимости краткого очерка развития общественной солидарности и его отражения в праве по мере дальнейшей дифференциации и интеграции общественных функций. Оно совершается неизменно и далее в направлении, указанном законом сохранения энергии. Удовольствуемся также простым замечанием, что проводимая здесь точка зрения применима одинаково к организации и входящих в состав государства союзов: общины и поместья, а равно и общежительных братств, торговых гильдий, ремесленных цехов, каст, сословий и классов. Но когда речь заходит о только что перечисленных группах, задача исследователя осложняется от того, что в них нелегко выделить сторону самостоятельного развития, и то, что привносится в него извне параллельной эволюцией государства из городского и феодального в национальное. Я полагаю, однако, что и без дальнейшего настаивания на связи, какую разделение труда при кастовом, сословном и классовом строе сохраняет с необходимостью правовой защиты требований общественной солидарности, каждому будет ясно, что с сравнительно-этнографической и сравнительно-исторической точки зрения переход от самодовлеющих хозяйственных групп, какими являются расширенная семья и род, к группам, нуждающимся в обмане, каковы касты, сословия и классы народа-государства, предполагает в интересах сохранения столько же хозяйственного, сколько политического союза, сочетание автономии личности с общественной солидарностью.
III
Защищаемая нами точка зрения еще недавно принуждена была считаться с тем возражением, будто самое понимание свободы, как относительной автономии личности, совершенно недоступно было ни древности, ни средним векам. Ходячим было утверждение, что античное государство поглощало собой личность. Чтобы доказать это, не считали нужным ссылаться на одни деспотия Востока, но также, например, греческий polis и латинский civitas. Бенжамэн Констан и Эдуард Лабулэ, на расстоянии немногих десятилетий, сумели одинаково заинтересовать широкие круги читателей рассуждениями о причинах, по которым древнее государство в отличие от современного обеспечивало личной самодеятельности меньший простор. Один настаивал на той мысли, что самое понятие о свободе у древних народов было иное, чем у новых. Они разумели под ней участие в политической власти, а не автономию личности. Другой полагал, что источник различия лежит прежде всего в религии. Христианство провозгласило независимость внутреннего человека; оно впервые ввело в мир понятие о свободе совести, свободе религиозной. По образцу же последней сложилось представление и о всех других видах индивидуальной свободы. Недавно одним немецким профессором сделана была даже попытка приурочить к одной реформации почин этой перемены в отношениях личности и государства. Еллинек старался доказать, что учение о единственных правах человека восходит самое большое к эпохе разрыва народов Западной Европы с римской или католической церковью. Говоря это, он разумеет время появления Лютеровой ереси и зарождения кальвинизма, у английских представителей которого – пресвитериан, впервые возникла мысль о составлении и своего рода декларации прав, если не человека вообще, то свободно рожденного англичанина в частности. В противность всем этим учениям я полагаю заодно с большинством социологов и политиков нашего времени, что причина, мешавшая широкому развитию индивидуализма в древних обществах, лежит не во всемогуществе государства, а в той тесной зависимости, в какую личность была поставлена от семьи, рода и племени, или той «филе» и «трибы», о которой заходит речь в греческих или римских источниках. Сказанное применимо в равной мере и к средним искам, к быту кельтов, германцев и славян, как до, так и после обращения их в христианство. Нет, следовательно, основания противополагать в этом отношении античную и языческую культуру культуре новых народов, культуре христианской. Упадок того влияния, какое кровные союзы оказывали на руководство индивидом не только в детстве и отрочестве, но и в период его возмужалости, достаточно объясняет нам причину, по которой сфера самодеятельности личности несравненно шире в государствах нового времени, нежели в первые столетия Спарты, Афин и Рима, а также в раннем средневековье. Но одного сказанного недостаточно, чтобы понять причину расширения сферы личной самодеятельности в наше время. Нужно принять еще во внимание следующее. Не одно древнее общество, но и средневековое, приближалось по своему типу к военному лагерю. Интересы завоевания и защиты имели в нем решительный перевес над интересами мирной культуры, торгового, умственного и художественного обмена. Но военный строй общества необходимо предполагает строгую дисциплину, подчинение индивида чужому руководительству снизу доверху, на всех ступенях общественной лестницы, вплоть до верховного сюзерена-государя, вождя народа и войска. Таким повелителем мог быть одинаково и царь гомерической Греции, и афинский архонт-базилевс, и римские консулы, и средневековый король, и герцог в любом феодальном обществе.
С упадком милитаризма и постепенной заменой его индустриализмом сфера самодеятельности человека расширяется обратно пропорционально правительственной опеке. Те политические тела, в которых военные интересы остаются преобладающими и в новое время, представляют доселе наибольшее подавление личности государством. Это можно было сказать, например, о Пруссии еще в эпоху прямых предшественников Фридриха Великого, когда, по словам посетившего эту страну Монтескье, никто не был уверен, что его насильно не забреют в солдаты, и жизнь каждого протекала под бдительным и докучливым надзором явных и тайных агентов правительства.
Так было не только в Московском царстве, но и в Российской империи, где вплоть до Петра III каждый дворянин прикреплен был к службе, как крестьянин – к земле и тяглу.
Военный строй общества необходимо вызывает к жизни группировку людей не по одному характеру занятий и роли их в производстве, но и соответственно тому, какое участие кто принимает в наступательной и оборонительной деятельности государства по отношению к соседям. Отсюда расходящаяся во многом с классовой сословная организация. Первая отличается относительной подвижностью, вторая – несравненно большей косностью. Чем совершеннее сословный строй, тем он более приближается по своей инертности и постоянству к кастовому. Замкнутость служилого сословия, разумеется, менее значительна, чем военной касты в Индии или Египте; но она все же существует, и ею объясняется относительная непроницаемость и русского дворянства – этого наследника служилых людей Московской Руси. Упадок замкнутости сказывается по мере того, как все новые и новые элементы вводятся в состав сословия. Укажем для примера хотя бы на следующее. Французское дворянство в то время, когда о нем писал Мирабо Старший, уже перестало быть тем чистокровным рыцарством, каким оно было в эпоху крестовых походов. Включение в него так называемых облагороженных и лиц, приобретших его за деньги или покупкой судебной должности, сделало его столь же открытым, как и современное «благородное сословие в России», доступ к которому дает государственная служба в связи с государственным экзаменом или награждением определенными знаками отличия.
Поддерживаемая милитаризмом сословная организация необходимо ограничивает свободу личности. Ведь каждое сословие наделено по отношению к входящим в его состав лицам известными правами, стесняющими их самодеятельность. Чтобы не ходить далеко за примерами, укажу на те уродливые проявления, какие еще в наши дни принимает опека сословия в отношениях дворянских губернских обществ к лицам, неполитичное поведение которых, вопреки истине, подводится ими под понятие бесчестного поступка. Сопровождающее такое признание постановление «исключить из своей среды» провинившегося сочлена влечет за собой сокращение его прав гражданина, как-то: права выбирать и быть выбранным, права исполнять обязанности опекуна и присяжного поверенного; другими словами, оно сокращает сферу его самодеятельности. Если в наши дни при включении в основные законы основного принципа всякого правового государства – равенства всех перед законом – еще держатся такие порядки, то можно судить, каким бременем падала на подданных сословная организация в древности и в средние века, в то время когда военные интересы имели решительный перевес над гражданскими. Вся жизнь человека регулировалась кастовыми запретами и представлениями о сословной чести. Индивид в такой же, если не в большей, степени был связан нравами и предрассудками, сколько законодательство! И в семейном быту, и при выборе профессии над ним тяготело понятие о сословном долге. Еще в 1789 году, когда депутаты, посланные в Париж, снабжались наказами со стороны избирателей, сроднее сословие напоминало дворянству о необходимости жить благородно – vivre nobiemeiit – и выводило отсюда то правило, что дворяне не должны сами хозяйничать в своих имениях, а сдавать их в аренду членам буржуазии и крестьянства. Французская поговорка «Noblesse oblige» была не пустой фразой в то время, когда вступление в неравный брак – так называемый mesallianse – приравнивалось маркизом Мирабо к желанию «удобрить свои поля» – fumer ses terres – и с точки зрения дворянской чести считалось действием крайне предосудительным.
Говоря о причинах, какие в прошлом стесняли свободу индивидуальной жизни, мы не сказали пока ни слова о религии. Тесная связь ее с государством открывала последнему возможность карать людей, отступивших от ее догматов и культа, как повинных в государственном преступлении. Сократ в такой же мере пал жертвой этого представления, как и христианские мученики, не желавшие участвовать в культе императоров. Пока христианство оставалось государственной религией и там, где оно еще остается таковой, оно отнюдь не устраняло и не устраняет возможности такого же стеснения государством свободы личного самоопределения. И чтобы доказать это, нет необходимости восходить ко временам герцога Альбы или еще выше, к эпохе альбигойских войн, а тем более к эпохе искоренения последователей Ариева учения. Не нужно также останавливаться на драгонадах, с помощью которых Людовик XIV пробовал вернуть в лоно вселенской католической церкви не успевших бежать из Франции гугенотов. Достаточно вспомнить казнь де-Ла-Бара за мальчишеский акт кощунства и красноречивое разоблачение этого законного убийства Вольтером. Достаточно вспомнить несчастную участь попа Аввакума и ряд преследований, которым еще недавно подвергались наряду с старообрядцами и наиболее передовые секты протестантизма, известные в России под именем штундистов, молокан и духоборцев.
Причины, по которым самодеятельность личности была более или менее парализована внешними вмешательствами, не могут быть сведены поэтому к одному ошибочному представлению о том, что в Греции и Риме понимали под свободой одно участие в государственной власти. Вечевой строй древней гражданственности держался на более или менее полном устранении от всякой политической жизни трудового населения, рабов, вольноотпущенников и покоренных туземцев, все равно, были ли ими сельские обыватели – илоты, или городские мещане, ремесленники и торговцы – периэки. Прибавьте к этому сведение до минимальных размеров политических прав жителей покоренных городов. В Римской империи до времен императора Каракаллы они самое большее признаваемы были только союзниками, а не гражданами – cives. Все это вместе взятое, позволяло в Афинах двум десяткам тысяч граждан и небольшому их числу в римской республике владычествовать, одним – над Аттикой и Архипелагом, другим – не только над Италией, но и над доброй частью цивилизованного мира (orbis romanus). Тем самым до минимума сведена была свобода самоопределения тех, кто слыл под названием провинциалов. Но что такие порядки известны были не одной классической древности, но и тому продолжению античной городской культуры, каким является средневековая итальянская гражданственность, доказательство этому может дать нам одинаково и флорентийская республика с массой завоеванных ею городов и селений, и республика венецианская, известная под наименованием «республика Св. Марка». Вплоть до 1797 года – эпохи подписания Наполеоном I договора в Кампо-Формио, которым Венеция и ее владения на далматинском побережье уступлены были Австрии, – несколько сотен дворянских семей, из которых большинство было уроженцами Венеции, одни призываемы были к заведованию интересами многомиллионного населения, занимавшего и значительную часть современной Ломбардии, и Адриатическое побережье, и Морею, т. е. древний Пелопоннез, и острова Архипелага, наконец, отдаленные колонии, расположенные на Черном море, в том числе теперешний Азов – средневековую Тану.
Заявление нашего начального летописца – «на чем старшие (города) положат, на том пригороды станут» – в применении ко всем городским республикам верно не только в смысле первенства главных городов, но и поглощения нередко их гражданством политических прав жителей подчиненных им общин и местечек.
Государство, развившееся благодаря соединению воедино кровных союзов и перенесшее на своих наследственных или избираемых вождей те смешанные функции светского и духовного руководства, которые дотоле принадлежали племенным и родовым старейшинам и членам зарождающегося жречества, а таким государством, как мы знаем, были одинаково в начальный период их истории и афинское, и римское, – очевидно, должно было смотреть на индивида несколько иными глазами, чем те, какими смотрит на него современное государство, вполне секуляризированное и ставящее себе поэтому чисто мирские задачи, задачи стража независимости и правосудия, а также проводника культуры. Притом союз круговой поруки, который связывает между собой членов рода и образующего государство соединения родов, пожертвование индивидом в интересах целого не способно было встретить того отпора, какой бы выпал ему в удел в наши дни. Агамемнон, приносящий в жертву свою дочь Ифигению в интересах всего вверенного ему народа, действует под влиянием того же представления, какое в позднейшие годы и на расстоянии столетий побуждало афинский демос изгонять из своей среды даже честнейшего из своих граждан, Аристида, ради общего мира и спокойствия, а следовательно, и общего спасения. Римское «sacer esto» – да будет предан богам, т. е. казнен нарушитель государственного правопорядка, в корне своем имеет ни более ни менее, как обычай насильственного удаления из родственной среды нарушителя мира, этого древненемецкого vagus, которого народный эпос сравнивал с блуждающим, нигде не находящим себе приюта волком и которому в этом отношении вполне отвечает кавказский абрек. В обществе, еще живущем идеалами родственной солидарности, сливающейся с той, которая связывает членов одного войска, понятно зарождение учения о государственной необходимости, перед которой на задний план отступают всякие соображения об уважении к личности, к праву и справедливости, так как забота о спасении всего народа – «salus populi» – первенствует над всеми прочими задачами. Немудрено, если то, что мы называем «raison d'etat», – понятие, завещанное политикам XVI и XVII веков классической древностью. Высказывающие его писатели Возрождения Макиавелли, а за ним Ботеро одинаково орудуют примерами Рима. Классический образец рисуется еще воображению французских якобинцев в 1793 году в момент устройства ими «комитета общественного спасения» и революционных трибуналов. Но чистым анахронизмом, смешной и в то же время возмущающей душу карикатурой надо было бы считать ссылку на ту же государственную необходимость и заботу об общественном спасении в устах министра любой конституционной державы нашего времени, для которой всякая репрессия находит себе предел в законе и в стране ответственности перед судом за его нарушение.
Из всего сказанного нами до сих пор надо прийти к тому заключению, что противоречие, в каком современный государственный порядок стоит с прошлым, не может быть сведено к одной какой-либо частной причине, а вызывается той глубокой бездной, какая отделяет индустриальную и потому самому сильно индивидуализированную гражданственность наших дней от непорвавшего еще своей связи с кровными союзами военно-сословного государства.
Представленный нами очерк, как мы полагаем, лишний раз доказывает, что ограничение свободы, столько же личной или гражданской, сколько и политической, стояло в прошлом в тесной связи с неравенством, порождаемым разнообразнейшими видами опеки, какие тяготели над личностью, – опеки религиозной, сословной и родовой. Происходившее отсюда неравенство подданных, сказывавшееся, между прочим, в устранении от политической жизни главного класса производителей, пребывавшего в узах рабства или крепостной неволи, сводило к скромным рамкам ту изополитию, какой кичились наиболее демократические республики древности и о которой снова заходит речь у учителей естественного права XVII и XVIII вв. с Альтузием, Спинозой и Жан-Жаком Руссо во главе. Таким образом, подходя к вопросу с другой стороны, чем та, какая имелась нами в начале этой статьи, спрашивая себя о том, по какой причине древнее и средневековое государства слабо обеспечивали свободу личности, мы снова приходим к тому же заключению о тесной связи ее с равенством и о возможности утверждать, что там, где отсутствует последнее, нет благоприятных условий для развития личной автономии. Немудрено поэтому, если и англичане середины XVII века, и французы 1789-го и следующих годов одинаково толковали об уравнительной свободе, сливая оба понятия – равенства и автономии личности – в одно. В таком смысле высказывались предшественники современного радикализма в Англии, так называемые левеллеры, или уравнители, и то же на все лады повторяли одинаково и Камил Демулэн, и Кондорсэ, другими словами, столько же якобинцы, сколько и жирондисты. Уравнительная свобода потому не является химерой, а положительным требованием современной гражданственности, что ею автономия личности признается не препятствием, а условием развития общественной солидарности. Все будущее человечества зависит от согласования этих двух, как мы показали, далеко не противоречащих друг другу, начал. Как бы широко ни понимали своей задачи общественные и политические реформаторы, ни один из них не может рассчитывать на проведение в жизнь своей схемы, если в ней требование общественной солидарности – справедливость не будет признано в равной степени с требованием автономии личности – свободой ее физических и нравственных проявлений. Вот почему демократический цезаризм может быть только временной и преходящей формой, вот почему и так называемая диктатура пролетариата не заключает в себе постоянного решения, и прочным порядком политического устройства могут быть только те образы правления, при которых народ обладает свободой самоопределения в такой же степени, как и входящие в состав его члены, т. е. под условием соблюдения норм права, в свою очередь являющихся вынуждаемыми властью требованиями общественной солидарности.
Публ. по: Вехи. Интеллигенция в России: Сб. статей. 1909–1910. М., 1991. С. 269–294.
notes
Примечания
1
Максим Максимович Ковалевский
«…Не все дошедшее до нас от древности по тому самому должно считаться кладезем народной мудрости; наряду с истинами уцелели и предрассудки или, точнее, предубеждения. К числу таких необходимо отнести представление о том, что свобода и равенство находятся между собой в необходимом, органическом противоречии. …»
М.М. Ковалевский[1 - Ковалевский Михаил Максимович (1851–1916) – русский историк, юрист, социолог, этнограф, академик Петербургской академии наук (1914). Окончил юридический факультет Харьковского университета (1872), дальнейшее образование получил в Берлине, Вене, Париже, Лондоне. С 1880 г. профессор Московского университета, читал лекции по конституционному праву, истории древнего уголовного права, истории сословий на Западе и в России, сравнительной истории семьи и собственности. В 1887 г. был уволен из университета за «отрицательное» отношение к русскому государственному строю. Выехал за границу, где завязал научные и дружеские связи с выдающимися людьми того времени. По праву считался главой либеральной эмиграции. В 1905 г. вернулся в Россию, принял активное участие в политической жизни страны, был избран в I Государственную думу, вошел в состав Государственного совета от академической курии (1907), пытался основать особую партию «демократических реформ». С 1909 г. стал собственником и редактором журнала «Вестник Европы». В 1909–1916 гг. был профессором Петербургского университета.]
Взаимоотношение свободы и общественной солидарности
1909 г.
Если бы люди понимали, что они живут не одной своей жизнью, а жизнью всех, то они знали бы, что, делая добро другим, они делают его себе.
(Лев Толстой. О жизни и смерти. Друкарь, Москва, 1910 г., с. 3)
I
Мы все еще живем традициями. Утверждение тех историков, которые полагают, что человеческое развитие представляет собой непрерывную цепь, не отвечая в строгом смысле слова фактам, отражает на себе наше сознание. Прислушайтесь к тому, что говорится с публичной трибуны и что на все лады повторяют журналы и газеты, брошюры и толстые книги. Свобода и равноправие и, в противовес им, опека и неравенство в обязанностях, а соответственно и в правах, владычество закона или правовой порядок, с одной стороны, спасение народа – высший закон, с другой, – да разве все это не понятие и нередко формулы, одинаково хорошо известные и Древней Греции и Древнему Риму? Ведь справедливость для Платона была немыслима без равенства и не только формального, но и материального; его «диkiа» отвечает многим из тех требований, которые ставят современные общественные реформаторы. О том, что афинская гражданственность стремилась к изополитии, известно любому школьнику, а что то же тяготение существовало в Риме и нашло позднее удовлетворение себе в реформе Каракаллы, уничтожившего всякие средостения между людьми свободными, признается всяким, кто сколько-нибудь занимался историей. Когда с трибуны Государственной думы г. Столыпин говорит, что законы должны молчать, раз того требует интерес государства, он сознательно или бессознательно, подобно Робеспьеру, повторяет сложившуюся еще в Древнем Риме поговорку.
Не все дошедшее до нас от древности по тому самому должно считаться кладезем народной мудрости; наряду с истинами уцелели и предрассудки или, точнее, предубеждения. К числу таких необходимо отнести представление о том, что свобода и равенство находятся между собой в необходимом, органическом противоречии. Я не берусь сказать, как возникло впервые такое представление. Мне легче ответить на вопрос, какими данными оно поддерживалось и поддерживается до наших дней. Деспотии Востока могли первые породить мысль о том, что равенство возможно в бесправии, а следовательно, и при отсутствии свобод. Несомненно, однако, что и на Востоке были и продолжают держаться не только сословные, но и кастовые средостения. Не более спорен и тот факт, что покоренные племена обращались здесь в рабство и что те из них, которым дозволено было сохранить некоторую автономию, все же не уравниваемы были в правах с членами господствующей национальности. Но все это, по-видимому, забывают те, чье внимание приковано к одному бесправию подданного перед властителем. Восточный деспот располагал жизнью и смертью всех ему подвластных; неограниченность его произвола, говорящая только об отсутствии свободы, истолковываема была в смысле равенства в бесправии; таким образом возникло ложное представление о том, что свобода в деспотиях уживается с отсутствием каких бы то ни было наследственных привилегий и преимуществ. В действительности же мы встречаем в деспотиях очень резкие сословные и даже кастовые неравенства при полном отсутствии свободы.
Более убедительным могло показаться противоположение друг другу государств эллинского мира, из которых одни, с аристократическим устройством, сохранили республиканские порядки, а другие, с демократическим, – подпали под владычество тиранов и олигархов. Особенно резко разошлись в этом отношении судьбы Спарты и Афин. Афинская демократия, как известно, продержалась недолго, каких-нибудь сто лет, если считать начальным ее периодом реформу Клисфена, а концом – установление правительства тридцати тиранов. Наоборот, аристократическая Спарта, с ее смешанным образом правления, оказалась жизнеспособной в течение ряда столетий. Немудрено, если и до Ксенофонта, и после него считали возможным ставить спартанские порядки в образец всем тем, кто желал придать республике устойчивый характер; немудрено, если этим сознанием не раз проникались политические реформаторы и если оно лежит в основе учения древних о смешанных формах политического устройства как наилучших, учения, одинаково присущего Аристотелю, Цицерону и Полибшо. Последние два писателя подкрепляли его примером не одной Спарты, но и республиканского Рима, в котором, при неравенстве в правах патрициев и плебеев, граждан и союзников, свободных рабов, в течение столетий сохранилась смешанная форма политики. Современник ее падения, благодаря росту власти императора, Тацит, признавая эти исчезавшие порядки наилучшими из всех существующих, в то же время сомневался в их прочности и продолжительности. Наступали времена единовластия, при котором прирожденные неравенства не спасали народа от произвола, а следовательно, и отсутствия свободы. Наступали времена, когда дальнейшее развитие всесословности, при неограниченности императорской власти, стало поддерживать, в свою очередь, фальшивое представление о том, что равенство непримиримо со свободой. На самом деле факты, на которых опирались эти чересчур поспешные обобщения, нимало не оправдывали того предположения, что с ростом равенства гибнет свобода, и наоборот. Римляне, разумеется, были не менее свободны к концу Пунических войн, чем в эпоху отхода плебеев на Священную гору; а между тем какая бездна отделяет эти две эпохи, если иметь в виду политическое бесправие плебеев в эпоху, предшествовавшую Гракхам. Не все средостения пали с империей; когда провинциалы впервые при Каракалле уравнены были в правах с квиритами, не этот факт вызвал упразднение свободы, так как она была потеряна значительно ранее.
Средневековая политическая мысль питалась мудростью древних. Плутарх, Цицерон и Полибий в первый период схоластики были такими же авторитетами, какими с XIII века стала вновь открытая «Политика» Аристотеля, а с эпохи Возрождения – трактаты Платона «о республике» и «законах». Немудрено поэтому, если и учение о том, что основанная на неравенстве в правах смешанная форма политического устройства всего более благоприятная сохранению свободы, одинаково встречается у тех писателей, для которых высшим учителем политической мудрости был Цицерон и Полибий, и у тех, которые, подобно Фоме Аквинскому, заменяли обоих Аристотелем и пытались распространить его учение о преимуществах смешанного устройства на сословные представительные монархии, в частности на Священную Римскую империю. У Фортескью и Коммина в XV веке, как и у Макиавелли и Бодэна в следующее за тем столетие, мы равно находим отголосок тех взглядов, какие в древности высказывались по поводу Спарты и Рима как типов смешанного политического устройства. Английские и французские писатели одинаково опирались при защите, один – парламента, другой – генеральных и провинциальных штатов, на уподобление отстаиваемого ими строя сословной представительной монархии с аристократическими республиками древности, несравненно более жизнеспособными, утверждали они, чем едва продержавшееся одно столетие «владычество черни» или охлократия в Афинах. Стремление к равенству казалось поэтому исключающим возможность свободы.
И когда к прежним фактам присоединился новый – падение Флорентийской республики благодаря тирании Медичей и, наоборот, упрочение свободных порядков в аристократической Венеции, или республик Св. Марка, доктрина, приписывавшая уравнительным стремлениям разлагающий характер по отношению к свободному государству, приобрела для себя новую пищу. Политические реформаторы Флоренции, как показывает пример Джанотти, стали проникаться желанием содействовать возрождению свободы копированием венецианских порядков. Одновременно сами венецианцы, начиная с Кантарини и Парутта и оканчивая Сарпи, на все лады распространяли тот взгляд, что республика Св. Марка со своим смешанным устройством, напоминающим одинаково Спарту и республиканский Рим, может служить новым доказательством тому, что свобода легче уживается с неравенством, чем наоборот.
Столетие спустя, когда, по свидетельству Гоббса, впервые зародилась в среде английских политиков ненавистная ему мысль о разделении властей и политических противовесах как условиях, благоприятных свободе, к числу фактов, долженствовавших содействовать упрочению доктрины об антагонизме последней с равенством, присоединен был еще один – исчезновение сословных представительных учреждении на континенте Европы, и в частности во Франции, благодаря уравнительной политике континентальных самодержцев, и сохранение свободных учреждений в Англии бок о бок с господством аристократии и сословного неравенства. Один из родоначальников этого нового учения, Альджерион Сидней, прямо говорит об Англии как с порядками римской республики, а Джон Локк, ранее Монтескье построивший доктрину разделения властей с оговоркой, что законодательная имеет перевес над исполнительной, ранее же Монтескье пишет рассуждение о судьбах Рима и ставит их в связи сперва с наличностью, а затем с потерей свойственной ему системы распределения государственных функций между сановниками, сенатом и народными комициями. Зародившееся еще в Англии учение о связи свободы с сохранением сословных средостении и политических привилегий дворянства получает мировое признание благодаря включению его Монтескье в число тех законов или «необходимых отношений, вытекающих из самой природы вещей», раскрытию которых должна была служить его книга. Автор «Духа законов», поставившего впервые в образец всем народам, ищущим свободы, политические порядки Англии, в то же время издает трактат «О величии и падении Рима», в котором красной нитью проходит его любимая мысль о связи свободы с разделением властей и смешанным порядком политического устройства. Эти смешанные порядки, по его мнению, общи были одно время всем тем народам, которые призваны были к жизни германскими нашествиями. Свобода зародилась в лесах Германии, говорит он, и на расстоянии более ста лет ту же мысль повторяет за ним английский историк Фриман, связывающий существование этой свободы с наличностью у германцев в первые периоды их жизни смешанной формы политического устройства – короля, совета и народного собрания. Они кажутся ему зародышами трех составных частой английского парламента – короля, лордов и общин. Признавая за сто с лишним лет до Фримана готическую «монархию» порождением первобытной свободы германцев, Монтескье полагал, что всюду на континенте она упала под ударами уравнительной политики абсолютных правителей.
Сохранилась же она и процвела только в Англии, да еще в немногих странах, им прямо не названных, но в которых легко признать Швецию, Венгрию и Польшу с их уцелевшими сеймами, составленными из сословных представительных палат. Для Монтескье Англия – одновременно и смешанная монархия, постигшая ту истину, что дворянство, как представляющее меньшинство народа, необходимо бы исчезло под ударами уравнительной политики, если бы ему не обеспечена была привилегия служить тормозом по отношению к мерам, принимаемым народными представителями. Отсюда необходимость разделять законодательные функции между палатой общин и палатой лордов; иначе нивелирующая политика монархов, образец которой представили короли Франции, упразднившие штаты и грозящие дальнейшему существованию политических прав высших судебных палат, сотрет с лица земли существование в Англии и сословного неравенства, и тесно связанной с ним политической свободы.
Французская революция воспринимает далеко не в чистом виде доктрину Монтескье. Она отбрасывает все сказанное им о связи разделения властей с политическими привилегиями сословий и строит здание нового государства на почве народного суверенитета. Демократическая монархия, созданная Конституцией 1791 года, вскоре оказывается неустойчивой. Она уступает место уравнительной республике, которая, при главенстве «Комитета общественного спасения», в свою очередь руководимого якобинским клубом, постепенно вырождается в тиранию. Таким образом, людям, пережившим тот ряд событий, который открылся переворотом 10 августа, положившим конец монархии, и далеко не закончился 9-м термидора и наступившим затем белым террором, вполне обоснованным могло показаться утверждение, что оба начала – свободы и равенства – противоречат друг другу.
Одним из первых истолкователей такого учения надо считать Бежамэна Констана, а наиболее полным выразителем его в применении к судьбам французской революции явился не кто иной, как Редерер, одно время выдающийся ее деятель, а впоследствии сотрудник Наполеона Бонапарта при создании им консульства и империи.
Вот приблизительно тот путь, каким шло развитие доктрины, слабый отголосок, которой можно найти и у авторов «Вех». Они не задаются мыслью о ее обосновании, считая излишним всякую аргументацию, когда дело идет о таком труизме. Но труизм ли это? Мы старались показать, что нет. Из всего нами сказанного с очевидностью вытекает то положение, что отсутствие свободы совпадало с неравенством и что исчезновение последнего не только не унимало ее, а, наоборот, пошло с нею рядом. Восточные деспотии построены были на неравенстве, как на неравенстве держалось владычество эвпатридов и патрициев. Нивелирующая политика, императоров ли древности или средневековых королей, имела в виду упразднение сословий. Неравенство исчезло одновременно с упрочением свободы: в 1789 году – благодаря декретам Учредительного собрания, предшествуемым освободительными указами Людовика XVI, в числе других эдиктом о веротерпимости, в наполеоновскую эру – под влиянием насильственного распространения в большей половине Западной Европы, под именем наполеоновских идей, начал гражданского кодекса, подготовленного деятелями революции и «декларации прав человека и гражданина», восходящей к той же эпохе. Революции 1830 и 1848 годов, с отражением и на островах Великобритании, содействовали упрочению в одинаковой степени начал свободы и равенства. Так называемые французами необходимые вольности, т. е. публичные права граждан, не подверглись, следовательно, ограничению по мере умаления избирательного ценза и увеличения как функций представительных палат, так и их независимости по отношению к власти.
Я сказал, что тот же процесс параллельного развития свободы и равенства известен и Англии. В подтверждение этой мысли мне остается сослаться на то, что акт эмансипации католиков в 1829 году только тремя годами предшествовал избирательной реформе 1832 года и демократизации местного управления законом 1835 года. Весь последующий ход развития и избирательного права, я разумею реформы 1867 и 1884 годов, и местного управления в графствах и городах, в смысле все большего и большего расширения круга лиц, призываемых к участию как в общем управлении государства, так и в местном, нимало не сопровождался в Англии ограничением свободы личного самоопределения, а, наоборот, совпал с отменой последних законодательных ограничений, связывавших эту свободу.
Если во второй половине прошлого столетия изредка еще слышался перезвон старинного напева об антагонизме равенства со свободой, то, по-видимому, главным образом в связи с тем фактом, что всеобщее голосование не помешало упрочению во Франции Второй империи, неблагоприятно относившейся к автономии личности, свободе ее физических, а тем более нравственных проявлении. Но всеобщее голосование, восстановленное Наполеоном III, само же подготовило сперва реформу империи на либеральных началах, а со времени франко-прусской войны и замену ее республикой. Таким образом, уравнительное движение на некотором расстоянии оказалось естественным союзником свободы.
Новейшая русская действительность не идет наперекор этой истине: стоит только напомнить, что сокращение размера недавно дарованных нам вольностей следует за контрреформой нашего представительства на началах указа 3 июня 1907 года.
Итак, ни в древней, ни в новой истории нельзя найти оснований для утверждения, что развитие свободы шло в ущерб равенству, а равенства – в ущерб свободе. Этому предубеждению пора положить конец. Вот почему меня немало поразили в «Вехах» фразы вроде следующей: «Тирания общественности искалечила личность». Не менее приведен я был в смущение высказанной авторами «Вех» надеждой, что «тирания гражданственности сломлена ныне, после неуспеха освободительного движения, надолго» и что «в русском человеке мораль альтруизма и общественности растает». Целый ряд других столь же туманных фраз прикрывают собой в «Вехах» какое-то смутное представление о том, что за служением обществу теряется из виду неоцененное благо, каким несомненно является свобода личного самоопределения.
II
В противность еще, по-видимому, модному у нас учению о противоречии равенства и свободы западноевропейская мысль, идет ли она по руслу развития индивидуализма или примыкает ко все более и более развивающемуся потоку социалистического движения, признает почти аксиомой, что прогресс личности немыслим без прогресса общественности и что, в частности, эмансипация индивида связана с развитием опирающейся на равенство солидарности. Эта солидарность, как показали одновременно: в Германии – Зиммель, а во Франции – Дюркгейм, подчеркивая более резко мысли, давно проникшие в сознание социологов положительной школы, сводится к тому, что в обществах первобытных, не знающих разделения труда, группы людей составлены из единиц, однородных и связанных между собой весьма тесно, тогда как самые группы чужды и враждебны друг другу. Прогресс общественности сказывается в том, что тесный круг переходит в более широкий, включающий в себя несколько прежде обособленных общественных единиц. Этот процесс происходит параллельно и в зависимости от другого. Первоначальная однохарактерная по своему составу группа все более и более дифференцируется благодаря разделению труда. Общественная солидарность начинает опираться на новом начале – распределении функций, создающем большую зависимость между лицами, отправляющими каждый только одну из этих функций. Эти мысли, еще крайне отвлеченно изложенные Зиммелем в его небольшой монографии «Soziale Dilferenzierung», несравненно выпуклее выступают в сочинении Дюркгейма «О разделении труда». Отправляясь от той мысли, что солидарность – феномен нравственного порядка, не допускающий поэтому ни прямого наблюдения, ни тем более арифметического подсчета, Дюркгейм полагает, что при решении вопроса о том, в какой степени отдельные человеческие общества проводят это начало, необходимо поставить вместо внутреннего факта солидарности, ускользающего от нашего наблюдения, внешний его символ – право. В эпоху разобщенных и обыкновенно враждебных между собой мелких групп, связанных представлением о действительном или мнимом родстве их членов, сила общественного сознания, говорит Дюркгейм, сказывается одинаково и в умственном единении, и в имущественном, а также в строго репрессивном характере тех карательных норм, которые рассчитаны на удержание от действий, противных солидарности. По мере того как общественное сознание становится менее интенсивным, исчезают указанные особенности архаических обществ. Что же в этом случае служит им заменой? Что продолжает связывать между собой членов все растущей в своем объеме общественной среды, которой ранее был род, теперь племя и союз племен – народ государства? Дюркгейм отвечает: разделение труда. Так как, пишет он, механическая солидарность слабеет со временем, то произойдет одно из двух: или последует упадок общественной жизни, или новая солидарность займет место прежней. Этот последний исход в действительности и имеет место благодаря тому, что разделение труда становится той связью, какая объединяет собой членов социального агрегата высшего типа. Историческим законом надо считать, по мнению Дюркгейма, тот, в силу которого механическая солидарность первоначальных, разобщенных групп заменяется органической.
С переменой в характере солидарности изменяется и сама общественная структура. Двум различным типам солидарности отвечают и два различных социальных уклада. При отсутствии или слабом развитии разделения труда численно небольшая группа представляет собой однородную массу. Дюркгейм выбирает для нее название орды. Группа, которую он имеет в виду, отвечает, однако, несравненно более понятию «стада», чем тому историческому явлению, каким были татарские орды. В доказательство существования таких недифференцированных сообществ Дюркгейм ссылается на быт американских краснокожих и негритосов Новой Голландии. Помимо различий, порождаемых возрастом и полом, индивиды, входящие в состав названных народностей, не знают между собой никаких иных. Руководительство их группами принадлежит старейшинам или советам старейший, причем решающим обстоятельством при выборе тех и других лиц является один возраст. Ни переход от материнства к отечеству, ни обособление правительственных функций не изменяют характера связывающей членов группы солидарности: она остается по-прежнему механической; она остается ею даже тогда, когда власть начальников становится неограниченной. Ее отличительный признак тот, что отношения как власти к подданным, так и подданных между собой, не основаны на принципе взаимности, предполагающем существование договора или соглашения.
Не в личных, а в общественных условиях лежит, по мнению Дюркгейма, ключ к пониманию причин, по которым разделение труда прогрессирует с течением времени. Этот прогресс идет рука об руку с упадком общественных структур, построенных на начале механической солидарности, ведет к разделению труда, потому что между членами, составляющими их, происходит более интимное сближение. Разделение труда, пишет Дюркгейм, прогрессирует по мере того, как растет численный состав самой группы. Решающим обстоятельством является в данном случае сгущение населения, сделавшее возможным активный обмен услуг между членами группы, и происходящее отсюда сближение их. Свою мысль автор доказывает ссылкой на общеизвестный факт, что первобытные общества живут рассеянно, тогда как в культурных происходит концентрация жителей. Та же концентрация, как последствие большего разделения труда, выступает при сравнении города с селом. Но если общество, сгущаясь, тем самым вызывает разделение труда, то, в свою очередь, это разделение увеличивает сплочение общества. Причина, по которой разделение труда в более численных обществах развивается быстрее, лежит в том, что борьба за существование в них более интенсивна. Но если индивиды, живущие бок о бок, принадлежат к различным родам и видам, они менее стесняют друг друга, так как находят различный источник для поддержания своей жизни. Этот закон установлен был Дарвином по отношению к животному царству; люди, говорит Дюркгейм, одинаково подчиняются его действию. В одном и том же городе разные профессии могут существовать рядом, не причиняя вреда друг другу, но чем ближе сходятся функции двух профессий, чем больше между ними общего, тем вероятнее становится их столкновение и соперничество. Понятно, что при таких условиях рост населения, сопровождающийся большей его густотой, необходимо вызывает дальнейшее разделение труда. Но не одной густотой населения обусловливается все большая и большая специализация общественных функций. Дюркгейм указывает и на другие причины. С упадком общественного сознания, поддерживавшего единство в обществе, построенном на механической солидарности, разделении труда становится источником новой. Можно поэтому видеть в упадке общественного сознания причину, благоприятную разделению труда.
В тесной связи с только что намеченной, разумеется, в самых общих чертах доктриной стоит недавняя попытка Дюги показать, что нет коллективного интереса, противоположного индивидуальному. Социализация, рассуждает он, возрастает в прямом отношении к разделению труда. Разделение же труда развивается в полном соответствии с его индивидуализацией. Отсюда следует, по мнению Дюги, что социализация и индивидуализация не исключают друг друга. Противоположение индивидуального коллективному не отвечает действительности, пишет он на странице 81 своей книги «Государство, объективное право и положительный закон». Человек не может сохранить своего существования вне солидарности с себе подобными: только при ней он способен уменьшить сумму своих страданий. Всякий акт индивидуальной воли, клонящийся к реализации общественной солидарности, должен необходимо вызвать к себе уважение, т. е. признание. Первое правило поведения – это уважать всякий акт индивидуальной воли, преследующий реализацию общественной солидарности. Смутно это правило уже проводится на низших ступенях общественности. Но из этого первого правила вытекает и второе, оно гласит, что никто не должен совершать действий, преследующих цели, не отвечающие общественной солидарности или противные ей. Остановилось ли на этом развитие человеческого сознания, спрашивает себя Дюги, или в это сознание проникло и третье правило-обязательности для каждого таких действий, которые бы отвечали общественной солидарности? Дюги дает утвердительный ответ. Рано или поздно, пишет он, люди приходят к убеждению, что обязаны содействовать реализации общественной солидарности. К этому и сводится требование права. Такой запрос обращен ко всем людям. Но так как их способности различны, то это третье правило поведения предъявляет требование разумных действий, направленных к упрочению солидарности, сообразно способностям каждого. Содействовать разделению труда, как необходимому элементу общественной солидарности, равно значительно на деле затрат личных дарований так, чтобы сделался возможным обмен услугами. Ведь от такого обмена и происходит солидарность. Каждый служит обществу, кооперируя с другими по мере своих личных возможностей. Правило поведения, вытекающее из сознания солидарности и которое для Дюги составляет норму права, одинаково обязательно и для властвующих, и для подвластных; им подчиняются как правительство, так и подданные. Отсюда следует, что правительство может пользоваться силой, поставленной в его распоряжение, только в интересах общественной солидарности. Нормы поведения, обязательные в равной мере для властных и подвластных, не отличаются косностью: они и постоянны, и изменчивы, постоянны в том смысле, что их содержанием всегда является требование кооперировать с другими в интересах общественной солидарности; изменчивы же потому, что сама эта солидарность проявляется в разных формах. В прошлом она вылилась сперва в форму орды, позднее – рода, еще позднее – города-государства, а в наши дни она выступает в форме народа-государства. Будущее может поставить нас лицом к лицу с новыми типами общежития. Но всем им одинаково было и будет присуще требование солидарности и отвечающего ей поведения, а следовательно, и права, как обнимающего собой нормы этого поведения. Дюги относится отрицательно к учению естественного права, будто нормы поведения установлены с самого начала и навсегда. Правило поведения, обусловленное интересами общественной солидарности, должны считаться нормами нравственности, все же остальные – нормами права. Мораль имеет в виду оценку действий со стороны их внутреннего достоинства, но когда мы говорим о правилах поведения, вызываемые требованиями общественной солидарности, мы имеем в виду ту или другую их оценку с точки зрения общей пользы. А из этого следует, что мы имеем в данном случае дело с нормами права, а не с нормами нравственности. Всякий индивидуальный акт воли, преследующий цели, согласные с нормами права, может считаться актом юридическим. Если акт индивидуальной воли не вызывается общественной солидарностью, он лишен юридического значения. Организованная и сознательная воля общества не становится в его распоряжение: наоборот, она должна обнаружить свое вмешательство или с целью воспротивиться вытекающим из него последствиям, или с тем, чтобы подавить его и сделать невозможным повторение в будущем.
Такова в общих чертах новейшая доктрина о тесном отношении между правом и требованиями общественной солидарности. Ее конечный вывод не расходится с тем, к какому приводит нас сравнительное изучение права на различнейших ступенях общественности. Он гласит, что гораздо ранее возникновения государства, в эпоху существования сперва материнских, а затем патриархальных родов, уже имелись нормы права. Все они имели в виду упрочение и укрепление того, что мы обнимаем понятием общественной солидарности, в частности сохранение и развитие существующих групп. Отсюда заботливость этих норм о том, чтобы изъять эти группы от действия того обычая кровной мести, которой являлся проявлением в междуродовых отношениях начала борьбы за существование. Только этим можно объяснить, почему убийство человека, не принадлежащего к одному роду с убийцей, считалось похвальным, тогда как убийство родовича недозволенным и сильно осуждаемым действием, почему та же мера применялась к охранению чужого имущества, смотря по тому, принадлежит ли оно постороннему роду или члену одного сообщества с похитителем. Если враждебный акт, совершенный чужеродцем, требует отмщения, то однохарактерный поступок, раз он исходит от родовича, отнюдь не вызывает собой кровной мести; он сопровождается одним лишь удалением виновного из той замиренной среды, какую образует род.
Таким образом, задолго до возникновения государства в интересах устойчивости общежительных союзов, т. е. из-за заботы о сохранении солидарности, возникают уже общеобязательные нормы, которыми индивидуальные поступки признаются дозволенными или недозволенными действиями, сообразно тому, отвечают ли они требованиям общественной солидарности или не отвечают. Те действия, которые не согласны с устойчивостью родового союза, его дальнейшим существованием, осуждаются, другие же наоборот. Поэтому присвоение чужого, будет ли им женщина или имущество, признается похвальным; раз дело идет о лицах, стоящих вне родового общения, и считается, наоборот, предосудительным, когда сторонами являются родовичи. Причина, очевидно, та, что в первом случае нет опасности для целости союза, а в последнем такая опасность существует. Из всего этого следует, что уже на низших ступенях общественности право совпадает с понятием нормы, приводящей свободу индивидуальных лиц в соответствие с требованиями общественной солидарности.
Итак, сравнительно исторический метод в применении к занимающему нас вопросу вполне подтверждает то основное положение, по которому первоначально не было и не могло быть противоположения коллективного индивидуальному. Ведь индивид заинтересован в существовании той общественной группы, которой он является членом; без нее он оставлен был бы на произвол судьбы в борьбе с более сильными, чем он, врагами. Чтобы обезопасить себя от окружающих их опасностей, людям необходимо войти в состав той замиренной среды, какой является материнский или отеческий род. На этой стадии развития закон сохранения энергии требует от каждого члена родового сообщества того сокращения сферы проявления своей мощи, при котором возможно поддержание мира в родственной среде. Отсюда запрет частного присвоения и жен, и имуществ, отсюда первобытный родовой коммунизм и возникновение одного из распространеннейших в мире правил поведения – обычая экзогамии, при котором постоянное брачное сожитие возможно только с чужеродкой. Все эти нормы, с которыми тесно связана и организация начальствования в границах родовых сообществ, положение старейшины, как первого между равными, и отсутствие всяких различий между лицами, ему подчиненными, вызваны также к жизни частным проявлением общего закона сохранения энергии. В условиях охотничьего и рыболовного хозяйства кровные и родовые сообщества, очевидно, могут иметь лишь весьма ограниченный личный состав. Для защиты от врагов членам их надо тесно сплотиться между собой, стать едиными телом и духом. Но это предполагает между ними отсутствие всяких средостении, всяких различий во влиянии и власти, помимо тех, каких требует подчинение общему руководительству. Отсюда равенство в правах и обязанностях, отсюда тесное общение живых поколений с усопшими, построенное на начале взаимного обмена услуг. Совершение поминок и отмщение обид, нанесенных чужеродцами, входит в состав вынуждаемых обычаем норм в такой же степени, как и правила, руководящие выбором невесты или размером имущественного пользования отдельных семей. Равенство прав и обязанностей существует бок о бок с равенством в хозяйственной деятельности. Все входящие в род семьи одинаково участвуют в охоте и улове, нередко производимом большими партиями, причем добыча поступает в большей или меньшей степени в общее пользование. Если разделение труда и сказывается, то только в распределении занятий между полами. Военные походы и охота на дикого зверя – более обычное занятие мужчин.
При увеличении числа членов путем естественного роста, добровольного или насильственного сближения отдельных родов и образования тем самым племенных союзов первобытные промыслы оказываются неспособными поддержать существование возросшего в своей плотности населения. Удачные опыты приручения некоторых животных ведут к развитию скотоводства. Для ухода за стадами оказывается возможным приставить к ним ранее истребляемых пленных. Обладание движимым имуществом и рабами вносит начало неравенства и ведет к дальнейшему росту разделения труда. Когда к другим видам наживы присоединяется утилизация почвы под посев злаков, садоводство и огородничество, рабы приобретают особую ценность, и насильственное применение их труда дает возможность отдельным семьям расширить пределы своего земельного пользования и не приспособлять его к удовлетворению одних неотложных потребностей. Таким образом, возникает обособление профессий; оно присоединяется к начальному разделению труда между полами.
Рост духовного и светского руководительства, обособляющегося в особые касты и сословия, только усиливает и ускоряет процесс дифференциации занятий. С переходом от родовых порядков к государственным индифференцированные группы людей сменяются такими, в которых общественная солидарность построена на обмене услуг между лицами разных профессий, разного экономического положения. В них закон сохранения энергии требует связанного с разделением труда неравенства, но только в тех размерах, при которых оно не препятствует общественному единству или солидарности всех граждан. Отсюда запрет обращать в рабство единородцев и присваивать себе превышающую семейную нужду долю в общих полях. Еще в XVII веке, строя трудовую теорию возникновения собственности, английский мыслитель Локк указывал, что апроприация, производимая этим путем, находит свой предел в требовании, чтобы «для присвоения другими членами гражданского сообщества или государства оставалось достаточное число равнокачественных предметов». Говоря это, Локк высказывает отвлеченное начало, но сравнительная этнография и сравнительная история права вполне подтвердили его теорию. Захватное пользование в пределах неразделенных земель – этот древнейший тип мирского владения – оканчивается там, где новое присвоение сделало бы невозможным утилизацию общей собственности всеми прочими членами civitas, т. е. городской или сельской общины, в границах их действительной нужды. Поддержание в этом отношении требований общественной солидарности ведет к замене захватного пользования уравнительными переделами. Убедиться в этом можно на примере, представляемом историей землевладения в южной России среди казаков донских, черноморских, кубанских и уральских и в равной мере в северозападных провинциях Индии и Пенджабе. Новейшая эволюция сибирского землевладения, так обстоятельно изученная А. Кауфманом, служит новым подтверждением сказанного.
Только что описанный процесс находит необходимое отражение себя и в праве. Общий обычай регулирует порядок подчинения женщин мужчинам, рабов – хозяевам, съемщиков скота – его владельцам, съемщиков земли – ее собственникам. Но проводимое правом неравенство еще относительное. Оно не исключает возможности равной защиты общих всем названным группам интересов – интересов сохранения жизни их членов. Отсюда сравнительно поздно возникающее различие в выкупах за убийства и ранения, смотря по месту, занимаемому обиженным на общественной лестнице. Так, например, по «Русской Правде», повышенное «головничество» взимается только в случае, когда обиженным является огнищанин, т. е. человек, принадлежащий ко двору князя; все же остальные свободные пользуются равной защитой по отношению к нарушителям мира. Сказанному не противоречит и то, что выкуп за раба всегда ниже, чем за свободного. Ведь раб по своему происхождению чужеродец. На него, следовательно, не распространяются нормы защиты, которыми пользуются граждане civitas. Первоначальное отношение обычая к убийству раба – как к пропаже имущества, возмещаемого хозяину равноценным предметом.
Мы не продолжим этого по необходимости краткого очерка развития общественной солидарности и его отражения в праве по мере дальнейшей дифференциации и интеграции общественных функций. Оно совершается неизменно и далее в направлении, указанном законом сохранения энергии. Удовольствуемся также простым замечанием, что проводимая здесь точка зрения применима одинаково к организации и входящих в состав государства союзов: общины и поместья, а равно и общежительных братств, торговых гильдий, ремесленных цехов, каст, сословий и классов. Но когда речь заходит о только что перечисленных группах, задача исследователя осложняется от того, что в них нелегко выделить сторону самостоятельного развития, и то, что привносится в него извне параллельной эволюцией государства из городского и феодального в национальное. Я полагаю, однако, что и без дальнейшего настаивания на связи, какую разделение труда при кастовом, сословном и классовом строе сохраняет с необходимостью правовой защиты требований общественной солидарности, каждому будет ясно, что с сравнительно-этнографической и сравнительно-исторической точки зрения переход от самодовлеющих хозяйственных групп, какими являются расширенная семья и род, к группам, нуждающимся в обмане, каковы касты, сословия и классы народа-государства, предполагает в интересах сохранения столько же хозяйственного, сколько политического союза, сочетание автономии личности с общественной солидарностью.
III
Защищаемая нами точка зрения еще недавно принуждена была считаться с тем возражением, будто самое понимание свободы, как относительной автономии личности, совершенно недоступно было ни древности, ни средним векам. Ходячим было утверждение, что античное государство поглощало собой личность. Чтобы доказать это, не считали нужным ссылаться на одни деспотия Востока, но также, например, греческий polis и латинский civitas. Бенжамэн Констан и Эдуард Лабулэ, на расстоянии немногих десятилетий, сумели одинаково заинтересовать широкие круги читателей рассуждениями о причинах, по которым древнее государство в отличие от современного обеспечивало личной самодеятельности меньший простор. Один настаивал на той мысли, что самое понятие о свободе у древних народов было иное, чем у новых. Они разумели под ней участие в политической власти, а не автономию личности. Другой полагал, что источник различия лежит прежде всего в религии. Христианство провозгласило независимость внутреннего человека; оно впервые ввело в мир понятие о свободе совести, свободе религиозной. По образцу же последней сложилось представление и о всех других видах индивидуальной свободы. Недавно одним немецким профессором сделана была даже попытка приурочить к одной реформации почин этой перемены в отношениях личности и государства. Еллинек старался доказать, что учение о единственных правах человека восходит самое большое к эпохе разрыва народов Западной Европы с римской или католической церковью. Говоря это, он разумеет время появления Лютеровой ереси и зарождения кальвинизма, у английских представителей которого – пресвитериан, впервые возникла мысль о составлении и своего рода декларации прав, если не человека вообще, то свободно рожденного англичанина в частности. В противность всем этим учениям я полагаю заодно с большинством социологов и политиков нашего времени, что причина, мешавшая широкому развитию индивидуализма в древних обществах, лежит не во всемогуществе государства, а в той тесной зависимости, в какую личность была поставлена от семьи, рода и племени, или той «филе» и «трибы», о которой заходит речь в греческих или римских источниках. Сказанное применимо в равной мере и к средним искам, к быту кельтов, германцев и славян, как до, так и после обращения их в христианство. Нет, следовательно, основания противополагать в этом отношении античную и языческую культуру культуре новых народов, культуре христианской. Упадок того влияния, какое кровные союзы оказывали на руководство индивидом не только в детстве и отрочестве, но и в период его возмужалости, достаточно объясняет нам причину, по которой сфера самодеятельности личности несравненно шире в государствах нового времени, нежели в первые столетия Спарты, Афин и Рима, а также в раннем средневековье. Но одного сказанного недостаточно, чтобы понять причину расширения сферы личной самодеятельности в наше время. Нужно принять еще во внимание следующее. Не одно древнее общество, но и средневековое, приближалось по своему типу к военному лагерю. Интересы завоевания и защиты имели в нем решительный перевес над интересами мирной культуры, торгового, умственного и художественного обмена. Но военный строй общества необходимо предполагает строгую дисциплину, подчинение индивида чужому руководительству снизу доверху, на всех ступенях общественной лестницы, вплоть до верховного сюзерена-государя, вождя народа и войска. Таким повелителем мог быть одинаково и царь гомерической Греции, и афинский архонт-базилевс, и римские консулы, и средневековый король, и герцог в любом феодальном обществе.
С упадком милитаризма и постепенной заменой его индустриализмом сфера самодеятельности человека расширяется обратно пропорционально правительственной опеке. Те политические тела, в которых военные интересы остаются преобладающими и в новое время, представляют доселе наибольшее подавление личности государством. Это можно было сказать, например, о Пруссии еще в эпоху прямых предшественников Фридриха Великого, когда, по словам посетившего эту страну Монтескье, никто не был уверен, что его насильно не забреют в солдаты, и жизнь каждого протекала под бдительным и докучливым надзором явных и тайных агентов правительства.
Так было не только в Московском царстве, но и в Российской империи, где вплоть до Петра III каждый дворянин прикреплен был к службе, как крестьянин – к земле и тяглу.
Военный строй общества необходимо вызывает к жизни группировку людей не по одному характеру занятий и роли их в производстве, но и соответственно тому, какое участие кто принимает в наступательной и оборонительной деятельности государства по отношению к соседям. Отсюда расходящаяся во многом с классовой сословная организация. Первая отличается относительной подвижностью, вторая – несравненно большей косностью. Чем совершеннее сословный строй, тем он более приближается по своей инертности и постоянству к кастовому. Замкнутость служилого сословия, разумеется, менее значительна, чем военной касты в Индии или Египте; но она все же существует, и ею объясняется относительная непроницаемость и русского дворянства – этого наследника служилых людей Московской Руси. Упадок замкнутости сказывается по мере того, как все новые и новые элементы вводятся в состав сословия. Укажем для примера хотя бы на следующее. Французское дворянство в то время, когда о нем писал Мирабо Старший, уже перестало быть тем чистокровным рыцарством, каким оно было в эпоху крестовых походов. Включение в него так называемых облагороженных и лиц, приобретших его за деньги или покупкой судебной должности, сделало его столь же открытым, как и современное «благородное сословие в России», доступ к которому дает государственная служба в связи с государственным экзаменом или награждением определенными знаками отличия.
Поддерживаемая милитаризмом сословная организация необходимо ограничивает свободу личности. Ведь каждое сословие наделено по отношению к входящим в его состав лицам известными правами, стесняющими их самодеятельность. Чтобы не ходить далеко за примерами, укажу на те уродливые проявления, какие еще в наши дни принимает опека сословия в отношениях дворянских губернских обществ к лицам, неполитичное поведение которых, вопреки истине, подводится ими под понятие бесчестного поступка. Сопровождающее такое признание постановление «исключить из своей среды» провинившегося сочлена влечет за собой сокращение его прав гражданина, как-то: права выбирать и быть выбранным, права исполнять обязанности опекуна и присяжного поверенного; другими словами, оно сокращает сферу его самодеятельности. Если в наши дни при включении в основные законы основного принципа всякого правового государства – равенства всех перед законом – еще держатся такие порядки, то можно судить, каким бременем падала на подданных сословная организация в древности и в средние века, в то время когда военные интересы имели решительный перевес над гражданскими. Вся жизнь человека регулировалась кастовыми запретами и представлениями о сословной чести. Индивид в такой же, если не в большей, степени был связан нравами и предрассудками, сколько законодательство! И в семейном быту, и при выборе профессии над ним тяготело понятие о сословном долге. Еще в 1789 году, когда депутаты, посланные в Париж, снабжались наказами со стороны избирателей, сроднее сословие напоминало дворянству о необходимости жить благородно – vivre nobiemeiit – и выводило отсюда то правило, что дворяне не должны сами хозяйничать в своих имениях, а сдавать их в аренду членам буржуазии и крестьянства. Французская поговорка «Noblesse oblige» была не пустой фразой в то время, когда вступление в неравный брак – так называемый mesallianse – приравнивалось маркизом Мирабо к желанию «удобрить свои поля» – fumer ses terres – и с точки зрения дворянской чести считалось действием крайне предосудительным.
Говоря о причинах, какие в прошлом стесняли свободу индивидуальной жизни, мы не сказали пока ни слова о религии. Тесная связь ее с государством открывала последнему возможность карать людей, отступивших от ее догматов и культа, как повинных в государственном преступлении. Сократ в такой же мере пал жертвой этого представления, как и христианские мученики, не желавшие участвовать в культе императоров. Пока христианство оставалось государственной религией и там, где оно еще остается таковой, оно отнюдь не устраняло и не устраняет возможности такого же стеснения государством свободы личного самоопределения. И чтобы доказать это, нет необходимости восходить ко временам герцога Альбы или еще выше, к эпохе альбигойских войн, а тем более к эпохе искоренения последователей Ариева учения. Не нужно также останавливаться на драгонадах, с помощью которых Людовик XIV пробовал вернуть в лоно вселенской католической церкви не успевших бежать из Франции гугенотов. Достаточно вспомнить казнь де-Ла-Бара за мальчишеский акт кощунства и красноречивое разоблачение этого законного убийства Вольтером. Достаточно вспомнить несчастную участь попа Аввакума и ряд преследований, которым еще недавно подвергались наряду с старообрядцами и наиболее передовые секты протестантизма, известные в России под именем штундистов, молокан и духоборцев.
Причины, по которым самодеятельность личности была более или менее парализована внешними вмешательствами, не могут быть сведены поэтому к одному ошибочному представлению о том, что в Греции и Риме понимали под свободой одно участие в государственной власти. Вечевой строй древней гражданственности держался на более или менее полном устранении от всякой политической жизни трудового населения, рабов, вольноотпущенников и покоренных туземцев, все равно, были ли ими сельские обыватели – илоты, или городские мещане, ремесленники и торговцы – периэки. Прибавьте к этому сведение до минимальных размеров политических прав жителей покоренных городов. В Римской империи до времен императора Каракаллы они самое большее признаваемы были только союзниками, а не гражданами – cives. Все это вместе взятое, позволяло в Афинах двум десяткам тысяч граждан и небольшому их числу в римской республике владычествовать, одним – над Аттикой и Архипелагом, другим – не только над Италией, но и над доброй частью цивилизованного мира (orbis romanus). Тем самым до минимума сведена была свобода самоопределения тех, кто слыл под названием провинциалов. Но что такие порядки известны были не одной классической древности, но и тому продолжению античной городской культуры, каким является средневековая итальянская гражданственность, доказательство этому может дать нам одинаково и флорентийская республика с массой завоеванных ею городов и селений, и республика венецианская, известная под наименованием «республика Св. Марка». Вплоть до 1797 года – эпохи подписания Наполеоном I договора в Кампо-Формио, которым Венеция и ее владения на далматинском побережье уступлены были Австрии, – несколько сотен дворянских семей, из которых большинство было уроженцами Венеции, одни призываемы были к заведованию интересами многомиллионного населения, занимавшего и значительную часть современной Ломбардии, и Адриатическое побережье, и Морею, т. е. древний Пелопоннез, и острова Архипелага, наконец, отдаленные колонии, расположенные на Черном море, в том числе теперешний Азов – средневековую Тану.
Заявление нашего начального летописца – «на чем старшие (города) положат, на том пригороды станут» – в применении ко всем городским республикам верно не только в смысле первенства главных городов, но и поглощения нередко их гражданством политических прав жителей подчиненных им общин и местечек.
Государство, развившееся благодаря соединению воедино кровных союзов и перенесшее на своих наследственных или избираемых вождей те смешанные функции светского и духовного руководства, которые дотоле принадлежали племенным и родовым старейшинам и членам зарождающегося жречества, а таким государством, как мы знаем, были одинаково в начальный период их истории и афинское, и римское, – очевидно, должно было смотреть на индивида несколько иными глазами, чем те, какими смотрит на него современное государство, вполне секуляризированное и ставящее себе поэтому чисто мирские задачи, задачи стража независимости и правосудия, а также проводника культуры. Притом союз круговой поруки, который связывает между собой членов рода и образующего государство соединения родов, пожертвование индивидом в интересах целого не способно было встретить того отпора, какой бы выпал ему в удел в наши дни. Агамемнон, приносящий в жертву свою дочь Ифигению в интересах всего вверенного ему народа, действует под влиянием того же представления, какое в позднейшие годы и на расстоянии столетий побуждало афинский демос изгонять из своей среды даже честнейшего из своих граждан, Аристида, ради общего мира и спокойствия, а следовательно, и общего спасения. Римское «sacer esto» – да будет предан богам, т. е. казнен нарушитель государственного правопорядка, в корне своем имеет ни более ни менее, как обычай насильственного удаления из родственной среды нарушителя мира, этого древненемецкого vagus, которого народный эпос сравнивал с блуждающим, нигде не находящим себе приюта волком и которому в этом отношении вполне отвечает кавказский абрек. В обществе, еще живущем идеалами родственной солидарности, сливающейся с той, которая связывает членов одного войска, понятно зарождение учения о государственной необходимости, перед которой на задний план отступают всякие соображения об уважении к личности, к праву и справедливости, так как забота о спасении всего народа – «salus populi» – первенствует над всеми прочими задачами. Немудрено, если то, что мы называем «raison d'etat», – понятие, завещанное политикам XVI и XVII веков классической древностью. Высказывающие его писатели Возрождения Макиавелли, а за ним Ботеро одинаково орудуют примерами Рима. Классический образец рисуется еще воображению французских якобинцев в 1793 году в момент устройства ими «комитета общественного спасения» и революционных трибуналов. Но чистым анахронизмом, смешной и в то же время возмущающей душу карикатурой надо было бы считать ссылку на ту же государственную необходимость и заботу об общественном спасении в устах министра любой конституционной державы нашего времени, для которой всякая репрессия находит себе предел в законе и в стране ответственности перед судом за его нарушение.
Из всего сказанного нами до сих пор надо прийти к тому заключению, что противоречие, в каком современный государственный порядок стоит с прошлым, не может быть сведено к одной какой-либо частной причине, а вызывается той глубокой бездной, какая отделяет индустриальную и потому самому сильно индивидуализированную гражданственность наших дней от непорвавшего еще своей связи с кровными союзами военно-сословного государства.
Представленный нами очерк, как мы полагаем, лишний раз доказывает, что ограничение свободы, столько же личной или гражданской, сколько и политической, стояло в прошлом в тесной связи с неравенством, порождаемым разнообразнейшими видами опеки, какие тяготели над личностью, – опеки религиозной, сословной и родовой. Происходившее отсюда неравенство подданных, сказывавшееся, между прочим, в устранении от политической жизни главного класса производителей, пребывавшего в узах рабства или крепостной неволи, сводило к скромным рамкам ту изополитию, какой кичились наиболее демократические республики древности и о которой снова заходит речь у учителей естественного права XVII и XVIII вв. с Альтузием, Спинозой и Жан-Жаком Руссо во главе. Таким образом, подходя к вопросу с другой стороны, чем та, какая имелась нами в начале этой статьи, спрашивая себя о том, по какой причине древнее и средневековое государства слабо обеспечивали свободу личности, мы снова приходим к тому же заключению о тесной связи ее с равенством и о возможности утверждать, что там, где отсутствует последнее, нет благоприятных условий для развития личной автономии. Немудрено поэтому, если и англичане середины XVII века, и французы 1789-го и следующих годов одинаково толковали об уравнительной свободе, сливая оба понятия – равенства и автономии личности – в одно. В таком смысле высказывались предшественники современного радикализма в Англии, так называемые левеллеры, или уравнители, и то же на все лады повторяли одинаково и Камил Демулэн, и Кондорсэ, другими словами, столько же якобинцы, сколько и жирондисты. Уравнительная свобода потому не является химерой, а положительным требованием современной гражданственности, что ею автономия личности признается не препятствием, а условием развития общественной солидарности. Все будущее человечества зависит от согласования этих двух, как мы показали, далеко не противоречащих друг другу, начал. Как бы широко ни понимали своей задачи общественные и политические реформаторы, ни один из них не может рассчитывать на проведение в жизнь своей схемы, если в ней требование общественной солидарности – справедливость не будет признано в равной степени с требованием автономии личности – свободой ее физических и нравственных проявлений. Вот почему демократический цезаризм может быть только временной и преходящей формой, вот почему и так называемая диктатура пролетариата не заключает в себе постоянного решения, и прочным порядком политического устройства могут быть только те образы правления, при которых народ обладает свободой самоопределения в такой же степени, как и входящие в состав его члены, т. е. под условием соблюдения норм права, в свою очередь являющихся вынуждаемыми властью требованиями общественной солидарности.
Публ. по: Вехи. Интеллигенция в России: Сб. статей. 1909–1910. М., 1991. С. 269–294.
notes
Примечания
1