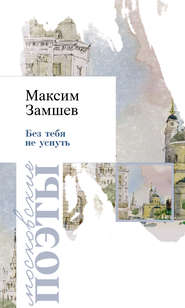По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Концертмейстер
Автор
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Арсений поднял глаза и с тихой благодарностью прижался лбом к коленке классика, а потом вопросительно уставился на деда.
Лев Семёнович оторопел от этой сцены. Таким серьёзным Арсюшку он раньше не видел.
Зачем Шостакович в тот день приносил партитуру, так и осталось неизвестным.
На следующий день Норштейн усадил внука за инструмент. Честно говоря, он никогда прежде не занимался с маленькими и довольно долго размышлял над тем, как проверить: верна ли догадка гениального соседа?
Наконец он придумал. Заранее написав на нотном листе ноты в скрипичном ключе, он поставил его на пюпитр и стал называть их Арсению. Каково же было удивление Льва Семёновича, когда мальчик без всякого раздумья не только повторил их, но и спел, демонстрируя абсолютный слух.
После этого старый Норштейн, как был в тапочках и домашней одежде, чуть не вприпрыжку пустился в нотную библиотеку Союза композиторов, которая, по счастью, находилась в соседнем подъезде. Взяв там все имеющие пособия для детей, он вернулся, застав Арсения наигрывающего что-то весьма оригинальное и музыкально-логичное, причём абсолютно поставленными, пианистическими руками, с округлой кистью и свободными плечами.
Весну и лето дед посвятил музыкальному развитию внука, тот прогрессировал очень быстро, и в сентябре его приняли в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории сразу во второй класс.
Олег и Светлана сперва крайне настороженно относились к этому, но потом прониклись и радовались успехам Арсения со свойственной родителям самозабвенностью, хоть в музыке всерьёз не разбирались и оценить перспективы сына не могли.
На премьеру 13-й симфонии Шостакович пригласил всё семейство Норштейнов, включая маленького Арсения. Тот, несмотря на все страхи родителей, просидел до самого конца с горящими глазами. Понял ли Арсений тогда что-то в этой трагической и в то же время фарсовой музыке? Лев Семёнович был уверен, что гениальное сочинение проникло в малыша, несмотря на то что тот ничего ещё не знал ни о Бабьем Яре, ни о заканчивающейся оттепели, ни об авторе стихов Евтушенко, ни о советской власти. На той премьере многим запомнилось, как вальяжно кланялся поэт и как композитор выходил на поклон неохотно, нервно, похоже не очень довольный то ли исполнением, то ли собой, то ли ещё чем-то.
Симфонию вскоре запретили к исполнению.
Димка предполагал, что дедушка после семейного разрыва не прекратил общение с его отцом и его братом. Почему? Да потому. Не мог дед пойти на поводу у матери! Мог только изобразить, что подчинился. Дед не из тех, кто бросает близких на произвол судьбы. Но вот почему он не посвящает в это его? Спрашивать Дима у деда об этом опасался. А вдруг он ошибается, и дед порвал с папой и Арсением так же бесповоротно, как и мать?
Скучал ли сам Димка по отцу и брату? Конечно. Но их образы постепенно стирала обида на то, что они не предприняли ни одной попытки увидеться с ним! И слёзы, которые он частенько, особенно в первые годы после потери, проливал по ночам, высыхали от своей бесполезности.
Новые обстоятельства поглощали старые. Из мальчика он вырастал в юношу. И учился терпеть. И забывать то, что угнетало.
Он дорожил материнской любовью. После того как семья раскололась, вся она досталась ему одному. Когда Светлана Львовна неоправданно сердилась, он не обижался, а страдал. Страдал и за себя, и за неё.
Ни бывшему мужу, ни родителям, ни детям не могло прийти в голову, из-за чего Светлана Храповицкая превратилась в ту, о ком вежливые люди говорят «своеобразный человек», а те, кто поразвязней, кличут за глаза «сумасшедшей грымзой».
С ума она сошла из-за любви. Любви, которая настигла её в сорок лет, преобразила и изменила всё не только внутри, но и вокруг, будто кто-то наконец настроил до этого сбитый фокус её взгляда на себя, на людей, на события, на прошлое и настоящее.
Света вышла из второго декрета значительно раньше положенного. Уговорил её на это Олег. Видя, что супруга начинает закисать от ежедневных забот и всё чаще вспоминает своих коллег по кафедре, он организовал что-то вроде семейного совета, на котором все пришли к выводу: Димке нужно брать няню. Это позволяло Светлане вернуться к преподаванию и не чувствовать себя только домохозяйкой. Молодая мать сперва колебалась, не уверенная в правильности такого поворота, но потом всё же дала себя уговорить. Ей действительно было тяжеловато замыкаться лишь на домашних заботах, её натура противилась такой участи, доля её осложнялась ещё и тем, что Мария Владимировна в силу возраста не могла уже помогать ей с Димкой так много, как с Арсением. Работу же свою она любила, успехи и неудачи студентов воспринимала как личные, а с некоторыми, особенно увлекающимися английским языком и английской литературой, выстраивала доверительные отношения. Ей очень по вкусу было объяснять что-то с кафедры, подходить к доске, писать на ней мелом по-английски, ловить взгляды учеников и постепенно завладевать их юным горячим вниманием.
Часов она взяла немного, чтобы резко не отрывать от себя ребёнка. Первое время она опасалась, что Диме не пойдёт на пользу то, что мать перестала находиться рядом каждую секунду, но няня, по имени Дуняша, крепко знала своё дело. Да и по характеру оказалась покладистой. Со всем семейством Норштейнов-Храповицких она быстро свыклась, регулярно потчуя обитателей квартиры в доме на Огарёва захватывающими и, как водится у простых людей, наполовину выдуманными историями из своей жизни. Чаще всего в них фигурировали её многочисленные родственники, проживающие в подмосковной деревне Шепиловке. Из этой благословенной местности Норштейнам-Храповицким летом и осенью перепадали свежие, с огорода, помидоры и огурцы, а круглый год племянник Дуняши Сергей привозил на продажу свежайший домашнего приготовления творог. К этому продукту быстро пристрастились многие соседи по дому, Сергей же превратился в весьма популярную на Огарёва личность. Стоил творог по советским временам не так уж дорого, три рубля за килограмм, и семьи советских композиторов вполне могли позволить себе такие траты.
За Димкой няня смотрела внимательно и любовно, но не сюсюкала сверх меры. Она быстро научила его самостоятельно есть и одеваться. В выходные дни малыш звал Дуняшу и плакал оттого, что её нет.
1948
Никогда ещё Лапшин не выходил от Людмилы в таком скверном настроении. То, что он услышал от неё, перевернуло в нём всё и в этом безвозвратном повороте оставило его беззащитным.
А надо было что-то предпринимать. Найти в себе силы отказаться от морфия? Но тогда боль его разрушит быстрее наркотика. Согласиться на операцию? Но он, как считает его врач, вряд ли её выдержит. Ждать, что всё разрешится само собой? Ждать конца?
День иссякал, придавая извилистым старомосковским перспективам романтическую загадочность. Лапшин шёл по Борисоглебскому к Арбату. Курил. С каждым шагом и с каждой затяжкой всё больше укрепляясь в том, что между рискованной операцией, наркозависимостью и смертью выбрать ничего невозможно. Но операция избавит Люду от необходимости красть для него морфий. И это единственное, что имеет значение.
Он сегодня покинул сборище раньше всех, чтобы не показать, как он смятён. Шнеерович просил его подождать, но Лапшин сослался на то, что к нему вечером должна зайти хозяйка комнаты за очередной квартплатой и ему надо успеть на электричку. Неприятно, что соврал, да ещё так неуклюже, но ему сейчас не до досужих разговоров.
Сенин-Волгин сегодня вёл себя слишком экзальтированно даже для себя. Удивляло, что Шнеерович нашёл в нём почти союзника. Они наперебой острили, не стесняясь выбирать предметом своих острот присутствующих. Досталось всем. Но если Платова и Прозорова видели в этих шутках часть своеобразного флирта и игриво отвечали на выпады, то Света Норштейн явно злилась, хмурилась и готова была взорваться в любую секунду. Танечка Кулисова по обыкновению помалкивала, а Людочка то и дело куда-то выходила. Надо сказать, что этими отлучками хозяйки Сенин-Волгин пользовался, чтобы позлословить и в её адрес.
Кончилось всё тем, что Света выбежала, наговорив резкостей Людочке, которая, по её мнению, пускает к себе в дом хамов. Сенин-Волгин помчался за ней на лестницу и вскоре вернул её обществу, видимо извинившись или чем-то ещё смягчив девичье сердце. Людочка и Света публично примирились, обнялись и расцеловались.
Тут Лапшин понял, что надо уходить. Теснящая его тоска понуждала к тому, чтобы куда-то идти, идти, идти, пока не наметится какая-нибудь цель.
Он пересёк Собачью площадку и добрался до Арбата, почти не осознавая пути.
По улице, протяжно гудя, катили автомобили. Милиционер в белой форме и с жезлом смотрелся весьма нелепо. Лапшин слышал, что на этой улице много энкавэдэшников в штатском. Шнеерович как-то уверял его, что они ошиваются там днём и ночью и их легко узнать по одинаковым шарфам. Но Лапшин, сколько ни ходил по Арбату, никогда не мог их различить. Шарфы у всех были разные.
Шуринька остановился недалеко от проезжей части. Одна машина проехала очень близко от него, едва не сбив. Он успел увидеть в окне знакомый профиль. Резко изогнутая бровь. Узкий прищуренный глаз, нос с достаточно крупной ноздрёй, пышные усы, чуть стёсанный подбородок. Сталин? Нет. Так не бывает. Но всё же он испугался и отшатнулся в сторону. Чуть не упал. Потом засеменил прочь. Шум машин болезненно скрежетал в ушах.
Это был Сталин! Точно Сталин!
Теперь он в этом не сомневался.
Трубниковский переулок, куда он свернул, сейчас показался ему уютней Борисоглебского.
Он заглянул в какой-то двор, посидел на лавочке, выкурив подряд две папиросы, потом вскочил и быстро зашагал куда-то во тьму.
Может быть, вернуться к Людочке? Сказать, что опоздал на электричку? Попроситься на ночлег?
Кто-то словно вытягивал из него силы, а он не мог сопротивляться этому…
По Трубниковскому дошёл до улицы Воровского. Потом снова углубился в дворовую сеть со свалками, лавками, арками, сквозными проходами, жителями, о чём-то хлопочущими, шмыгавшими туда-сюда кошками. Опять оказался на Собачьей площадке. Почувствовал, что совершенно обессилел. Еле-еле дотянул себя до неработающего фонтана. Сел на одну из двух поднимающихся к фонтану ступенек, лицом к одноэтажному длинному фасаду с распахнутыми окнами. Привалился спиной к чугунному основанию. Впитывал разнообразные звуки успокаивающегося весеннего города. И тут услышал такое, что едва его не убило.
Два голоса. Женский и мужской. Мужской – тихий, но очень твёрдый. Незнакомый. Женский как будто извиняющийся. Торопливый. Докладывающий. Узнаваемый. Он слышал его совсем недавно. Правда, голос звучал совсем по-другому. Что это? Шуринька плотнее вжался спиной в прохладный камень. Хотелось исчезнуть в этот же миг и никогда больше не появляться на свет.
– Что конкретно Сенин-Волгин говорил о товарище Сталине? – вопрошал мужчина.
– Он конкретно не говорил про товарища Сталина. – Женщина, видимо, задумалась, чтобы дальше формулировать чётче. – Но советскую власть называл блевотиной. Это так. Но ведь все мы знаем, что советская власть и товарищ Сталин – это почти одно и то же.
– Заткнись! Твоё мнение о природе советской власти нас не интересует. А еврейчики-музыканты что? Поддакивали?
– Лапшин больше молчал. Хотя видно, что солидарен с Сениным-Волгиным, а Шнеерович открыто поддерживал.
– Ага… И так на каждом этом сборище ведутся антисоветские разговоры?
– Да. Без них не обходится…
– Прозорова, разумеется, из зачинщиц.
– Да. Она всегда улыбается, когда Сенин-Волгин проклинает советскую власть.
– А Запад они, разумеется, хвалят.
– Шнеерович сегодня распалялся, что в СССР запрещают какого-то Берга.
– Ясно. Еврей еврея не обидит.
Слышно было, как мужчина чиркнул спичкой. Потом до притихшего и боящегося вздохнуть Лапшина дошёл едкий запах папиросы.
Лев Семёнович оторопел от этой сцены. Таким серьёзным Арсюшку он раньше не видел.
Зачем Шостакович в тот день приносил партитуру, так и осталось неизвестным.
На следующий день Норштейн усадил внука за инструмент. Честно говоря, он никогда прежде не занимался с маленькими и довольно долго размышлял над тем, как проверить: верна ли догадка гениального соседа?
Наконец он придумал. Заранее написав на нотном листе ноты в скрипичном ключе, он поставил его на пюпитр и стал называть их Арсению. Каково же было удивление Льва Семёновича, когда мальчик без всякого раздумья не только повторил их, но и спел, демонстрируя абсолютный слух.
После этого старый Норштейн, как был в тапочках и домашней одежде, чуть не вприпрыжку пустился в нотную библиотеку Союза композиторов, которая, по счастью, находилась в соседнем подъезде. Взяв там все имеющие пособия для детей, он вернулся, застав Арсения наигрывающего что-то весьма оригинальное и музыкально-логичное, причём абсолютно поставленными, пианистическими руками, с округлой кистью и свободными плечами.
Весну и лето дед посвятил музыкальному развитию внука, тот прогрессировал очень быстро, и в сентябре его приняли в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории сразу во второй класс.
Олег и Светлана сперва крайне настороженно относились к этому, но потом прониклись и радовались успехам Арсения со свойственной родителям самозабвенностью, хоть в музыке всерьёз не разбирались и оценить перспективы сына не могли.
На премьеру 13-й симфонии Шостакович пригласил всё семейство Норштейнов, включая маленького Арсения. Тот, несмотря на все страхи родителей, просидел до самого конца с горящими глазами. Понял ли Арсений тогда что-то в этой трагической и в то же время фарсовой музыке? Лев Семёнович был уверен, что гениальное сочинение проникло в малыша, несмотря на то что тот ничего ещё не знал ни о Бабьем Яре, ни о заканчивающейся оттепели, ни об авторе стихов Евтушенко, ни о советской власти. На той премьере многим запомнилось, как вальяжно кланялся поэт и как композитор выходил на поклон неохотно, нервно, похоже не очень довольный то ли исполнением, то ли собой, то ли ещё чем-то.
Симфонию вскоре запретили к исполнению.
Димка предполагал, что дедушка после семейного разрыва не прекратил общение с его отцом и его братом. Почему? Да потому. Не мог дед пойти на поводу у матери! Мог только изобразить, что подчинился. Дед не из тех, кто бросает близких на произвол судьбы. Но вот почему он не посвящает в это его? Спрашивать Дима у деда об этом опасался. А вдруг он ошибается, и дед порвал с папой и Арсением так же бесповоротно, как и мать?
Скучал ли сам Димка по отцу и брату? Конечно. Но их образы постепенно стирала обида на то, что они не предприняли ни одной попытки увидеться с ним! И слёзы, которые он частенько, особенно в первые годы после потери, проливал по ночам, высыхали от своей бесполезности.
Новые обстоятельства поглощали старые. Из мальчика он вырастал в юношу. И учился терпеть. И забывать то, что угнетало.
Он дорожил материнской любовью. После того как семья раскололась, вся она досталась ему одному. Когда Светлана Львовна неоправданно сердилась, он не обижался, а страдал. Страдал и за себя, и за неё.
Ни бывшему мужу, ни родителям, ни детям не могло прийти в голову, из-за чего Светлана Храповицкая превратилась в ту, о ком вежливые люди говорят «своеобразный человек», а те, кто поразвязней, кличут за глаза «сумасшедшей грымзой».
С ума она сошла из-за любви. Любви, которая настигла её в сорок лет, преобразила и изменила всё не только внутри, но и вокруг, будто кто-то наконец настроил до этого сбитый фокус её взгляда на себя, на людей, на события, на прошлое и настоящее.
Света вышла из второго декрета значительно раньше положенного. Уговорил её на это Олег. Видя, что супруга начинает закисать от ежедневных забот и всё чаще вспоминает своих коллег по кафедре, он организовал что-то вроде семейного совета, на котором все пришли к выводу: Димке нужно брать няню. Это позволяло Светлане вернуться к преподаванию и не чувствовать себя только домохозяйкой. Молодая мать сперва колебалась, не уверенная в правильности такого поворота, но потом всё же дала себя уговорить. Ей действительно было тяжеловато замыкаться лишь на домашних заботах, её натура противилась такой участи, доля её осложнялась ещё и тем, что Мария Владимировна в силу возраста не могла уже помогать ей с Димкой так много, как с Арсением. Работу же свою она любила, успехи и неудачи студентов воспринимала как личные, а с некоторыми, особенно увлекающимися английским языком и английской литературой, выстраивала доверительные отношения. Ей очень по вкусу было объяснять что-то с кафедры, подходить к доске, писать на ней мелом по-английски, ловить взгляды учеников и постепенно завладевать их юным горячим вниманием.
Часов она взяла немного, чтобы резко не отрывать от себя ребёнка. Первое время она опасалась, что Диме не пойдёт на пользу то, что мать перестала находиться рядом каждую секунду, но няня, по имени Дуняша, крепко знала своё дело. Да и по характеру оказалась покладистой. Со всем семейством Норштейнов-Храповицких она быстро свыклась, регулярно потчуя обитателей квартиры в доме на Огарёва захватывающими и, как водится у простых людей, наполовину выдуманными историями из своей жизни. Чаще всего в них фигурировали её многочисленные родственники, проживающие в подмосковной деревне Шепиловке. Из этой благословенной местности Норштейнам-Храповицким летом и осенью перепадали свежие, с огорода, помидоры и огурцы, а круглый год племянник Дуняши Сергей привозил на продажу свежайший домашнего приготовления творог. К этому продукту быстро пристрастились многие соседи по дому, Сергей же превратился в весьма популярную на Огарёва личность. Стоил творог по советским временам не так уж дорого, три рубля за килограмм, и семьи советских композиторов вполне могли позволить себе такие траты.
За Димкой няня смотрела внимательно и любовно, но не сюсюкала сверх меры. Она быстро научила его самостоятельно есть и одеваться. В выходные дни малыш звал Дуняшу и плакал оттого, что её нет.
1948
Никогда ещё Лапшин не выходил от Людмилы в таком скверном настроении. То, что он услышал от неё, перевернуло в нём всё и в этом безвозвратном повороте оставило его беззащитным.
А надо было что-то предпринимать. Найти в себе силы отказаться от морфия? Но тогда боль его разрушит быстрее наркотика. Согласиться на операцию? Но он, как считает его врач, вряд ли её выдержит. Ждать, что всё разрешится само собой? Ждать конца?
День иссякал, придавая извилистым старомосковским перспективам романтическую загадочность. Лапшин шёл по Борисоглебскому к Арбату. Курил. С каждым шагом и с каждой затяжкой всё больше укрепляясь в том, что между рискованной операцией, наркозависимостью и смертью выбрать ничего невозможно. Но операция избавит Люду от необходимости красть для него морфий. И это единственное, что имеет значение.
Он сегодня покинул сборище раньше всех, чтобы не показать, как он смятён. Шнеерович просил его подождать, но Лапшин сослался на то, что к нему вечером должна зайти хозяйка комнаты за очередной квартплатой и ему надо успеть на электричку. Неприятно, что соврал, да ещё так неуклюже, но ему сейчас не до досужих разговоров.
Сенин-Волгин сегодня вёл себя слишком экзальтированно даже для себя. Удивляло, что Шнеерович нашёл в нём почти союзника. Они наперебой острили, не стесняясь выбирать предметом своих острот присутствующих. Досталось всем. Но если Платова и Прозорова видели в этих шутках часть своеобразного флирта и игриво отвечали на выпады, то Света Норштейн явно злилась, хмурилась и готова была взорваться в любую секунду. Танечка Кулисова по обыкновению помалкивала, а Людочка то и дело куда-то выходила. Надо сказать, что этими отлучками хозяйки Сенин-Волгин пользовался, чтобы позлословить и в её адрес.
Кончилось всё тем, что Света выбежала, наговорив резкостей Людочке, которая, по её мнению, пускает к себе в дом хамов. Сенин-Волгин помчался за ней на лестницу и вскоре вернул её обществу, видимо извинившись или чем-то ещё смягчив девичье сердце. Людочка и Света публично примирились, обнялись и расцеловались.
Тут Лапшин понял, что надо уходить. Теснящая его тоска понуждала к тому, чтобы куда-то идти, идти, идти, пока не наметится какая-нибудь цель.
Он пересёк Собачью площадку и добрался до Арбата, почти не осознавая пути.
По улице, протяжно гудя, катили автомобили. Милиционер в белой форме и с жезлом смотрелся весьма нелепо. Лапшин слышал, что на этой улице много энкавэдэшников в штатском. Шнеерович как-то уверял его, что они ошиваются там днём и ночью и их легко узнать по одинаковым шарфам. Но Лапшин, сколько ни ходил по Арбату, никогда не мог их различить. Шарфы у всех были разные.
Шуринька остановился недалеко от проезжей части. Одна машина проехала очень близко от него, едва не сбив. Он успел увидеть в окне знакомый профиль. Резко изогнутая бровь. Узкий прищуренный глаз, нос с достаточно крупной ноздрёй, пышные усы, чуть стёсанный подбородок. Сталин? Нет. Так не бывает. Но всё же он испугался и отшатнулся в сторону. Чуть не упал. Потом засеменил прочь. Шум машин болезненно скрежетал в ушах.
Это был Сталин! Точно Сталин!
Теперь он в этом не сомневался.
Трубниковский переулок, куда он свернул, сейчас показался ему уютней Борисоглебского.
Он заглянул в какой-то двор, посидел на лавочке, выкурив подряд две папиросы, потом вскочил и быстро зашагал куда-то во тьму.
Может быть, вернуться к Людочке? Сказать, что опоздал на электричку? Попроситься на ночлег?
Кто-то словно вытягивал из него силы, а он не мог сопротивляться этому…
По Трубниковскому дошёл до улицы Воровского. Потом снова углубился в дворовую сеть со свалками, лавками, арками, сквозными проходами, жителями, о чём-то хлопочущими, шмыгавшими туда-сюда кошками. Опять оказался на Собачьей площадке. Почувствовал, что совершенно обессилел. Еле-еле дотянул себя до неработающего фонтана. Сел на одну из двух поднимающихся к фонтану ступенек, лицом к одноэтажному длинному фасаду с распахнутыми окнами. Привалился спиной к чугунному основанию. Впитывал разнообразные звуки успокаивающегося весеннего города. И тут услышал такое, что едва его не убило.
Два голоса. Женский и мужской. Мужской – тихий, но очень твёрдый. Незнакомый. Женский как будто извиняющийся. Торопливый. Докладывающий. Узнаваемый. Он слышал его совсем недавно. Правда, голос звучал совсем по-другому. Что это? Шуринька плотнее вжался спиной в прохладный камень. Хотелось исчезнуть в этот же миг и никогда больше не появляться на свет.
– Что конкретно Сенин-Волгин говорил о товарище Сталине? – вопрошал мужчина.
– Он конкретно не говорил про товарища Сталина. – Женщина, видимо, задумалась, чтобы дальше формулировать чётче. – Но советскую власть называл блевотиной. Это так. Но ведь все мы знаем, что советская власть и товарищ Сталин – это почти одно и то же.
– Заткнись! Твоё мнение о природе советской власти нас не интересует. А еврейчики-музыканты что? Поддакивали?
– Лапшин больше молчал. Хотя видно, что солидарен с Сениным-Волгиным, а Шнеерович открыто поддерживал.
– Ага… И так на каждом этом сборище ведутся антисоветские разговоры?
– Да. Без них не обходится…
– Прозорова, разумеется, из зачинщиц.
– Да. Она всегда улыбается, когда Сенин-Волгин проклинает советскую власть.
– А Запад они, разумеется, хвалят.
– Шнеерович сегодня распалялся, что в СССР запрещают какого-то Берга.
– Ясно. Еврей еврея не обидит.
Слышно было, как мужчина чиркнул спичкой. Потом до притихшего и боящегося вздохнуть Лапшина дошёл едкий запах папиросы.