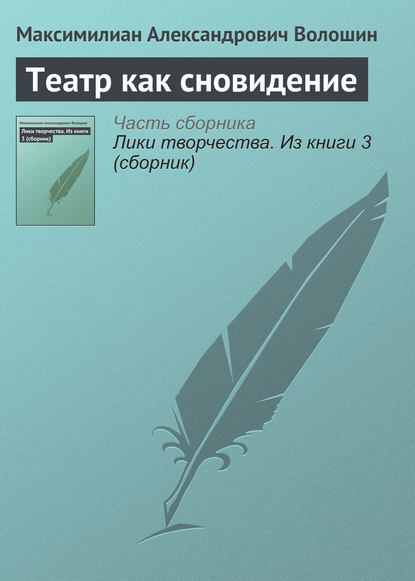По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Театр как сновидение
Год написания книги
1910
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Театр как сновидение
Максимилиан Александрович Волошин
«…Поэтическое уподобление становится прекрасным (т. е. из метафоры превращается в символ) только тогда, когда оно приближается к научной истине. А научная истина бывает убедительна только в том случае, если она доведена в своем обобщении до высоты поэтического символа…»
Максимилиан Волошин
Театр как сновидение
Когда в «Происхождении трагедии» мы читаем, что театр – это аполлиническое сновидение, наброшенное, как покров, на мир дионисийского безумия, мы воспринимаем эти прекрасные образы как истину, но истину отвлеченную и от нас бесконечно далекую. Мы относим ее ко временам Эсхила и Софокла, но вовсе не соединяем с реальностями современного театра и не стараемся осветить этими образами нашу ежедневную действительность.
Между тем каждая идея, каждое отвлеченное положение, какие бы отдаленные моменты в развитии нашего духа они ни объясняли, становятся для нас живыми и действительными лишь тогда, когда мы находим для них место внутри нас самих и они начинают проникать всю обыденность, нас окружающую.
Наше «я» – свиток. Наше тело – летопись мира. Оно есть точный отпечаток всей нашей эволюции во вселенной. Искрой сознания освещены только самые последние строки этого гигантского свитка. Если бы мы могли развернуть его, то в извилинах нашего мозга раскрылась бы вся человеческая история; если бы мы смогли пройти сознанием по всем разветвлениям нашей нервной системы, то мы бы узнали изнутри историю царства позвоночных, в кровеносной системе угадали бы волны, течения, приливы и отливы древнего океана – праотца жизни, в строении костного нашего остова нам открылась бы вся геологическая история земного шара, а еще глубже, в плодотворящих и оплодотворяемых клеточках, мы открыли бы кружения солнца и пляски вселенных. И надо сказать, что все факты внешнего опыта и исследования становятся для нас творческими и живыми лишь тогда, когда мы, хотя бы смутно, нащупаем их место в этой летописи внутреннего «я».
Поэтическое уподобление становится прекрасным (т. е. из метафоры превращается в символ) только тогда, когда оно приближается к научной истине. А научная истина бывает убедительна только в том случае, если она доведена в своем обобщении до высоты поэтического символа.
Вот пример. Одно из древних, но не иссякших и не утомленных поэтических уподоблений сравнивает сердце с океаном и любит говорить о приливах и отливах любви. Научная теория Рене Кентона, исходя от исследований о температуре крови и морских глубин, процентного содержания соли в крови и в морской воде, устанавливает, что океан был первой жизненной средой, в которой развивались организмы, а что кровь, текущая в жилах живых существ, есть тот океан, в котором они возникали и который пронесли внутри себя вместе с его средней температурой и химическим составом. Научное исследование и поэтическое уподобление сливаются в одном символе. Объективно установленный факт мы нащупываем в глубине свитка нашего «я».
Наше дневное сознание – только малая искра, мерцающая над вселенными мрака.
Но при вопросе о сновидении нам вовсе не необходимо спускаться в самые глубины мрака. Сновидения приходят вовсе не из глубин мрака. Они в точном смысле составляют его кайму, они живут на той черте, которой день отделяется от тьмы. Искра нашего дневного сознания была подготовлена и рождена великим океаном ночного сознания.
С этим океаном мы не расстаемся. Мы носим его в себе, мы ежедневно возвращаемся в него, как в материнское чрево, и, погружаясь в глубокий сон без видений, проникаемся его токами, отдаемся силе его течений и обновляемся в его глубине, причащаясь в эти моменты довременному сну камней, минералов, вод, растений.
Сновидения возникают лишь на границе этого темного и внеобразного мира. Их можно сравнить с предрассветными сумерками, сквозь которые светит заря близкого дня. Образы, в них возникающие, смутны, расплывчаты и громадны. Нельзя определить, что они: теневые ли отсветы великой ночи с ее сознанию неведомою жизнью или призрачные светы и отблески дневной, солнечной действительности. Мир внешней реальности брезжит сквозь эти обманные многоликие сумерки, которые сочетают в себе свойства сознания со свойствами подсознательной ночи.
Гавелок Элис в книге «Мир сновидений» говорит: «Засыпая, мы возвращаемся в наше темное и древнее обиталище, в жилище теней, не освещенное ни одним лучом, непосредственно упавшим из внешнего мира, из пробужденного сознания. Нас уносит по его залам вне всякого личного и сознательного воленья. Мы скитаемся по шатким и пыльным лестницам; нас чаруют странные звуки и запахи, поднимающиеся из таинственных закоулков. Мы проходим мимо призраков, ускользающих от нашего сознания. И лишь в тот момент, когда мы снова возвращаемся к дневному миру, лишь на одно мгновенье луч солнца просачивается в темное жилище, прежде чем двери успеют закрыться за нами. Быстрым взглядом мы успеваем охватить те комнаты, по которым мы блуждали, и у нас остаются лишь отрывочные воспоминания о жизни, которую мы там вели, – но вскоре все растворяется и стирается дневным светом, и если несколько часов спустя мы захотим припомнить снова те странные сцены, которых мы были свидетелями, то случается обычно, что от ночных видений осталось только несколько туманных обрывков, соединить которые мы больше не в состоянии».
Ночная природа сна подчеркивается еще тем. что мы никогда не видим во сне солнца, как утверждает психолог Анри Диркс. Сновидения развертываются в мире темном и при свете иного сознания, различного от нашего, по законам иной логики.
Это состояние, знакомое каждому в моменты засыпания и в моменты возвращения из сна, – в известную эпоху, при самом начале всемирной истории, было нормальным состоянием всего человечества. Мир действительности, брезживший перед глазами человека, осознавался в сказках и мифах. Сказки и мифы были в точном смысле сновидением пробуждавшегося человечества. Утверждения Лукреция, что боги впервые явились людям в формах сонного видения, относятся именно к этому состоянию-человеческой души.
Ницше называет человека обезьяной, которая сошла с ума; несомненно, что в то время, когда в тусклом сознании древнего зверя стали выявляться образы богов и титанические олицетворения сил природы, – это было безумием. Зверь сошел с ума. Наша научная мысль по отношению к древнему звериному сознанию есть именно то систематическое безумие, о котором упоминается в «Гамлете».
Безумие человеко-зверя отличалось буйством и пароксизмами исступления. Древнее зверство, потревоженное в душе человека, выражалось убийствами и человеческими жертвоприношениями.
Древнезллинский мир захватывает один край человечества, еще не вышедшего из этой стадии развития. Сумасшедшую обезьяну лечили музыкой и вином. Ей помогали окончательно сойти с ума.
В мистериях Диониса кровь претворялась в вино, как позже в таинствах Христа вино обратно было превращено в кровь в ознаменование новой ступени божественного безумия.
Сочетание вина и музыки в дионисических оргиях порождало танец. Оргии были очистительными обрядами, во время которых неистовое возбуждение зверя, требовавшее убийства и крови, выявлялось посредством музыкального ритма в пляску.
Между кровавым безумием зверя в человеке и миром сновидений существуют какие-то тайные связи. Тацит свидетельствует о том, что Нерон в первый раз в жизни увидал сон после убийства Агриппины. Только матереубийство смогло растворить «роговые ворота» сновидения в его тяжелой животной душе.
С другой стороны, такая же связь существует между стихийными судорогами народов и танцем. Безысходные ужасы тысячного года находят себе предохранительный клапан в повальных плясках, охватывавших целые города и области, а кровожадные исступления террора разрешаются в безумии танцев Термидора.
И сновидение и танец представляются явлениями если не равносильными, то психологически возникающими в пределах одной и той же душевной области.
Чтобы определить пределы и смысл этой области, надо обратиться к воспоминаниям личной нашей жизни. В период детства мы переживаем все историческое развитие человечества. Наши детские игры во всем их многообразии повторяют основные душевные состояния дионисического момента истории.
Мы видим те же кровожадные инстинкты: игры в войну, в разбойников, в охоту, в убийства. То же исступление души, ищущее себе разрешение в усиленном физическом движении, которое, будучи пронизано ритмом, становится пляской. Та же способность мгновенного претворения реальностей жизни в формы сновидения. Тот же брезжущий рассвет между ночью и днем души.
Между творчеством детских игр и тем состоянием духа, в котором человечество создавало сказки и мифы, – нет никакой разницы. Игра – это одна из форм сновидения, не больше. Это сновидение с открытыми глазами. Танец – действенное, мускульное выражение его.
В игре творческий ночной океан широкими струями вливается в узкую и скупую область дневного сознания.
Тот, кто сохраняет среди реальностей дневной обыденной жизни неиссякающую способность их преображения в таинствах игры, кто непрестанно оплодотворяет жизнь токами ночного, вселенски-творческого сознания, тот, кто длит свой детский период игр, – тот становится художником, преобразителем жизни.
Анализируя детские игры, мы найдем три различных типа:
I. Тип игры действенной, буйной, выражающейся в движениях, соответствующей оргическому состоянию дионисийских таинств. Опьянение воли.
II. Тип спокойного созерцания проходящих картин. Сновидение в теснейшем смысле. Греза с открытыми глазами, как при чтении захватывающего романа. Опьянение чувств.
III. Тип творческого преображения мира. Характер этих игр очень точно передан в книге Кеннет Греем «Золотой возраст» и рассказах Аделаиды Герцык «То, чего не было». У человека взрослого этот тип игры становится поэтическим творчеством. Это опьянение сознания.
Обратимся теперь к театру.
Первое, что поражает при знакомстве с театральной техникой, это то, что логика реальной действительности и логика театра не совпадают.
Обычный реальный предмет, перенесенный на сцену, там перестает быть правдоподобным и убедительным; между тем как театральные знаки, совершенно условные и примитивные, становятся сквозь призму театра и убедительными и правдоподобными.
Марсель Швоб, рассказывая о репетициях «Анабеллы и Джиованни» Вебстера, ставившейся в его переводе, передает следующий любопытный случай. В одной из самых патетических сцен этой жестокой трагедии герой выходит на сцену, неся на конце меча сердце своей возлюбленной, только что им убитой. Желая придать этой сцене больше реализма, режиссер попробовал на генеральной репетиции нацепить на меч настоящее, анатомическое сердце только что зарезанного барана. Этот комочек синего мяса не произвел никакого впечатления на зрителей. Он был непонятен – нереален. Когда же на спектакле герой выбежал на сцену, неся на мече большое сердце, вырезанное из красной фланели в форме червонного туза, то зрители затрепетали от ужаса.
Почему настоящее сердце, перенесенное на сцену, нереально, а сердце, вырезанное из красной фланели в форме червонного туза, дает весь трепет реальности?
Очевидно потому, что театр имеет дело не с реальностями вещей, а только с их знаками. «Все преходящее – только знак».
В японском классическом театре, когда героиня пронзает себе грудь – она при этом выпускает из руки развертывающуюся алую ленту. Это кровь. Такой же знак, как фланелевое сердце. Для чистой театральной эмоции этого вполне достаточно. Ясно, что здесь скрыт точный закон. Реальны только знаки вещей, а внешние формы их не имеют в этом мире значения. Всякие превращения внешних форм ни в театре, ни в сновидении не вызывают удивления.
Это сразу освещает смысл театральных декораций. Они должны быть не изображениями, а знаками действительности.
Можно предположить поэтому, что тенденция к упрощению декораций в принципе как будто имеет смысл. Однако фактически это не так. Те упрощенные декорации, которые нам приходилось видеть за последние годы, вовсе не вызывали в нас особенно сильной и чистой иллюзии. Они были любопытны, красивы, но развлекали глаз своею непривычностью. Убедительности в них не было.
Между тем из самых обыкновенных театральных декораций зритель бессознательно отбирает те элементы, которые ему необходимы.
Мне вспоминается такой пример театральной иллюзии. Одна пьеса Жана Лоррена, шедшая в театре «Grand guignol» и сделанная мастерски в духе этого театра, начиналась так:
Поздний час ночи. Отдельный кабинет большого ресторана. Двое молодых людей расплачиваются по счету и уходят. В то время как один, лицом к зрителю, говорит с лакеем, второй стоит спиной и разглядывает себя в зеркало. Лицо этого юноши замечательно, и вокруг этого лица сплетаются все дальнейшие ужасы пьесы. Передавая впоследствии содержание пьесы, я рассказывал о мастерском приеме, которым это лицо впервые было показано зрителю отраженным в зеркале. Это отражение сразу делало его особенным и сосредоточивало на нем внимание. Но здесь я поймал себя, внезапно сообразив, что зеркало, висящее в глубине сцены прямо против зрителей, могло быть только нарисованным и отразить лица ни в коем случае не могло.
Аналогичный случай передавал мне Ф. Ф. Коммиссаржевский. Во время постановки «Фауста» возник вопрос: как изобразить пуделя. Настоящий пудель, приглашенный для этой цели, вел себя прекрасно и делал по проводке те круги, которые было нужно. Но при его появлении в публике неизбежно срывался смех: живой пудель был нарушением сценических реальностей. Он вносил логику другого мира. Он был неубедителен. Тогда пудель был устранен совершенно, Фауст обращался со своими словами к пустому, темному пространству. После первого представления один из зрителей говорил, что особенно жуткими показались ему прыжки пуделя в темноте.
Декорации на сцене совершенно аналогичны игрушкам в детской. Игрушки мертвы, пока ребенок не начинал играть в них.
Существуют игрушки очень удобные для игры, а в другие играть совершенно невозможно. Нельзя играть в игрушки сложные и механические – каждый ребенок это знает и инстинктивно спешит их сломать, т. е. разложить на основные элементы, способные к преображению в таинствах игры. Нельзя играть в игрушки слишком дорогие, роскошные и натуральные. Для игры «матрешка» всегда удобнее, чем парижская кукла в человеческий рост. Нельзя играть в игрушки, являющиеся произведениями искусства. (Хотя, конечно, и произведение искусства может быть превращено в игрушку, но при этом оно лишается всего ореола искусства и становится просто куском камня, фарфора, дерева).
У детских игрушек есть своя генеалогия: они происходят по прямой линии от тех первобытных фетишей, которые вырезывал и которым поклонялся древний человек. Игрушки – современники того самого периода человеческой истории, который в своих играх переживают дети. Матрешки, паяцы, медведи, деревянные лошадки – это древнейшие боги человечества. Поэтому между ними и детской душой существует живая и реальная связь. Искусство не может подменить ее. Оно строит из признаков и свойств, а игра имеет дело только с сущностями. Мир может быть создан только из «ничего» (но: «В твоем ничто надеюсь все найти я»).
Упрощенные декорации «Карамазовых» и «Идиота», креговские ширмы в «Гамлете» – это то же самое, что стилизованные новейшие немецкие игрушки или игрушки Бартрама по отношению к настоящему «Мужику и медведю». В них нет тайной связи с глубочайшими областями воспоминаний. Они возможны. Но в них нет необходимости.
Максимилиан Александрович Волошин
«…Поэтическое уподобление становится прекрасным (т. е. из метафоры превращается в символ) только тогда, когда оно приближается к научной истине. А научная истина бывает убедительна только в том случае, если она доведена в своем обобщении до высоты поэтического символа…»
Максимилиан Волошин
Театр как сновидение
Когда в «Происхождении трагедии» мы читаем, что театр – это аполлиническое сновидение, наброшенное, как покров, на мир дионисийского безумия, мы воспринимаем эти прекрасные образы как истину, но истину отвлеченную и от нас бесконечно далекую. Мы относим ее ко временам Эсхила и Софокла, но вовсе не соединяем с реальностями современного театра и не стараемся осветить этими образами нашу ежедневную действительность.
Между тем каждая идея, каждое отвлеченное положение, какие бы отдаленные моменты в развитии нашего духа они ни объясняли, становятся для нас живыми и действительными лишь тогда, когда мы находим для них место внутри нас самих и они начинают проникать всю обыденность, нас окружающую.
Наше «я» – свиток. Наше тело – летопись мира. Оно есть точный отпечаток всей нашей эволюции во вселенной. Искрой сознания освещены только самые последние строки этого гигантского свитка. Если бы мы могли развернуть его, то в извилинах нашего мозга раскрылась бы вся человеческая история; если бы мы смогли пройти сознанием по всем разветвлениям нашей нервной системы, то мы бы узнали изнутри историю царства позвоночных, в кровеносной системе угадали бы волны, течения, приливы и отливы древнего океана – праотца жизни, в строении костного нашего остова нам открылась бы вся геологическая история земного шара, а еще глубже, в плодотворящих и оплодотворяемых клеточках, мы открыли бы кружения солнца и пляски вселенных. И надо сказать, что все факты внешнего опыта и исследования становятся для нас творческими и живыми лишь тогда, когда мы, хотя бы смутно, нащупаем их место в этой летописи внутреннего «я».
Поэтическое уподобление становится прекрасным (т. е. из метафоры превращается в символ) только тогда, когда оно приближается к научной истине. А научная истина бывает убедительна только в том случае, если она доведена в своем обобщении до высоты поэтического символа.
Вот пример. Одно из древних, но не иссякших и не утомленных поэтических уподоблений сравнивает сердце с океаном и любит говорить о приливах и отливах любви. Научная теория Рене Кентона, исходя от исследований о температуре крови и морских глубин, процентного содержания соли в крови и в морской воде, устанавливает, что океан был первой жизненной средой, в которой развивались организмы, а что кровь, текущая в жилах живых существ, есть тот океан, в котором они возникали и который пронесли внутри себя вместе с его средней температурой и химическим составом. Научное исследование и поэтическое уподобление сливаются в одном символе. Объективно установленный факт мы нащупываем в глубине свитка нашего «я».
Наше дневное сознание – только малая искра, мерцающая над вселенными мрака.
Но при вопросе о сновидении нам вовсе не необходимо спускаться в самые глубины мрака. Сновидения приходят вовсе не из глубин мрака. Они в точном смысле составляют его кайму, они живут на той черте, которой день отделяется от тьмы. Искра нашего дневного сознания была подготовлена и рождена великим океаном ночного сознания.
С этим океаном мы не расстаемся. Мы носим его в себе, мы ежедневно возвращаемся в него, как в материнское чрево, и, погружаясь в глубокий сон без видений, проникаемся его токами, отдаемся силе его течений и обновляемся в его глубине, причащаясь в эти моменты довременному сну камней, минералов, вод, растений.
Сновидения возникают лишь на границе этого темного и внеобразного мира. Их можно сравнить с предрассветными сумерками, сквозь которые светит заря близкого дня. Образы, в них возникающие, смутны, расплывчаты и громадны. Нельзя определить, что они: теневые ли отсветы великой ночи с ее сознанию неведомою жизнью или призрачные светы и отблески дневной, солнечной действительности. Мир внешней реальности брезжит сквозь эти обманные многоликие сумерки, которые сочетают в себе свойства сознания со свойствами подсознательной ночи.
Гавелок Элис в книге «Мир сновидений» говорит: «Засыпая, мы возвращаемся в наше темное и древнее обиталище, в жилище теней, не освещенное ни одним лучом, непосредственно упавшим из внешнего мира, из пробужденного сознания. Нас уносит по его залам вне всякого личного и сознательного воленья. Мы скитаемся по шатким и пыльным лестницам; нас чаруют странные звуки и запахи, поднимающиеся из таинственных закоулков. Мы проходим мимо призраков, ускользающих от нашего сознания. И лишь в тот момент, когда мы снова возвращаемся к дневному миру, лишь на одно мгновенье луч солнца просачивается в темное жилище, прежде чем двери успеют закрыться за нами. Быстрым взглядом мы успеваем охватить те комнаты, по которым мы блуждали, и у нас остаются лишь отрывочные воспоминания о жизни, которую мы там вели, – но вскоре все растворяется и стирается дневным светом, и если несколько часов спустя мы захотим припомнить снова те странные сцены, которых мы были свидетелями, то случается обычно, что от ночных видений осталось только несколько туманных обрывков, соединить которые мы больше не в состоянии».
Ночная природа сна подчеркивается еще тем. что мы никогда не видим во сне солнца, как утверждает психолог Анри Диркс. Сновидения развертываются в мире темном и при свете иного сознания, различного от нашего, по законам иной логики.
Это состояние, знакомое каждому в моменты засыпания и в моменты возвращения из сна, – в известную эпоху, при самом начале всемирной истории, было нормальным состоянием всего человечества. Мир действительности, брезживший перед глазами человека, осознавался в сказках и мифах. Сказки и мифы были в точном смысле сновидением пробуждавшегося человечества. Утверждения Лукреция, что боги впервые явились людям в формах сонного видения, относятся именно к этому состоянию-человеческой души.
Ницше называет человека обезьяной, которая сошла с ума; несомненно, что в то время, когда в тусклом сознании древнего зверя стали выявляться образы богов и титанические олицетворения сил природы, – это было безумием. Зверь сошел с ума. Наша научная мысль по отношению к древнему звериному сознанию есть именно то систематическое безумие, о котором упоминается в «Гамлете».
Безумие человеко-зверя отличалось буйством и пароксизмами исступления. Древнее зверство, потревоженное в душе человека, выражалось убийствами и человеческими жертвоприношениями.
Древнезллинский мир захватывает один край человечества, еще не вышедшего из этой стадии развития. Сумасшедшую обезьяну лечили музыкой и вином. Ей помогали окончательно сойти с ума.
В мистериях Диониса кровь претворялась в вино, как позже в таинствах Христа вино обратно было превращено в кровь в ознаменование новой ступени божественного безумия.
Сочетание вина и музыки в дионисических оргиях порождало танец. Оргии были очистительными обрядами, во время которых неистовое возбуждение зверя, требовавшее убийства и крови, выявлялось посредством музыкального ритма в пляску.
Между кровавым безумием зверя в человеке и миром сновидений существуют какие-то тайные связи. Тацит свидетельствует о том, что Нерон в первый раз в жизни увидал сон после убийства Агриппины. Только матереубийство смогло растворить «роговые ворота» сновидения в его тяжелой животной душе.
С другой стороны, такая же связь существует между стихийными судорогами народов и танцем. Безысходные ужасы тысячного года находят себе предохранительный клапан в повальных плясках, охватывавших целые города и области, а кровожадные исступления террора разрешаются в безумии танцев Термидора.
И сновидение и танец представляются явлениями если не равносильными, то психологически возникающими в пределах одной и той же душевной области.
Чтобы определить пределы и смысл этой области, надо обратиться к воспоминаниям личной нашей жизни. В период детства мы переживаем все историческое развитие человечества. Наши детские игры во всем их многообразии повторяют основные душевные состояния дионисического момента истории.
Мы видим те же кровожадные инстинкты: игры в войну, в разбойников, в охоту, в убийства. То же исступление души, ищущее себе разрешение в усиленном физическом движении, которое, будучи пронизано ритмом, становится пляской. Та же способность мгновенного претворения реальностей жизни в формы сновидения. Тот же брезжущий рассвет между ночью и днем души.
Между творчеством детских игр и тем состоянием духа, в котором человечество создавало сказки и мифы, – нет никакой разницы. Игра – это одна из форм сновидения, не больше. Это сновидение с открытыми глазами. Танец – действенное, мускульное выражение его.
В игре творческий ночной океан широкими струями вливается в узкую и скупую область дневного сознания.
Тот, кто сохраняет среди реальностей дневной обыденной жизни неиссякающую способность их преображения в таинствах игры, кто непрестанно оплодотворяет жизнь токами ночного, вселенски-творческого сознания, тот, кто длит свой детский период игр, – тот становится художником, преобразителем жизни.
Анализируя детские игры, мы найдем три различных типа:
I. Тип игры действенной, буйной, выражающейся в движениях, соответствующей оргическому состоянию дионисийских таинств. Опьянение воли.
II. Тип спокойного созерцания проходящих картин. Сновидение в теснейшем смысле. Греза с открытыми глазами, как при чтении захватывающего романа. Опьянение чувств.
III. Тип творческого преображения мира. Характер этих игр очень точно передан в книге Кеннет Греем «Золотой возраст» и рассказах Аделаиды Герцык «То, чего не было». У человека взрослого этот тип игры становится поэтическим творчеством. Это опьянение сознания.
Обратимся теперь к театру.
Первое, что поражает при знакомстве с театральной техникой, это то, что логика реальной действительности и логика театра не совпадают.
Обычный реальный предмет, перенесенный на сцену, там перестает быть правдоподобным и убедительным; между тем как театральные знаки, совершенно условные и примитивные, становятся сквозь призму театра и убедительными и правдоподобными.
Марсель Швоб, рассказывая о репетициях «Анабеллы и Джиованни» Вебстера, ставившейся в его переводе, передает следующий любопытный случай. В одной из самых патетических сцен этой жестокой трагедии герой выходит на сцену, неся на конце меча сердце своей возлюбленной, только что им убитой. Желая придать этой сцене больше реализма, режиссер попробовал на генеральной репетиции нацепить на меч настоящее, анатомическое сердце только что зарезанного барана. Этот комочек синего мяса не произвел никакого впечатления на зрителей. Он был непонятен – нереален. Когда же на спектакле герой выбежал на сцену, неся на мече большое сердце, вырезанное из красной фланели в форме червонного туза, то зрители затрепетали от ужаса.
Почему настоящее сердце, перенесенное на сцену, нереально, а сердце, вырезанное из красной фланели в форме червонного туза, дает весь трепет реальности?
Очевидно потому, что театр имеет дело не с реальностями вещей, а только с их знаками. «Все преходящее – только знак».
В японском классическом театре, когда героиня пронзает себе грудь – она при этом выпускает из руки развертывающуюся алую ленту. Это кровь. Такой же знак, как фланелевое сердце. Для чистой театральной эмоции этого вполне достаточно. Ясно, что здесь скрыт точный закон. Реальны только знаки вещей, а внешние формы их не имеют в этом мире значения. Всякие превращения внешних форм ни в театре, ни в сновидении не вызывают удивления.
Это сразу освещает смысл театральных декораций. Они должны быть не изображениями, а знаками действительности.
Можно предположить поэтому, что тенденция к упрощению декораций в принципе как будто имеет смысл. Однако фактически это не так. Те упрощенные декорации, которые нам приходилось видеть за последние годы, вовсе не вызывали в нас особенно сильной и чистой иллюзии. Они были любопытны, красивы, но развлекали глаз своею непривычностью. Убедительности в них не было.
Между тем из самых обыкновенных театральных декораций зритель бессознательно отбирает те элементы, которые ему необходимы.
Мне вспоминается такой пример театральной иллюзии. Одна пьеса Жана Лоррена, шедшая в театре «Grand guignol» и сделанная мастерски в духе этого театра, начиналась так:
Поздний час ночи. Отдельный кабинет большого ресторана. Двое молодых людей расплачиваются по счету и уходят. В то время как один, лицом к зрителю, говорит с лакеем, второй стоит спиной и разглядывает себя в зеркало. Лицо этого юноши замечательно, и вокруг этого лица сплетаются все дальнейшие ужасы пьесы. Передавая впоследствии содержание пьесы, я рассказывал о мастерском приеме, которым это лицо впервые было показано зрителю отраженным в зеркале. Это отражение сразу делало его особенным и сосредоточивало на нем внимание. Но здесь я поймал себя, внезапно сообразив, что зеркало, висящее в глубине сцены прямо против зрителей, могло быть только нарисованным и отразить лица ни в коем случае не могло.
Аналогичный случай передавал мне Ф. Ф. Коммиссаржевский. Во время постановки «Фауста» возник вопрос: как изобразить пуделя. Настоящий пудель, приглашенный для этой цели, вел себя прекрасно и делал по проводке те круги, которые было нужно. Но при его появлении в публике неизбежно срывался смех: живой пудель был нарушением сценических реальностей. Он вносил логику другого мира. Он был неубедителен. Тогда пудель был устранен совершенно, Фауст обращался со своими словами к пустому, темному пространству. После первого представления один из зрителей говорил, что особенно жуткими показались ему прыжки пуделя в темноте.
Декорации на сцене совершенно аналогичны игрушкам в детской. Игрушки мертвы, пока ребенок не начинал играть в них.
Существуют игрушки очень удобные для игры, а в другие играть совершенно невозможно. Нельзя играть в игрушки сложные и механические – каждый ребенок это знает и инстинктивно спешит их сломать, т. е. разложить на основные элементы, способные к преображению в таинствах игры. Нельзя играть в игрушки слишком дорогие, роскошные и натуральные. Для игры «матрешка» всегда удобнее, чем парижская кукла в человеческий рост. Нельзя играть в игрушки, являющиеся произведениями искусства. (Хотя, конечно, и произведение искусства может быть превращено в игрушку, но при этом оно лишается всего ореола искусства и становится просто куском камня, фарфора, дерева).
У детских игрушек есть своя генеалогия: они происходят по прямой линии от тех первобытных фетишей, которые вырезывал и которым поклонялся древний человек. Игрушки – современники того самого периода человеческой истории, который в своих играх переживают дети. Матрешки, паяцы, медведи, деревянные лошадки – это древнейшие боги человечества. Поэтому между ними и детской душой существует живая и реальная связь. Искусство не может подменить ее. Оно строит из признаков и свойств, а игра имеет дело только с сущностями. Мир может быть создан только из «ничего» (но: «В твоем ничто надеюсь все найти я»).
Упрощенные декорации «Карамазовых» и «Идиота», креговские ширмы в «Гамлете» – это то же самое, что стилизованные новейшие немецкие игрушки или игрушки Бартрама по отношению к настоящему «Мужику и медведю». В них нет тайной связи с глубочайшими областями воспоминаний. Они возможны. Но в них нет необходимости.