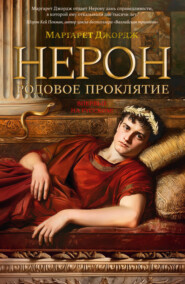По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нерон. Блеск накануне тьмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это было за пределами моего понимания.
– Но как такое может быть?
– Ты думаешь, что артист не может быть христианином? – вопросом на вопрос ответил Геспер. – И что же, по-твоему, может этому помешать?
– Они… Они – враги государства!
– Неужели ты веришь в эту ложь? Говорю тебе: мы не враги государства.
– Тогда почему люди постоянно об этом твердят? – продолжал давить я.
– Ты, как никто другой, знаешь, что людская молва и истина – это далеко не одно и то же. В конце концов, люди говорят, что это ты поджег Рим. Правда ли это? Нет.
Тигеллин махнул стражникам:
– Уведите его!
– В моем дворце я отдаю приказы, – остановил его я. И снова повернулся к Гесперу. – Я знаю, что ты не участвовал в поджоге Рима. Тебе не обязательно присоединяться к остальным. Ты невиновен.
– Если не присоединюсь к ним, тогда действительно стану виновным. Но не в том, что разжигал пожар, а в том, что оставил Иисуса. А я скорее умру, чем пойду на такое. Так что пусть меня арестуют.
У меня голова шла кругом. Бред какой-то! Почему он так стремится навстречу своей гибели?
– Если ты признал, что, не открывшись как христианин, оставишь Иисуса, почему не заговорил раньше? Почему молчал все это время?
Ну вот теперь я его поймал! Он определенно хотел жить.
Геспер улыбнулся. А я вспомнил Павла – у того была такая же отрешенная улыбка. Что они за люди? Что в них вселилось? Что ими движет?
– Иисус говорил нам: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой»[73 - Евангелие от Матфея 10: 23.]. Гонения и травля – это не то, к чему мы стремимся. Но когда гонители нас настигают, мы должны сохранять твердость.
– Не понимаю, что это значит?
– Мы без страха признаем – кто мы и за кем следуем. Иисус говорил: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным»[74 - Евангелие от Матфея 10: 32, 10: 33.]. Так что вот он я, и уповать должен как минимум на трех человек.
– Ты издеваешься?! – взревел Тигеллин. – Оскорбляешь его империум?[75 - Империум изначально означал абсолютную власть.]
– Заткнись! – рявкнул я на Тигеллина, потому что этот разговор его никак не касался, и снова обратился к Гесперу: – Если ты не можешь поступить иначе, что ж, скорблю по тебе.
– Не стоит печалиться о моей судьбе, – проговорил Геспер. – Печалься о своей и о судьбе Рима.
Теперь у меня действительно не осталось выбора.
– Уведите его, – приказал я стражникам.
Уходя, Геспер обернулся и, посмотрев на меня, произнес:
– Со всей душой оставляю тебе мой барбитон. Ни к чему ждать, пока доставят новый с Коса.
XVII
В тот вечер я отослал всех, кроме бдительных стражников. Барбитон лежал на полу, там, где его оставил Геспер. Мне он напоминал опасного зверя, который изготовился броситься на меня в прыжке. Я поднял его и поставил в угол.
Наступит ли время, когда его сладостные звуки снова будут ласкать мой слух, или он так и останется ядовитым напоминанием об ужасном событии?
Христиане… Какая странная секта – смесь жестокости с идеализмом и жажда принять мученичество.
Но исповедующие другие религии также совершают варварские обряды: жрецы культа Аттиса кастрировали себя, а друиды практиковали человеческие жертвоприношения. Одни только римляне – цивилизованные. Наша государственная религия гуманна, не требует душевных исканий, жертв и боли; наши формальные обряды совершаются при дневном свете у всех на глазах, и мы по праву можем ими гордиться.
Я оглядел комнату. Это было мое убежище, никто не мог сюда войти без моего особого позволения. С отвращением посмотрел на гору свитков, которые оставил на моем столе Тигеллин. Мне не хотелось их вскрывать: я и без того знал, что в них написано. Без конкретики, естественно, но в общих чертах легко мог представить.
Под стенами дворца продолжали бродить и орать толпы людей. Пришлось затворить ставни и так перекрыть доступ теплому бризу позднего лета, а в комнате все еще было жарко.
Потом я налил себе из кувшина «напиток Нерона» – к этому времени он уже стал теплым, но я не позвал раба, чтобы он принес свежий, охлажденный льдом с горных вершин.
Начавшийся ночью кошмар – я сейчас о Великом пожаре – все никак не заканчивался. С того дня, когда огонь охватил Большой цирк, прошло уже два месяца, и теперь огонь же положит этому конец. Именно огонь покарает поджигателей и снова озарит ночь. А потом будут вознесены мольбы всем богам.
Пусть это закончится! Пусть закончится!
Покинув кабинет, перешел в соседнюю комнату и улегся на кровать. Поппея не раз превращала ее в поляну для чувственных игр, но в эту ночь я решил спать один.
Чтобы заглушить доносившиеся снаружи крики, натянул на голову простыни и в этом укрытии сначала задремал, хоть и не переставал ворочаться, а потом погрузился в сон настолько яркий и живой, что, возможно, это был и не сон вовсе, а самое настоящее видение. Но кто из нас способен отличить одно от другого?
* * *
Передо мной возник Аполлон. И он был не в свободной тунике кифареда, а в образе бога Сола. Он правил своей запряженной крылатыми конями золотой колесницей и остановился прямо передо мной.
– Забирайся, – сказал Аполлон и протянул мне золотую руку.
И я, хоть и знал, какая участь постигла Фаэтона, когда тот забрался на колесницу отца, не посмел ослушаться.
И вот я стою на гибком полу золотой колесницы и смотрю на спины четырех коней, из-под копыт которых по плавной дуге уходит в небо солнечная тропа.
Бог блестит и сверкает, исходящее от него ослепительное сияние не опаляет, а лишь согревает мне кожу.
– Посмотри на меня, – говорит он.
Мне страшно – ведь того, кто посмеет посмотреть на бога, ждет смерть.
– Я сказал, посмотри на меня, – повторяет Аполлон в образе Сола.
Против воли подчиняюсь и вижу, что у него мое лицо.
– Да, я – это ты, а ты – это я, – говорит Аполлон. – Я выбрал тебя еще при рождении – коснулся лучами, когда ты только появился на свет. Я передал тебе свой дар кифареда, теперь передаю свою колесницу. Правь ею.
И вкладывает мне в руки вожжи. Его лошади норовистые и строптивые, – я понимаю это сразу, как только они начинают свой бег.
– Сдерживай их, – советует Аполлон. – Правь ими, они должны почувствовать, что ты сильнее.
– Но как такое может быть?
– Ты думаешь, что артист не может быть христианином? – вопросом на вопрос ответил Геспер. – И что же, по-твоему, может этому помешать?
– Они… Они – враги государства!
– Неужели ты веришь в эту ложь? Говорю тебе: мы не враги государства.
– Тогда почему люди постоянно об этом твердят? – продолжал давить я.
– Ты, как никто другой, знаешь, что людская молва и истина – это далеко не одно и то же. В конце концов, люди говорят, что это ты поджег Рим. Правда ли это? Нет.
Тигеллин махнул стражникам:
– Уведите его!
– В моем дворце я отдаю приказы, – остановил его я. И снова повернулся к Гесперу. – Я знаю, что ты не участвовал в поджоге Рима. Тебе не обязательно присоединяться к остальным. Ты невиновен.
– Если не присоединюсь к ним, тогда действительно стану виновным. Но не в том, что разжигал пожар, а в том, что оставил Иисуса. А я скорее умру, чем пойду на такое. Так что пусть меня арестуют.
У меня голова шла кругом. Бред какой-то! Почему он так стремится навстречу своей гибели?
– Если ты признал, что, не открывшись как христианин, оставишь Иисуса, почему не заговорил раньше? Почему молчал все это время?
Ну вот теперь я его поймал! Он определенно хотел жить.
Геспер улыбнулся. А я вспомнил Павла – у того была такая же отрешенная улыбка. Что они за люди? Что в них вселилось? Что ими движет?
– Иисус говорил нам: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой»[73 - Евангелие от Матфея 10: 23.]. Гонения и травля – это не то, к чему мы стремимся. Но когда гонители нас настигают, мы должны сохранять твердость.
– Не понимаю, что это значит?
– Мы без страха признаем – кто мы и за кем следуем. Иисус говорил: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным»[74 - Евангелие от Матфея 10: 32, 10: 33.]. Так что вот он я, и уповать должен как минимум на трех человек.
– Ты издеваешься?! – взревел Тигеллин. – Оскорбляешь его империум?[75 - Империум изначально означал абсолютную власть.]
– Заткнись! – рявкнул я на Тигеллина, потому что этот разговор его никак не касался, и снова обратился к Гесперу: – Если ты не можешь поступить иначе, что ж, скорблю по тебе.
– Не стоит печалиться о моей судьбе, – проговорил Геспер. – Печалься о своей и о судьбе Рима.
Теперь у меня действительно не осталось выбора.
– Уведите его, – приказал я стражникам.
Уходя, Геспер обернулся и, посмотрев на меня, произнес:
– Со всей душой оставляю тебе мой барбитон. Ни к чему ждать, пока доставят новый с Коса.
XVII
В тот вечер я отослал всех, кроме бдительных стражников. Барбитон лежал на полу, там, где его оставил Геспер. Мне он напоминал опасного зверя, который изготовился броситься на меня в прыжке. Я поднял его и поставил в угол.
Наступит ли время, когда его сладостные звуки снова будут ласкать мой слух, или он так и останется ядовитым напоминанием об ужасном событии?
Христиане… Какая странная секта – смесь жестокости с идеализмом и жажда принять мученичество.
Но исповедующие другие религии также совершают варварские обряды: жрецы культа Аттиса кастрировали себя, а друиды практиковали человеческие жертвоприношения. Одни только римляне – цивилизованные. Наша государственная религия гуманна, не требует душевных исканий, жертв и боли; наши формальные обряды совершаются при дневном свете у всех на глазах, и мы по праву можем ими гордиться.
Я оглядел комнату. Это было мое убежище, никто не мог сюда войти без моего особого позволения. С отвращением посмотрел на гору свитков, которые оставил на моем столе Тигеллин. Мне не хотелось их вскрывать: я и без того знал, что в них написано. Без конкретики, естественно, но в общих чертах легко мог представить.
Под стенами дворца продолжали бродить и орать толпы людей. Пришлось затворить ставни и так перекрыть доступ теплому бризу позднего лета, а в комнате все еще было жарко.
Потом я налил себе из кувшина «напиток Нерона» – к этому времени он уже стал теплым, но я не позвал раба, чтобы он принес свежий, охлажденный льдом с горных вершин.
Начавшийся ночью кошмар – я сейчас о Великом пожаре – все никак не заканчивался. С того дня, когда огонь охватил Большой цирк, прошло уже два месяца, и теперь огонь же положит этому конец. Именно огонь покарает поджигателей и снова озарит ночь. А потом будут вознесены мольбы всем богам.
Пусть это закончится! Пусть закончится!
Покинув кабинет, перешел в соседнюю комнату и улегся на кровать. Поппея не раз превращала ее в поляну для чувственных игр, но в эту ночь я решил спать один.
Чтобы заглушить доносившиеся снаружи крики, натянул на голову простыни и в этом укрытии сначала задремал, хоть и не переставал ворочаться, а потом погрузился в сон настолько яркий и живой, что, возможно, это был и не сон вовсе, а самое настоящее видение. Но кто из нас способен отличить одно от другого?
* * *
Передо мной возник Аполлон. И он был не в свободной тунике кифареда, а в образе бога Сола. Он правил своей запряженной крылатыми конями золотой колесницей и остановился прямо передо мной.
– Забирайся, – сказал Аполлон и протянул мне золотую руку.
И я, хоть и знал, какая участь постигла Фаэтона, когда тот забрался на колесницу отца, не посмел ослушаться.
И вот я стою на гибком полу золотой колесницы и смотрю на спины четырех коней, из-под копыт которых по плавной дуге уходит в небо солнечная тропа.
Бог блестит и сверкает, исходящее от него ослепительное сияние не опаляет, а лишь согревает мне кожу.
– Посмотри на меня, – говорит он.
Мне страшно – ведь того, кто посмеет посмотреть на бога, ждет смерть.
– Я сказал, посмотри на меня, – повторяет Аполлон в образе Сола.
Против воли подчиняюсь и вижу, что у него мое лицо.
– Да, я – это ты, а ты – это я, – говорит Аполлон. – Я выбрал тебя еще при рождении – коснулся лучами, когда ты только появился на свет. Я передал тебе свой дар кифареда, теперь передаю свою колесницу. Правь ею.
И вкладывает мне в руки вожжи. Его лошади норовистые и строптивые, – я понимаю это сразу, как только они начинают свой бег.
– Сдерживай их, – советует Аполлон. – Правь ими, они должны почувствовать, что ты сильнее.