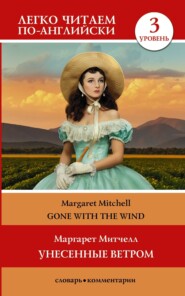По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Унесенные ветром. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Значит, это Джонас Уилкерсон. Вот кому понадобилась «Тара» – Джонасу и Эмми. Задумали ловкий ход: чтобы поквитаться за прошлое пренебрежение, они поселятся в доме, где их не уважали. У Скарлетт все нервы натянулись и загудели, как в тот день, когда она наставила пистолетное дуло прямо в бородатую физиономию янки и выстрелила. Хотела бы она иметь сейчас в руках этот пистолет.
Скарлетт дала себе волю:
– Да я снесу этот дом, разберу по камешку, я спалю здесь все, а землю засыплю солью! Знайте: не бывать вашим ногам на этом пороге! Вон отсюда, сказано вам, вон!
Джонас посверкал на нее глазами, начал было что-то еще говорить, но пошел-таки к своей коляске. Он уселся рядом с хнычущей женой и тронул лошадь. Когда они отъезжали, Скарлетт ощутила сильнейшее желание плюнуть им вслед. И плюнула. Она понимала, что это вульгарная, ребяческая выходка, но ей стало легче. Жалко, не сделала этого раньше, пусть бы они увидели.
Эти чертовы обожатели негров посмели явиться сюда и насмехаться над нею и над ее собственностью. Эта ищейка и не собиралась вовсе предлагать ей цену за «Тару». Он просто использовал предлог, чтобы сюда приехать вместе с Эмми и покрасоваться своим богатством. Прохвосты грязные, вшивота, белая шантрапа – и они еще похваляются, что будут жить в «Таре»!
Затем вдруг ее объял ужас, и весь запал улетучился. Божьи подштанники! А ведь они и правда явятся сюда и будут здесь жить. И ничего нельзя сделать. Как ты помешаешь им купить «Тару»? И ведь все войдет в налоговую сумму – каждое зеркало, кровать и столик, и прекрасная мебель Эллен – полированное красное дерево и резное розовое. И все мелочи, безделушки, для нее бесценные, хотя и стало их теперь гораздо меньше, после налетов янки. И еще серебро Робийяров!
– Не видать им ничего! – сказала она себе со всей силой своей страстной натуры. – Пусть даже мне придется выжечь здесь все дотла. Ногам Эмми нет места там, где ходила мама!
Она закрыла дверь и прислонилась к ней. Скарлетт стало очень страшно. Страшнее даже, чем в тот день, когда в доме орудовали солдаты Шермана. Тогда самое худшее, чего можно было опасаться, – это что янки сожгут «Тару» и ее заодно. Но нынешнее положение еще хуже: эти низкие, вульгарные твари поселятся в доме и начнут хвастать своим приятелям, таким же низким и вульгарным, как ловко они турнули гордых О’Хара. Чего доброго, они и негров сюда приведут, за стол посадят, спать уложат. Уилл рассказывал, что Джонас поднимает пыль столбом, хочет всем показать, что он на равных с неграми, ест с ними, ходит к ним домой в гости, катает в своей коляске и обнимает за плечи. Ну, это уж было бы окончательное надругательство над «Тарой». Когда она подумала, что и такое тоже возможно, сердце принялось тяжело бухать, она едва не задохнулась.
Скарлетт старалась сосредоточиться на своей проблеме, старалась изобрести какой-нибудь способ выбраться из ловушки, но всякий раз, когда ей удавалось собраться с мыслями, ее сотрясал очередной взрыв бешенства и страха. Выход должен быть, наверняка есть где-то человек, у которого можно занять денег. Деньги же не могут просто так взять и испариться. Не ветром же их сдуло. Значит, у кого-то они есть. Кто-то должен иметь деньги. И тут всплыли смехом сказанные слова Эшли: «Единственный человек, у кого сейчас есть деньги, – это Ретт Батлер».
Ретт Батлер! Она быстро прошла в гостиную и захлопнула за собой дверь. Шторы были закрыты от сквозняков, и ее обступили унылые зимние сумерки. Прекрасно. Никому и в голову не придет искать ее здесь, а ей нужно время – спокойно, без помех все обдумать. Идея, осенившая ее, была очевидна и проста – даже удивительно, почему раньше-то она до этого не додумалась.
«Я добуду деньги у Ретта. Продам ему бриллиантовые серьги. Или займу денег, а серьги оставлю в залог, пока не верну».
Облегчение было столь полным, что она почувствовала слабость. Она заплатит налог и посмеется Джонасу Уилкерсону в лицо. Но по пятам за этой счастливой мыслью шло неумолимое понимание: «Да, но деньги на налоги будут нужны не только в этом году. Так будет и на следующий год, и все годы моей жизни. И если я заплачу налог в этот раз, то они опять его поднимут, и так до тех пор, пока меня не выгонят. Если я соберу хороший урожай хлопка, они обложат его такой высокой пошлиной, что я ничего с этого иметь не буду, а то и вообще конфискуют и объявят, что хлопок принадлежит Конфедерации. Янки и наши мерзавцы – они в одной упряжке, и они меня прихватят на чем пожелают. И всю мою жизнь, пока я живу на свете, я буду опасаться, что они как-нибудь да задавят меня. И всю жизнь я буду экономить, скаредничать, драться за каждую монетку и работать, работать до самой смерти – просто так, задаром, и смотреть, как крадут мой хлопок… Занять три сотни долларов – это только дыру заткнуть. А я хочу выбраться из этого тупика, выбраться совсем, раз и навсегда. Я хочу спать спокойно и не тревожиться о том, что мне принесет завтрашний день, или следующий месяц, или следующий год».
Мысль продолжала работать, четко, как часы. Идея разрасталась, разрабатывалась в уме холодно и с логической ясностью. Скарлетт представила себе Ретта, контраст белозубой ухмылки и загорелого лица, иронию в черных глазах, ласкающих ее. Она вспомнила тот вечер в Атланте, перед концом осады: она сидела на крыльце у тети Питти, полускрытая летней тьмой, – и вновь ощутила жар его ладони на своей руке, когда он сказал: «Ни одну женщину я не хотел сильнее, чем вас, и ни одну не ждал так долго».
«Я выйду за него замуж, – спокойно подумала она. – Тогда мне вообще больше не придется беспокоиться о деньгах».
О, благословенная мысль, слаще небесного спасения – никогда не беспокоиться о деньгах, знать, что «Таре» ничто не грозит, что семья твоя сыта и одета и что не надо будет биться головой об очередную каменную стену!
Она чувствовала себя очень старой. События дня высушили в душе ее все эмоции: сначала неожиданная новость о налогах, потом Эшли, а под конец убийственная злость на Джонаса Уилкерсона. Нет, никаких чувств в ней не осталось. Если бы ее способность чувствовать не истощилась полностью, что-нибудь в ней воспротивилось бы этому плану, зародившемуся в голове: ведь она ненавидела Ретта, как никого другого в целом свете. Но она не могла чувствовать. Она могла только думать, и мысли ее были очень практичны.
«Я наговорила ему ужасные вещи той ночью, когда он бросил нас на дороге, но я смогу сделать так, что он забудет об этом, – думала она презрительно, все еще уверенная в своей власти чаровать. – Я буду сладкоречивой. Заставлю его поверить, что всегда любила его, а той ночью просто была очень напугана и расстроена. О, мужчины так покладисты, если верят тому, что им льстит… Ему и присниться не должно, в каком тяжелом положении мы оказались. Я и виду не покажу, пока не заполучу его. О, он не должен знать! Если он хотя бы заподозрит, как мы бедны, то сразу поймет, что мне нужны его деньги, а не он сам. Вообще-то у него нет способа узнать, потому что даже тете Питти неизвестно самое худшее. А после того, как я выйду за него, ему все равно придется помогать нам. Он не допустит, чтобы родные его жены умирали с голоду».
Его жена. Миссис Ретт Батлер. Что-то похожее на отвращение, глубоко спрятанное под холодной рассудочной постройкой, слабо шевельнулось, но было подавлено. Она вспомнила постыдные и противные события своего короткого медового месяца с Чарлзом, как его руки шарят по ее телу, его неумелость, непостижимый взрыв эмоций – и вот вам Уэйд Хэмптон.
«Не буду сейчас об этом думать. Это все потом, после того как стану его женой…»
После того как стану его женой. В памяти зазвенел звоночек. По спине пробежал неприятный холодок. Она опять вспомнила тот вечер на крыльце у тети Питти, как она спросила: он что, делает ей предложение? И как гадко он засмеялся и сказал: «Моя дорогая, я не из тех, кто женится».
Предположим, он до сих пор не из тех, кто женится. Предположим, несмотря на все ее прелести и подходы, он откажется жениться на ней. Предположим – о, какая ужасная мысль! – он совершенно забыл о ней и волочится за какой-то другой женщиной.
«Ни одну женщину я не хотел сильнее…»
Скарлетт сжала кулаки, так что ногти вонзились в ладони. «Если он забыл меня, я заставлю его вспомнить. Я сумею сделать так, что он снова будет желать меня».
Ну а если он не намерен жениться, но все еще хочет ее, то тоже есть способ раздобыть денег. Он же просил ее когда-то стать его любовницей.
В серых сумерках гостиной Скарлетт дала быстрый и решительный бой трем самым крепким узам, оплетающим ее душу: памяти Эллен, заповедям религии и своей любви к Эшли. Она знала, что задуманное ею должно повергнуть Эллен в ужас – даже на небесах, в далеком теплом раю, где она, несомненно, пребывает. Скарлетт знала, что прелюбодеяние – это смертный грех, и понимала, что если она любит Эшли – а она его любит, то ее план вдвое хуже проституции.
Но все эти обстоятельства рассыпались в прах перед беспощадной холодностью ее рассуждений и безвыходностью отчаяния. Эллен умерла, а смерть, может быть, дает высшее понимание. Религия запрещает блуд под угрозой адского пламени, но если церковь полагает, что Скарлетт не свернула бы горы ради спасения «Тары» и ради спасения своих родных от голодной смерти, тогда вот пусть церковь из-за этого и переживает. А она – нет. Не теперь, во всяком случае. И Эшли. Эшли ее не хочет. Вернее, хочет, и очень, его жаркие губы сказали ей это. Но он никогда не увезет ее с собой. Странно: уехать с Эшли не кажется грехом, а вот Ретт…
В тусклом полумраке зимнего дня она пришла к концу той дороги, что началась в ночь падения Атланты. Она ступила на эту дорогу избалованной, эгоистичной, неопытной девчушкой; в ней горел жар юности, кипели эмоции, и так легко было запутаться в хитросплетениях жизни! Теперь, в конце пути, от той девочки не осталось ничего. Голод и тяжелый труд, постоянное напряжение и страх, ужасы войны и ужасы Реконструкции забрали весь пыл, все цветение юности, всю мягкость и нежность. Сердцевина ее души начала покрываться чем-то твердым, наподобие раковины, и понемногу, слой за слоем, ракушка эта делалась все толще и плотнее, створки смыкались.
Но до этого самого дня два луча надежды питали Скарлетт. Она ждала, что кончится война и жизнь постепенно наладится, примет свой прежний лик. Она надеялась, что возвращение Эшли вернет жизни значение и смысл. И вот оба луча погасли. Явление Джонаса Уилкерсона на площадке перед домом заставило ее осознать, что для нее, для всего Юга война не кончится никогда. Самое кровопролитное сражение и самое жестокое возмездие еще впереди; все только начинается. А Эшли – Эшли навеки останется пленником слов, что крепче тюремных решеток.
Надежда на мир обманула ее, с Эшли она тоже потерпела крах. И все в один день. Последняя щелочка в ее раковине сомкнулась, последний слой окончательно отвердел. С ней случилось то, против чего предостерегала бабушка Фонтейн: она стала женщиной, которая увидела самое худшее, и больше ей бояться нечего. Один только голод – да призрак голода в кошмарном сне – мог напугать ее.
Теперь, когда она очерствела сердцем ко всему, что связывало ее с прошлым и с прежней Скарлетт, ею овладело странное ощущение легкости и свободы. Она сделала свой выбор, она приняла решение и, слава богу, перестала бояться. Терять ей нечего, и в уме она подготовилась к своему шагу полностью.
Если бы удалось склонить Ретта к браку, тогда все устроилось бы превосходно. А если нет – что ж, деньги у нее так и так будут. Она задумалась с безразличным любопытством: а что, собственно, ожидается от любовницы? Интересно, стал бы Ретт требовать, чтобы она жила в Атланте, как эта женщина, Уотлинг, – по слухам, он ее содержит. Если он заставит ее жить в Атланте, ему придется хорошо заплатить – достаточно, чтобы сбалансировать убытки от ее отсутствия в «Таре». Скарлетт была совершенно несведуща в скрытой стороне жизни мужчин и не имела возможности узнать, что включают в себя подобные договоренности. И еще она подумала: а вдруг появится ребенок? Вот это будет действительно ужасно.
– Я не буду сейчас об этом думать. Я подумаю об этом позже, – произнесла она спасительное заклинание и затолкала нежелательные мысли подальше, на задворки сознания, чтобы они не поколебали ее решимости.
Сегодня вечером она скажет домашним, что собирается в Атланту, постарается занять денег или заложить хозяйство, если потребуется. Вот и все, что им нужно знать, пока не наступит тот злосчастный день, когда им откроется совсем иное.
Ей предстоит действовать. От этой мысли голова сама собой поднялась кверху, а плечи оттянулись назад. Провернуть дело будет нелегко, она это понимала. Если по правилам, то это Ретту следовало просить ее благосклонности, а ей держать его в своей власти. А она оказалась просителем, причем не в том положении, чтобы диктовать условия.
«Но я не пойду к нему как проситель. Я приду как королева, дарующая милости. Он ничего не будет знать!»
Высоко держа голову, она подошла к большому трюмо и посмотрелась. В раме с осыпавшейся позолотой и потрескавшимися резными завитушками она увидела незнакомку. Оказывается, она не видела себя целый год. То есть каждое утро она бросала мимолетный взгляд в зеркало – убедиться, что лицо у нее чисто и волосы в порядке. Она всегда была слишком завалена другими делами, чтобы еще заниматься собой перед зеркалом. Но эта незнакомка… Худая женщина со впалыми щеками… Нет, ну какая же это Скарлетт О’Хара? Не может быть! У Скарлетт О’Хара было хорошенькое, кокетливое, жизнерадостное личико. А то лицо, на которое она сейчас уставилась, хорошеньким уж точно не назовешь. В нем совершенно не было той незабываемой прелести. Бледное, без кровинки, напряженное лицо, черные брови, резко контрастируя с белой кожей, устремляются ввысь, подобно крыльям вспугнутой птицы. В узких, чуть вкось поставленных зеленых глазах застыло загнанное выражение.
– Я недостаточно хороша, чтобы заполучить его, – прошептала она, и отчаяние вновь накрыло ее. – Я тощая, худющая, я же страшно тощая!
Она похлопала себя по щекам и наткнулась на выступающие кости скул. Это навело ее на мысль проинспектировать свой бюст. Ну вот, и груди стали совсем маленькие, почти как у Мелани. Надо бы присборить лиф, чтобы хоть на вид было побольше. А она ведь всегда презирала девчонок за такие ухищрения. Оборочки! Да что там оборочки, а платье? Она посмотрела вниз, на юбку, широко растянув фалды меж рук. Сплошные заплатки! А Ретту нравились женщины хорошо одетые, модные. Она вспомнила с тоской вздымающееся волнами зеленое платье, которое носила, как только вышла из траура. К этому платью она надевала зеленую шляпку с пером, ту, что Ретт привез ей в подарок. Она вспомнила его комплименты и одобрительный взгляд. А еще она вспомнила – со злостью и острой завистью – красное платье из шотландки, красные сапожки с кисточками и красную шапочку блинчиком на Эмми Слэттери. Все это было кричаще-яркое, но новое и модное и притягивало глаз, естественно. Ох, до чего же ей хочется притягивать глаз! Особенно глаз Ретта Батлера. Если он увидит ее в этом старье, он поймет: в «Таре» что-то не так. Нельзя, чтобы он это понял.
Нет, ну какой надо быть дурой, чтобы подумать, что она может поехать в Атланту и заполучить его, потому что он когда-то домогался ее, – это она-то, с этой вот сухой шеей, с глазами голодной кошки и в ношеном-переношеном платье! Если она не способна была вытянуть из него предложение, находясь в расцвете своей красоты и чудесно одеваясь, то теперь-то на что можно рассчитывать, когда она попросту уродлива и одета абы как? Если истории тети Питти правдивы, то он, должно быть, самый богатый человек в Атланте и, вероятно, пользуется бешеным успехом у красивых женщин, порядочных и дурных. «Ну, что ж, – сказала она себе угрюмо, – зато у меня есть нечто такое, чего у большинства красивых женщин не бывает. У меня есть голова на плечах, и если она что-то задумала, то так тому и быть. Только бы мне платье, одно приличное платье…»
Но в «Таре» не было приличного платья. Ни одного. И даже такого, которое не перелицевали и не подштопали хотя бы раз.
«Такие вот дела», – печалилась она, безутешно уперев глаза в пол. Перед глазами был бархатный, цвета мха ковер Эллен, теперь уже вытертый, чем-то заляпанный и местами совсем облысевший от бесчисленных солдат, проводивших на нем свои дни и ночи. Вид его подействовал на Скарлетт самым гнетущим образом, потому что ясно показывал, что вся «Тара» такая же изношенная и потертая, как она сама. Сгустившиеся потемки в комнате тоже стали давить на нее. Она подошла к окну, отдернула шторы, подняла раму, отстегнула щеколду и распахнула ставни, впуская в комнату последний свет зимнего заката. Потом закрыла окно и, прислонясь щекой к зеленому бархату портьеры, посмотрела на лужайку, на блеклое пастбище и дальше – на темную купу кедров у семейного кладбища. Бархат приятно и нежно щекотал лицо, и она блаженно, как кошка, потерлась об него… Замерла. Отстранилась. И уставилась на портьеры.
Минутой позже она уже тащила по полу тяжелый столик с мраморной столешницей; его заржавевшие колесики протестующе скрипели. Она подкатила столик к окну, подоткнула юбки, забралась на него и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до массивного карниза. Снять его не удавалось – не хватало роста, и она дернула, так резко и нетерпеливо, что гвозди выскочили из дерева, а шторы, карниз и все остальное рухнуло на пол с громким стуком.
Как по волшебству, дверь гостиной тут же отворилась, и возникла Мамми, каждой морщинкой своего широкого черного лица выражая страстное любопытство и глубочайшую подозрительность. Она очень неодобрительно оглядела Скарлетт, которая в этот момент еще стояла на столе, подняв юбки выше колен, и готовилась спрыгнуть на пол. Радостное возбуждение и предвкушение триумфа, переполнявшие Скарлетт, почему-то очень расстроили Мамми.
– Зачем это вам портьеры мисс Эллен? – потребовала она отчета.
– А зачем это тебе подслушивать под дверью? – весело спросила Скарлетт, ловко спрыгивая на пол и принимаясь собирать полотнища тяжелого пыльного бархата.
– Мне нет нужды подслушивать, – парировала Мамми, настраиваясь на поединок. – А вам нет дела до портьер мисс Эллен. Ишь чего удумали – выдергивать карниз из стены и кидать все на пол, в пыль. Мисс Эллен очень дорожила этими портьерами, и я не думаю, что вам позволительно обращаться с ними подобным образом.
Скарлетт обратила на нее зеленые свои глазищи, сверкающие буйным весельем, как у маленькой проказницы из прежних времен, по которым часто вздыхала Мамми.
– Сбегай скоренько на чердак и достань мою коробку с выкройками, – кричала Скарлетт, легонько подталкивая Мамми к дверям. – У меня будет новое платье!
Мамми разрывалась между негодованием по поводу самой идеи, что ее двести фунтов живого веса должны скоренько куда-то сбегать, тем более на чердак, и проблеском страшного подозрения. С неожиданной живостью она выхватила у Скарлетт полотнища гардин и прижала их, как святыню, к своей монументальной, обширной груди.
– Не видать вам портьер, мисс Эллен, если вы рассчитываете из них сшить себе новое платье. Нет и нет, пока я жива.