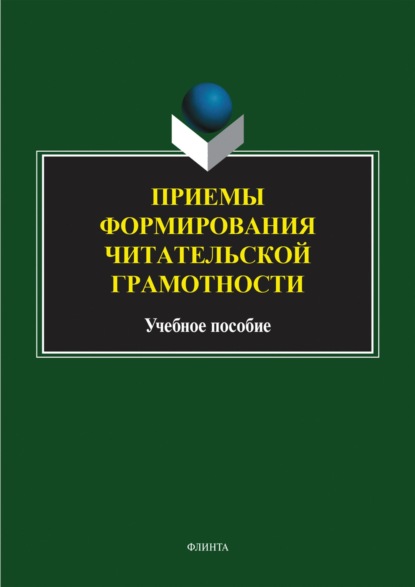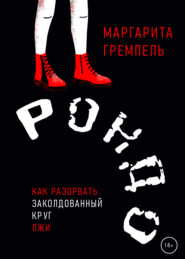По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зинаида. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дед Калач тут присел, ниже стал, будто съёжился и напрягся, как сгруппировался, словно перекличку в тюрьме вспомнил или на фронте после вражеской атаки, чтобы живых посчитать. И затаился. Ему уже было много лет, лицо – как большая пышка, перевитая и утянутая глубокими и мелкими морщинами, где самые мелкие морщинки, как паутина, покрывали всё лицо, а нос – круглый, толстый на конце – в три просвирки, с множеством мелких и глубоких ямочек. Он вдруг очнулся и вспомнил про Иванов вопрос.
– Савва… Калачов я! – со слезами на глазах назвал он свои имя и фамилию. – А жену мою, ты уже понял, Соней зовут, – добавил дед.
Слёзы беззвучно текли из его глаз, и Иван понял, что прожили Калачи трудную жизнь. И никто не может их судить и ненавидеть. Но так уж бывает, что в каждой деревне живёт свой «сумасшедший». А ещё в русских деревнях назначают козлов отпущения… И вот таким козлом отпущения назначили Калача и измотали и изуродовали его жизнь, что даже дети не приезжали к нему, а он ждёт их и по сей день и сквозь слёзы жаловался Ивану:
– Хоть бы перед смертью посмотреть на них одним глазком!
Понимал Иван и другое: что Калач не всё рассказал ему про свою жизнь. Может, и было в ней что-то неладное, нечестное или даже подлое, но зачем ему, Ивану, всё знать, тем более человеку пришлому и чужому. А поскольку это облегчало исповедь для Калача – рассказать только то, что он хотел, и совсем не говорить о том, о чём знают другие, уже долгие годы хранившие и пересказывающие историю села Бакуры. Таковой, к примеру, была Дуня, но Иван не побежит к ней расспрашивать про Соню и Савву. И он это понимал, раз уж нашёлся человек, готовый его послушать, кому не часто Калач изливал душу, что было в потаённых уголках его замороженного сердца, и какие бы тайны ни хранила его память, о чём знать могла опять та же Дуня и не любить его за это. Иван понял точно одно: что самое тяжёлое и невыносимое горе, давящее на них двоих, это отдалившиеся от них дети. О ком они искренне тосковали и страдали, оттого что они отреклись от них и не навещают отца и мать в их последние годы или месяцы, а может быть, и дни оставшейся жизни, их, родивших и воспитавших своих малюток, сыночка и доченьку, на последние крохи тяжёлой и невыносимо трудной жизни.
И Калач всё время повторял одно и то же – что не могут быть дети палачами своих родителей!
Вскоре появилась Эмма, Иван освободился от калачовских тяжёлых воспоминаний, сбросил чужой груз со своих плеч и рассказал красивой немке смешную и немного грустную историю про баню и вшей на фронте. Водились у них больше всего вши бельевые, или чаще их называли платяными, от слова «платье». Так по чьей-то солдатской прихоти или шутке обозвали их платяными, потому что бегали молодые солдаты и офицеры к деревенским девчонкам и любили их сильно, как в последний раз, потому что шли повсюду бои с большими потерями. Красная армия то отступала, то наступала. Девчонки любили русских солдат также сильно, потому что на их долю выпало не меньше страданий и горя: кого-то эвакуировали, а кто-то оставался на оккупированной территории под немцами и создавал партизанское подполье. И те и другие жили одним днём, потому что " «завтра» у них у всех могло и не быть. Они любили и знали: чтобы ни случилось с ними, они никогда не отдадут фашистам свою землю. И живыми и мёртвыми они будут стоять наперекор врагу, в одном ряду, они будут любить друг друга неистово и страстно и ненавидеть врага проклятого, который хочет уничтожить их тела и души. И сегодня Иван уже знал: не завоевал подлый Ирод русскую землю и никогда и никто её не завоюет, пока будет жить хоть один русский солдат или хоть одна русская девчонка на этой земле, что величается матушкой Русью!
Ну а вшей, как ни хитри и ни скрывай, выводить приходилось. Соорудили из блиндажа парилку с тремя буржуйками в центре. Камней натаскали, они нагревались и раскалялись, как в любой другой парилке, плескали воду на них, напускали пару, грели чугунные утюги, металлические бруски, трубы и проглаживали свою одежду: нижнее бельё и форму, особенно где были швы и грубо зашитая ткань, как рубец, – туда и набивалась вошь. И в этой зимней тишине все сразу услышали вой летящего снаряда с той стороны, от немцев… Как он пробил крышу новоиспечённой бани и не разорвался, понять не успели. Выскочили разом все через узкую дверь блиндажа и голыми на снегу хохотали: то ли от испуга, поздно наступившего, то ли от радости, что опять живыми остались. Ещё и добавляли, шутили: мол, если бы снаряд разорвался, так бы вшей сразу всех и вывели.
Но на морозе долго, да ещё голыми, без одежды, не простоишь… Иван мог бы приказать любому солдату вынести снаряд из бани, он был старше всех по званию, но полез сам на рожон, других жалел, своей смерти не боялся. Почему вспомнил эту историю у деда Калача? Потому что что-то тяжёлое и необъяснимое крутилось в его голове, где он пытался найти сходство и различие в жизни собственной и деда. А приказать он действительно мог любому вынести снаряд, но сделал это сам. Снаряд попал как раз прямо в валенок, залез в него, как по заказу. Может, поэтому и не разорвался. Скатили его под гору, наутро подорвали. Иван понимал, что он часто шёл за смертью, как будто искал её, а она словно боялась его и не брала, а дед Калач, наоборот, боялся смерти, бежал от неё, а она – за ним, и тоже не брала. Как будто они оба должны были понять в этой жизни то, что ещё пока не доходило до обоих и не оформилось в их душах и сознании, для этого она и давала им время. Сейчас, сидя с Эммой в русской бане, он почувствовал, что точно такая же тишина была в тот роковой вечер, когда неразорвавшийся снаряд сохранил им всем жизнь, но в дальнейших боях в живых среди тех, кто парился с ним в бане, останется только он один – Иван из детского дома.
И вдруг он услышал мелодичный звук гармони, а из стихов Есенина он называл её тальянкой, и глубокий басистый голос Фёдора, того, у которого жил Баско. Вся деревня уже знала, что это означает: Фёдор принял рюмку домашнего самогона и пел от радости весёлую песню, потому что получил известие, что приезжают внуки и дети, которых он любил и всегда ждал с нетерпением. Пел Фёдор всегда по-разному и на разный мотив одну и ту же сочинённую им песню:
Родился я в большом селе
На пенье хриплых петухов,
Пастух взбивал кнут по росе,
И лай собак сгонял коров.
Деревня мирно оживала
В лучах июльского тепла,
А мать на свет меня рожала —
Испить парного молока…
И вся деревня понимала этот шифр: что едут дети сразу все, одним гуртом, было у него их трое, а теперь уже и шесть внуков. Но если Фёдор пел грустно:
Деревня тихо умирала
От слов людей, как ото льда,
Зачем ты, мать, меня рожала —
Не пить мне больше молока… —
это означало, что приехать все сразу не могут, не получалось в одно время взять отпуск.
А когда все приезжали, садились за стол, и Фёдор, как в счастливые времена, начинал перекличку:
– Иван? – Здесь! – Семён? – Здесь! – Василий? – Здесь!
Потом называл и пересчитывал внуков, а их с каждым годом становилось всё больше. Он чувствовал себя счастливым человеком. Всю жизнь прожил с одной женщиной и любил её до безумия. Ефросинья ему отвечала тем же и не могла представить себя без своего любимого Феденьки.
Говорил Фёдор всегда правду и жил по правде. Не врал никому и никогда – ни жене, ни детям, а начальству резал правду-матку прямо в глаза, поэтому прозвали его бесконвойным.
Говорил он, что если сегодня не проведут газ в деревню, не построят дороги, не облегчат, то есть не механизируют, крестьянский труд, то в следующем веке деревни нашей не будет. Не хочет больше молодёжь жить так. По-человечески хочет. По-людски. Но сделать с ним за его правду горькую ничего не могли: вся грудь в орденах, да ещё на фронте в партию вступил. И никто тогда не подозревал, что слова его станут пророческими: и газ проведут, и дороги построят, а деревня вымрет, потому что сделать-то сделают, о чём Фёдор говорил, да уже поздно будет.
Иван тоже вдруг загрустил, повеяло на него чем-то далёким и близким, чем-то правдивым и настоящим, от чего он бежал, и не признавался себе, и не хотел слышать той правды, которую он знал о себе больше остальных.
Эмма придвинулась к нему, налила в стакан минеральной воды, которую принесла с собой, и спросила у Ивана, не пил ли он по её просьбе три дня. Затем протянула ему маленькую таблетку и сказала:
– Выпей, сейчас всё станет по-другому!
И Иван не задумываясь, беспечно доверяя малознакомой красавице, проглотил пилюлю, запив её минералкой. И тут неожиданно всё изменилось. Мир стал, как по мановению волшебной палочки, другим – красивым и розовым. Он посмотрел направо – там расстилалось огромное поле красных тюльпанов. Он повернул голову налево и увидел нескончаемое поле белых роз. А когда поднял голову вверх, это была зелёная красивая чаща или роща из винограда, заполненная чем-то лёгким, эфемерным, словно голубой дымкой, где парили легко и непринуждённо большие белые птицы, как лебеди, но крупнее их раза в три. А впереди, перед ним, не сидела и не лежала, а как будто повисла в воздухе, не прикладывая к этому никаких усилий, белокурая, бархатная, голубоглазая Эмма и всем своим видом, ласковым и нежным взглядом словно говорила ему:
– Ну, хочешь? Хочешь? Вижу, ты хочешь! Ну, полетай, Ваня!
И стоило ему только чуть-чуть захотеть оторваться от места, только захотеть полетать… он полетел вверх, поднимаясь всё выше и выше. Калачовская баня уменьшалась и уменьшалась, а он поднимался вверх, а там, внизу, оставалось что-то тяжёлое, то, что его мучило и тяготило. Было непосильным грузом только там, внизу. А здесь всё тело было лёгким и неощутимым. И если его теперь уже часто простреливала на земле боль в пояснице или он останавливался и замирал от щемящей боли за грудиной и сильного сердцебиения, то сейчас он нарочно проверил поясницу, резко согнувшись, а её как будто и не было – и поясницы, и боли. Он приложил руку к груди, где должно было быть сердце, и щупал на руке пульс, но ничего не мог понять, потому что их там не было, а было просто легко и хорошо ему здесь, наверху…
Потом он медленно стал опускаться прямо на Эмму и сливаться с ней в единое целое. Пряный, воздушный запах её дорогих духов въедался и входил в него, так что он тоже стал чувствовать его и от себя, именно его, а не запах своих противных, приторно-тошнотворных папирос. А от неё, от Эммы, исходил красивый, дурманящий запах разных цветов и духов, он никогда не мог себе этого представить, что запах бывает красивым.
Он легко выходил из тела Эммы и видел её с высоты двух-трёх метров, удивляясь по-новому, как она хороша и обворожительна, чего нельзя было так вот разглядеть, когда он прижимался к ней всем телом или соприкасался очень близко, тогда, в прошлом, когда он не умел летать, а именно сейчас. И она, тоже немного отделившись от того места, где они только что, несколько минут назад, сидели вместе, теперь плавала в воздухе и могла принять любое положение. Она, обнажённая, представала перед ним то одной, то другой стороной, или он видел её то спереди, то сзади, потом он видел её всю. И это «всё» было сначала как трёхмерное изображение, а дальше он уже не мог понять, как ему удавалось видеть её в четырёхмерном пространстве. То есть тогда он видел её с четырёх сторон одновременно, даже ту сторону её тела, которая была отвёрнута от него, в силу простого геометрического представления из земной жизни. И он понял, что оказался там, где действуют другие законы и другая наука. Но остаются те же чувства, и та же любовь, что неизменно воплощается в красоте женского тела. Это будет будоражить и будет вечно пленять мужское начало и всю его суть, и он не мог уже поверить, что так легко любить, когда видишь безбрежную красоту женской плоти и глубину души сквозь голубые глаза, выразительные и бездонные. В них, как в микроскопе, увеличивалась до видимых для человека размеров великая главная, или основная, частица земного мироздания, или, если хотите, частица для появления разумной жизни.
Очнулся Иван уже в другом месте и пришёл в себя от всего увиденного, а может и содеянного, а он не мог усомниться в том, что обладал этой женщиной и любил её в калачовской бане. Теперь они были у неё в квартире из двух маленьких комнат позади аптеки и под черепичной крышей всего здания. Её комнатки с аптекой были одним одноэтажным строением из красного кирпича с толщиной стен больше метра. Так жили здесь и до неё все провизоры.
Ему было легко и хорошо. Он не пил водку и не хотел. Чудо пилюли ему пришлись по душе, и он решил бросить пить окончательно.
Эмма в это время, а было уже раннее утро, включила патефон, откуда неслись лёгкие песенки на немецком языке. В другой комнате она переоделась в строгий чёрный военный костюм: приталенный китель и юбку – и пританцовывала перед Иваном, или, правильнее сказать, приплясывала, совершая какие-то странные, совсем не похожие на русские танцы движения. И только спустя несколько минут Иван смог понять, что она была в форме офицера СС. В чистой накрахмаленной рубашке, в отутюженном кителе и юбке, будто вся одежда каждый день чистилась, и гладилась, и поддерживалась в аккуратном состоянии, как если в этом по сей день ходят на службу или хранят на тот случай, «если завтра война». А на ногах, на её красивых ногах, блестели чёрные натуральные кожаные немецкие сапоги, плотно обтягивающие её полные тугие икры, – это были настоящие форменные сапоги фашистского офицера. При этом на груди, где он несколько часов назад целовал её соски, а теперь ему хотелось даже сплюнуть, красовались настоящие немецкие награды. Тут Иван не выдержал – трудно сказать, помнил он себя в тот момент или нет, был он в своём уме или не был, но именно так, как он отдавал команду на войне: «Батарея! Огонь!», с остервенением заорал:
– Сними, сука!
Путая проходы, двери, комнаты, натыкаясь на мебель и косяки дверных проёмов, он вышел от неё, обозвав сумасшедшую немку грязной нецензурной русской бранью – матом, и вернулся домой.
Настало благодатное время. Зинаида сразу обратила внимание, что Иван не пьёт и даже не курит, ходит по вечерам в Дом работников просвещения, где собиралась первичная ячейка коммунистической партии села Бакуры. А была она немалочисленной: в селе, где проживало три тысячи человек, коммунистов было 52. Ивану часто поручали делать доклады, и прежде чем выступить с докладом, неугомонный сирота читал их Зинаиде и получал от неё высокое одобрение. Ну и здесь не надо даже лукавить: Иван Акимович Шабалов – офицер, фронтовик, орденоносец, отличник боевой и политической подготовки, один из способных учеников детского дома и офицерских курсов, а потом переросток-студент, блиставший в техникуме пищевой промышленности, – умел делать доклады так, что слушатели замирали, внимали с открытыми ртами и редко даже моргали. Веки словно застывали, а роговицы глаз не сохли, а смачивались слезами радости и гордости за свою страну, как умел преподнести это им Иван. И удивлялись в сосредоточенном упоении его неисчерпаемой фантазии лектора и знатока, каких не было до него в деревне. Так только он умел подать учение о коммунизме, блистал знаниями по истории, географии, политической жизни в стране и за рубежом – конечно, выбирая всё это из газет и журналов, которые он выписывал всегда и читал в большом количестве. Он снова внимательно, уже в который раз, зная их и так хорошо, перечитал «Капитал» Карла Маркса, «Манифест коммунистической партии», «Моральный кодекс строителя коммунизма» и заставил себя, хоть и брезгливо относился к этому, прочитать библию.
И он верил, как и прежде, в справедливое торжество социалистического уклада экономики, верил Сталину, сомневался в действиях Хрущёва по раскрытию так называемого культа личности великого вождя и в свои годы уже не один раз побывал в мавзолее Ленина, куда хотел и собирался свозить Вовку.
На его лекции ходили особо просвещённые, дотошные и любопытные слушатели, когда-то ставшие членами партии. Иногда коммунистами становились не по зову сердца, а вынужденные это сделать из-за предложенной должности или по другим причинам, когда отказаться от вступления в её ряды было труднее, чем согласиться. Но те, кто вступил на фронте, выгоды не знали, кроме одной – поднять в атаку упавшую на землю роту под огнём врага и зачастую из-за этого первыми умереть за Родину.
И те, кто пришёл в партию без всякой корысти, проявляли настоящую озабоченность судьбой страны и людей её при разговоре с Иваном после лекций или докладов.
– Скажите, Иван Акимович, возможна ли сейчас Третья мировая война? – спросил тракторист Семён.
– Нет! – однозначно ответил Иван. – Испытания водородной бомбы поставили мир на край пропасти, гибели! Мало кто знает, что началась цепная реакция и взрыв стал пожирать кислород атмосферы! Это был бы конец. Но неожиданно цепная реакция прекратилась! Остановилась! Хорошо, заряд бомбы сделали в два раза меньше, чем задумывалось изначально!
– Но если американцы первыми нанесут удар, мы же ответим? – настаивал Семён.
– Нет! Никогда! Ни в коем случае! Поедем и будем договариваться!
Тут удивились вся оставшаяся после лекции группа, человек из десяти сельских коммунистов.
– Да! Да! Наши руководители в первую очередь захотят этого больше всего и больше всех! Не будем скрывать, что они живут хорошо. У Ленина после смерти было на счету около одного миллиона долларов, а у Сталина – два!
Все ахнули, а Иван испугался, что завтра он будет уже отвечать на вопросы в КГБ, писать не объяснительную записку, а протокол допроса, как он почерпнул эти знания из антисоветской литературы, и как минимум прощаться с партийным билетом. Но проблема его была в том, что люди, неожиданно бросившие пить, сразу становятся смелыми и критичными по отношению к власти. Потому что думают, что если они пили и их не увольняли с работы, то как сейчас и за что могут уволить, если человек не пьёт и не прогуливает, а за партийный билет ещё можно будет побороться. Но он всё равно решил смягчить свои тезисы и легко перевёл разговор в более удобное русло:
– Я бы на месте партийного аппарата сделал по-другому, даже очень просто. Главнокомандующий должен отдать приказ, и две атомные подводные лодки всплывут у восточного и западного берегов Америки с полным боекомплектом ядерных ракет. Моряки выходят на поверхность лодок – назовём это палубой, и пляшут матросский танец яблочко, а один держит бикфордов шнур и зажигалку. Вот смотрите, американцы: взрыв двух подводных лодок с одного и другого берегов Америки уничтожит сразу и навсегда материк, его зальют Атлантический и Тихий океаны, потому что уровень земли вашей части суши ниже уровня обоих океанов! – злорадно подвёл итог Иван как настоящий коммунист, и теперь партбилет, решил он, не отберут.
– Ну а как быть с социалистическим укладом экономики? Американцы живут лучше нас. Везде пишут: догоним и перегоним Америку! – встряла в разговор доярка Рая.