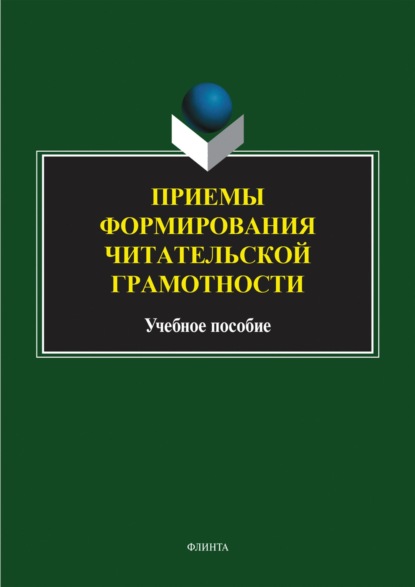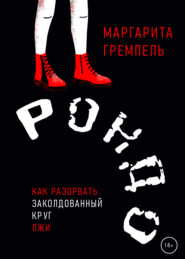По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зинаида. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Думаю, что будет смешанная экономика. Можешь быть частником – иди работай. Не получилось – давай, миленький, возвращайся, – ухмыльнулся Иван.
– И что, это всё при однопартийной системе?! – засомневался третий слушатель, которого Иван не запомнил и не знал, кто он и откуда.
– Коммунистических партий может быть и две, и три. Пусть смело говорят о недостатках друг друга, а народ выберет, кому править! – Тут Иван понял, что его опять заносит, и решил партийный форум закончить. – Извините, товарищи, ещё до дому далеко добираться.
Возле школы его ждал вороной жеребец с бричкой, где он специально его привязал, подальше от глаз сельских коммунистов, чтобы не подумали, что он использует в личных целях государственное имущество, в том числе коня.
Но счастье Зинаиды длилось недолго – ровно столько, сколько Иван принимал таблетки, которые дала ему Эмма Генриховна, их ему хватило на месяц. И Зинаида за это время успела заметить, что у него стали слишком узкие зрачки и непохожее на его обычное поведение. Адрес этого счастья она хорошо знала. И в один из обычных дней она вышла из амбулатории, прошла дворами двухэтажной больницы, мимо нового кинотеатра, который был от неё по левую руку, а по правую – почта, вышла на ту улицу, где была большая красивая деревенская аптека с высоким стеклянным витражом. Говорили, что Эмма Генриховна на этот витраж потратила собственные деньги, чтобы он радовал её и всех, кто будет приходить в аптеку.
Встреча с Эммой оказалась не такой, какой Зинаида её себе представляла. Она увидела перед собой настолько красивую женщину, что невольно стала вспоминать, видела ли она когда-нибудь такую красоту в настоящей жизни или даже в кино, и не могла припомнить. И эта красота женского лица и точёной фигуры сбивала её с толку и уводила от тех слов, какие она собиралась сказать. А хотела она сказать, что Иван с лёгкой руки этой подлой женщины употребляет какие-то таблетки странного содержания и воздействия на него, что, возможно, это наркотики и она, Зинаида, будет вынуждена поехать в Саратов, в приёмную КГБ. Она слышала о причастности Эммы в прошлом к этой конторе, и она, Зинаида, всё об этом расскажет там. Но ничего этого в этот раз она не сказала Эмме, не смогла произнести ни слова, и пауза молчания между двумя женщинами затянулась слишком надолго. Эмма предложила чаю. Зинаида попросила воды, и выпила залпом почти полный стакан, и осторожно, на ощупь, как ходят слепые люди, пошла на выход. Эмма шла за ней и, подбирая нужные слова, спросила:
– Зачем вы приходили? Вы что-то хотели?
– Уже ничего! – задумчиво ответила Зинаида.
А в доме у Шабаловых снова начался кошмар. Иван каждую ночь орал, надрывая горло и связки, отчего у него на шее надувались вены и краснело лицо:
– Батарея, огонь! Не пройдут!.. мать их! Анюта… ты плачешь… прости меня!.. Прости!
Зинаиде приходилось будить мужа, потому что его крик переходил в состояние, похожее на эпилептический припадок, когда он бился в судорогах, как безумный, и изо рта у него шла серая пена, и он мог, чего боялась в это время Зинаида, откусить себе язык. Она давно поняла, что у него кончились таблетки. Но боялась на этот счёт что-то сказать, потому что Иван будет её бить. Она хотела и думала, что Иван переболеет, переломит себя, выйдет, возможно, из наркотической зависимости или только забвения в результате абстинентного синдрома – синдрома резкой отмены, ведь зависимость не могла ещё развиться. Она догадывалась, что он их принимает не слишком долго, и на самом деле это было правдой. Ей стало это понятно окончательно, когда она сходила к Эмме, и теперь у неё теплилась надежда, что вдруг та знает, как лечить «русскую болезнь». Ведь о ней недаром ходили разные колдовские слухи. И, может, немцы давно уже нашли такую таблетку, и вовсе это окажется не наркотик, а лекарство, и муж навсегда перестанет пить и курить. К ним опять вернётся счастье, которое длилось у них несколько дней, подумала Зинаида, но тогда пусть придёт другая жизнь, она родит ему второго ребёнка, ведь они ещё молоды и им не поздно начать всё заново, с чистого листа, и разжечь снова огонь любви и очаг семейного счастья.
Но Иван в очередной раз неумолимо двинулся к Эмме. Он шёл пешком, шёл быстро, торопился, и тех, кто ему попадался навстречу и здоровался с ним, он не замечал, но в ответ говорил «здравствуйте» или «здорово», в зависимости от того, слышал он женский голос или мужской. По улицам Кобелёвке и Орловке он шёл быстро, почти бежал. Здесь у него уже было столько знакомых, что он неслучайно прибавил ход, чтобы никого не видеть, но вольно или невольно всё равно попадались прохожие, хорошо знавшие его, останавливались и недоумённо оглядывались назад, обращая внимание на его ужасный вид, хмурый, со злобным взглядом исподлобья, с большими чёрными кругами под глазами. Потом он вышел к домам, стоявшим у реки, здесь у них был с Зинаидой второй огород, а первый – возле дома, на которых они выращивали картошку. Затем длинный путь вдоль реки, снова дома – эти стояли прямо на высоком берегу. Наконец, школа справа и скобяной магазин с мужем Касьянихи. Слева – амбулатория, детский сад, ясли. Дальше, справа, больница, а слева – старый клуб и дома, где жили хирург Москвичёв с семьёй. Но Иван сквозь смуту происходящих событий, которые закрывали ему сейчас сознание и здравый смысл, всё равно понимал, что ему никак нельзя встречаться с Зинаидой, поэтому он резко взял вправо. По пути справа от него опять была школа, её фасад, здесь он уже резко свернул влево, на большую главную дорогу в самом центре села. Не успевая оглядеться и подумать, как на фронте, фиксируя одним взглядом, словно сквозь подзорную трубу или в бинокль, оценивал сразу всё поле зрения, вращая головой, как перископом подводной лодки… Да, он понял, что идёт правильно к цели. Слева от него теперь уже стоял дом Сашки Шалагаева, начальника сельского аэропорта, как это ни громко звучит. Потом будет почта и новый клуб, но он уже знает, что от почты нужно свернуть вправо, и он сворачивает, и здесь, по правой стороне улицы, наконец находит красиво оформленную витрину аптеки и переводит дух…
Эмма как будто его ждала, она словно знала, что он придёт. Конечно, это было нетрудно просчитать: она знала, что он придёт, когда кончатся таблетки, но снова играть в эту игру она не хотела и не могла. Она боялась. Она прочувствовала слова Зинаиды, словно услышала их, хотя та и молчала. Она поверила, что Зинаида действительно сообщит в контору, и не тем руководителям, которые были давно у руля, а тем, которые есть у неё условно теперь, и они помогали ей с устройством в жизни и на работу в аптеку на её родине – в красивом селе Бакуры.
Ей не нужны были скандалы. Ей нужно было тихо и спокойно дожить свою жизнь. Кроме неё никого уже из их рода не осталось, чтобы ухаживать за могилами всех Раппопортов и Франкфуртов. Они были предками и составляли для неё родословную. Все бы жили и продолжали их род в этой сказочной глухой русской деревне, если бы не две мировые войны, оборвавшие жизнь последних наследников, кроме неё. Но она поняла, что продолжить свой род ей не удастся теперь никогда. Иван стоял напротив неё, глядя налившимися кровью бычьими глазами через прилавок аптеки, а она отводила свой взгляд в сторону, рассказывая, как она хотела помочь ему бросить пить. Когда он понял, что таблеток больше не будет, он перепрыгнул, скорее даже перемахнул или перелетел, через прилавок, достаточно высокий. Отшвырнул Эмму и прошёл в её комнаты, которые соединялись изнутри с аптекой, нашёл старый военный чемодан, в нём она хранила фашистскую форму СС, и вышел вместе с чемоданом через другую дверь, которая вела из квартиры во двор. Он не пошёл старой дорогой, а быстро стал уходить на южную сторону села, получалось – в сторону роддома, вдоль множества построек и домов, и брал всё левее и левее, направляясь дальше в сторону маслозавода на запад. И вышел через длинный путь к колхозным и совхозным фермам и конюшням. И, пройдя дальше и оставляя их слева от себя, наконец ступил на земляную насыпь, как на плотину через всё колхозное поле, специальное дорожное возвышение, чтобы не тонули повозки, телеги и машины в мягком грунте колхозных полей, и дошёл к новому, достраивающемуся маслозаводу, на самый берег реки Сердобы. Оставил чемодан возле воды. На старом заводе из машины взял канистру с бензином, облил чемодан с гестаповской формой и поджёг всё это имущество честной немки. Она хранила чемодан с формой, потому что это была та единственная нить, которая связывала её с молодостью, с прошлым и со всей её жизнью. Другой жизни у неё не было и не могло уже быть. У неё не было настоящей молодости и счастья, у неё не было фотографий, которые хранят русские девушки всю жизнь и ими дорожат и хвалятся. Долгое время она жила под чужим именем и с чужой судьбой, с чужой легендой о себе. А на самом деле она была героической советской разведчицей, сделавшей так много для этой страны и для этого и для других Иванов, который презирал её сейчас и ненавидел. И может быть, только за то, что у неё сохранилась немецкая форма, или за то, что она желала помочь ему бросить пить. Она хотела, чтобы он начал новую жизнь, освободился от страшной болезни, от её зависимости, забыл про алкоголизм навсегда. Она дала ему те таблетки, что сохранились у неё ещё со времён работы в тайной лаборатории, которые, по её мнению, смогли бы помочь ему осознать весь трагизм своей тяжёлой, хронической и плохо поддающейся излечению болезни и повлиять на его сознание и разум.
Когда Иван бросил пить, по деревне ходили слухи, что Эмма настоящая ведьма, она знает секрет человеческого счастья и горя. Но когда Иван сжёг её форму, стали ходить другие слухи – что у неё было две человеческие кожи, как два комбинезона. Фашисты, мол, давно научились это делать; одна настоящая – её, и иная – кожа молодой красивой девушки, которую она надевала и была для всех молодой и красивой, но теперь она неожиданно появилась за прилавком аптеки и выглядела жёлтой, сморщенной и старой.
В деревне верили и не верили этому, но всё равно боялись даже ходить в сторону аптеки.
Жалели Ивана и сочувствовали ему, ведь теперь, думали все, она снова нашлёт на него порчу, и он будет пить, и погубит себя, и искалечит жизнь жене и сыну.
Вовку в деревне тоже жалели и любили, как и Зинаиду. А Вовка по-настоящему полюбил деревню, свою малую родину, хотя тогда он ещё плохо понимал и различал значения слов «малая и большая родина», потому что редко куда ездил. Возили его в Екатериновку на грузовой машине, которую ужасно трясло на ухабах не асфальтированных дорог, и его всегда тошнило и рвало, как будто выворачивало желудок наизнанку. Летал на кукурузнике в Саратов, но его и там ещё хуже тошнило и рвало, потому что остановиться и выйти, как из машины, подышать свежим воздухом было невозможно. Поэтому в самолёте давали чёрный, из плотной бумаги пакет, а если нужно, и два, и три, и вот Вовка их до Саратова наполнял «своим содержимым».
– Да, – говорил отец, – лётчиком ты точно не станешь.
Но он полюбил широкие поля и леса, покрытые густой зеленью летом, а весной – разноцветьем от белого и сиреневого до розового и красного цветущего перелива, наполняясь всеми цветами радуги и оттенками всех проявлений цвета самой природы. Зимой всё село покрывалось снегом, толстым слоем с синеватым оттенком, и плотный тулуп снежного покрова хранил и укрывал бакурскую землю от сильных морозов.
Вовка любил ясли, детский сад, особенно сильно он запомнил детский сад, где была воспитательница – молодая и красивая Людмила Валерьевна, не имевшая на то время семьи и своих детей и отдававшая все нежные свои материнские чувства и часть жизни на воспитание сельских детишек. Вовка иногда по-детски думал и жалел, что у них большая разница в возрасте. Воспитательница ему нравилась так сильно, что если бы он мог сразу вырасти и стать большим, он полюбил бы её, как любят друг друга взрослые люди – мужчины и женщины, хотя он думал об этом не оттого, что знал «взрослую» любовь, а потому что ему так хотелось, через сознание детского восприятия. Его детская душа, уже настрадавшаяся от сложностей в семейной жизни, где он нагляделся на родителей, росла и мужала. Он хотел стать сильным, стать личностью с натурой настоящего человека, закалённого деревенской жизнью, несмотря на то что он был неказистым, слабым, с тяжёлыми последствиями рахита, с ослабленным слухом. Потом ему выставят безжалостные диагнозы гиперметропия, астигматизм, нистагм – это всё относилось к тому, что он от рождения был слабовидящим, и станет быстро очкариком, стесняясь этого и переживая, и долго не будет носить очки и из-за этого больше терять зрение, и оно у него будет падать ещё быстрее.
Но любовь к деревенской жизни, память о её людях, неутомимых тружениках, тёплые воспоминания о Людмиле Валерьевне останутся у него на всю жизнь.
Сами бакурчане, деревенский клуб, куда он бегал много раз смотреть «Неуловимых мстителей», колхозные поля, многие из которых лежали прямо позади домов, и он легко уже различал пшеницу, рожь, овёс, – ему всё это нравилось. Он заходил на середину поля, ложился прямо на этот жёлтый или зелёный ковёр и мог часами глядеть в голубое небо с плывущими по нему облаками. Они меняли свою форму, напоминая ему разных животных или, чаще, корабли и машины. Всё это по отдельности или вместе накладывалось на его память и душу. Оставалось навсегда нескончаемым счастьем и несмываемым впечатлением детского восторга и становилось ключевой чертой характера от силы своего восприятия. Он формировался и становился одновременно жёстким и добрым, порою сильным, а иногда слабым, но не раз Вовка клялся самому себе, что никогда не станет пьющим или нечестным, злым или мстительным или позволит себе забыть когда-нибудь любовь и заботу своей матери, родившей его на просторах малой родины – на бакурской земле.
В одну из зим снег покрыл деревню под самые крыши домов, а некоторые постройки занёс полностью. К несчастью, после таких зим случались сильные наводнения. Но такие зимы сами по себе были по-особому хороши. Это была одна большая сказка, а вид деревни становился проявлением богатой фантазии самого Создателя. Всё гениальное и красивое, о чём уже стал задумываться и Вовка, природа сочиняла и писала сама, где кисть или перо были в руках провидения. И только кому-нибудь это нужно было увидеть, и оно появлялось на бессмертных холстах великих художников: Левитана, Саврасова, Серова или других мастеров гениальных полотен…
Необыкновенное чудо поражало воображение сельчан: пушистые ветви деревьев, сероватый тёплый дымок вился из больших великанов-сугробов, под снегом которых скрылись бревенчатые избы, обогреваемые жаром русских печей, испускавших этот дымок… Как будто всё говорило: смотрите, скоро и этого не будет, всё растает, когда придёт весна, ничто в этом мире не вечно, красота мимолётна, но незабываема в человеческих воспоминаниях, застывшая в памятных образах великих произведений…
Вот в такую зиму Вовка позвал соседа Юрку, сына Сиротиных, ставшего ему другом, прыгать с крыши домов и сараев в огромные сугробы, и через час они стали мокрыми до последней нитки. Сушиться пошли к Вовке. Иван не жалел угля, топил много: антрацит был на заводе главным топливом, он брал его сколько хотел. Одно плохо, что печь у них была слабой, места занимала много, но никогда не нагревалась так, чтобы рука не могла терпеть, если её приложить в зале или в спальне, куда выходили боковины и углы печи. Известный в деревне печник, которого вызывали, чтобы он чем-то помог, обычно долго возился с печью Шабаловых, потом беспомощно разводил руками и предлагал сложить печь заново, по-другому, как у Дуни, а он клал и у неё такую же русскую печь, и топили её дровами да кизяками, а не антрацитом. Жара была несусветная. А на самой печи можно было лежать и лечить радикулит. А какие щи да каши запаривала Дуня – не пересказать словами, а тыква из печи, когда приходили Иван вместе с Зинаидой и Вовкой, чтобы погреться в сильные морозы, была необыкновенным лакомством: она становилась коричневой и сладкой, как конфеты ириски, что особенно любили Вовка и подросший внук Дуни Женька.
Пока Юрка и Вовка сушили мокрые штаны и куртки, вздумалось им поиграть в резиновый мяч, и, на горе Вовки, попали они в будильник, что стоял на лепной подставке, висевшей пока на временном месте на стене, на одном вбитом гвоздике. Таких подставок-лепнин, похожих на работу эпохи Возрождения, у Ивана было много, в каждой комнате не по одной. На каждую из них Иван старался поставить фигурки красивых женщин, иногда полуобнажённых, а на одной уже стоял Тарас Бульба, привязанный к дереву и охваченный пламенем огня, с реальной достоверностью описанных Гоголем событий. Огонь, конечно, был ненастоящим, в керамическом изваянии. А будильник, что упал и разбился, был настоящим, простым и дешёвым и стоял на этом месте только потому, что Иван ещё не приобрёл и не подобрал достойного персонажа, который понравился бы ему, когда он поставит его туда, где будет видеть красоту и испытывать душевное удовольствие.
Иван пришёл домой в этот день необычно рано – конечно, это было случайностью, он не приходил никогда в это время. Всё сложилось не в пользу Вовки: и разбитый будильник, и раннее появление отца, и мокрые от снега штаны; и то, что будильник сбил не он, а Юрка, не меняло ситуации в лучшую сторону, ведь разрешил играть в мяч в своём доме Вовка…
Иван выпроводил Юрку домой. А Вовку, своего родного сына, держа одной рукой сзади за шею, стал хлестать ремнём, который снял прямо здесь со своих брюк. Брюки спали с него, сложившись до колен в гармошку, а выше колен его бёдра закрывали длинные, синие, из ситца, семейные трусы, какие продавались тогда в магазине или шили ему портнихи Тоня с Фросей, и тогда часто добавлялись к синим по цвету ещё и чёрные трусы. Иван жестоко порол своего сына по голой спине, ягодицам, ногам, задыхаясь от злости. Вовка сжимал зубы и вспоминал строки из повести «Тарас Бульба», которую читал ему недавно сам Иван, где отец говорит сыну: «Я тебя породил, я тебя и убью!» У Вовки мелькнула мысль, что отец невзначай может запороть его насмерть, потому что в один из ударов он чуть не потерял сознание. Он мучительно переносил хлёсткие удары кожаным ремнём, а у Ивана всегда были добротные ремни из настоящей кожи, хорошие и крепкие, хоть вешайся на них, как любил говорить он другим. На войне в рукопашном бою он задушил таким же ремнём фашиста и этим иногда хвалился сыну. Вовка не кричал, не рыдал, не просил пощады, потому что уже не в первый раз отец учил его так жизни, но сдержать слёзы, которые сами катились из глаз, он не мог…
Потом он, не в силах согнуться, с большим трудом натянул спущенные штаны, которые он переодел, а не те, что были мокрыми от прыжков в сугробы… Но он почувствовал, что и эти штаны тоже стали мокрыми, но ему не хотелось в это верить и признаваться даже самому себе: ему было стыдно. Неужели он не выдержал боли, ведь в прошлый раз он выдержал, но тогда дома была мать, которая вступилась за него, а сегодня её не было, и отец бил его так, как будто и за этот, и за прошлый раз, словно хотел сравнять и суммировать наказания.
Вовка качаясь дошёл до кровати, не понимая, что она не его, а родителей, и упал на живот, потому что на спине он лежать не смог бы. Вся его спина, ягодицы и бёдра были исполосованы красными, бордовыми и синюшными кровоподтёками и ссадинами в виде ободранной кожи, горизонтальных полос, ложившихся друг на друга, с отделяющейся сукровицей, которая начинала засыхать и запекаться, образуя бурые корочки.
Почему так случилось и происходило уже не в первый раз, Иван не мог объяснить даже себе. Нельзя было сказать о нём, что он жадный и неисправимый скряга, что мог пожалеть дешёвый будильник и лепные подставки на стенах, тем более они не пострадали. Каждую подставку он привозил из Саратова в разные заезды и трогательно заматывал в мягкую тряпицу, чтобы не откололся даже краешек, не говоря уже о кончике носа, что нечаянно откололся у бюста Пушкина. Конечно, не могло быть и речи, чтобы разбить что-то из того, что оберегалось неистово, как и всё то, что приобреталось в дом и в семью. А пил он за заводское сливочное масло, где не была исключением и Эльвира, его первая жена с детьми после развода, ведь просчитать деньги от украденного масла было невозможно, поэтому деньги на неё копились тоже с неучтённого масла, так как Зинаида никогда не смогла бы узнать или просчитать правду, или, правильнее сказать, неучтённые доходы.
Он искал и находил себе оправдание, что был всегда бедным, вышел из трущоб и что каждая копейка достаётся ему с трудом. И он не сможет заставить себя забыть об этом никогда, поэтому он вколачивал своему сыну запомнить раз и навсегда, а значит на всю жизнь, что дело не в том, что каждая копейка рубль бережёт, а в том, что достаётся она бедному человеку потом и кровью.
Может, всё это было бы и так, но каждый раз от таких «нравоучений» малолетнего сына он страдал и сам, как приговорённый к высшей мере наказания преступник, до физических неимоверных болей в теле и ненавидел себя, потому что чувствовал, что превращается в отца Акима – такого же алкаша и садиста.
Вовка не таил и не накапливал зла на отца и не хотел даже думать, как могут размышлять в таких случаях другие дети: «Вырасту, убью за всё»… Он пытался оценить ситуацию шире и глубже: что, может, он действительно ещё не понимает, что такое взрослая жизнь, что такое деньги для жизни и что вообще означают деньги в более широком смысле представления о них.
Но от побоев и подзатыльников он становился другим, в нём вырастало что-то большее, что он не мог ещё объяснить себе сам, осознать. В нём рос тот сильный духом и нутром человек-кремень. Он чувствовал, что нет на свете такой силы, которая сможет сломить его силу и внутреннее, самое глубокое, ощущение того, что он – Человек, как Маугли, о котором ему уже прочитал отец из известной повести. Да, Человек, и выше и сильнее этого он не мог больше никого назвать, вспоминая всех из своей недолгой жизни.
А Иван боролся с собой и не мог понять, откуда и почему он черствеет и грубеет даже к собственному сыну, хотя на фронте жалел и взрослых и детей, подобных себе и своему ребёнку.
И зачем и почему, думал он и проклинал себя, за какие грехи и муки он наказал несчастную Эмму? Ведь её сохранившаяся строгая немецкая форма – это дань уважения не фашизму, а всей своей жизни, молодой и красивой женщины, посвятившей себя служению России, ставшей, в конце концов, и её родиной и родным домом. Она не успела всем этим насладиться, и полюбить, и даже запомнить, ведь много лет провела за границей. А потом много лет пребывала в состоянии человека-зомби по специальным лечебницам КГБ и приехала одна в Бакуры незадолго до приезда Ивана. И она не виновата, что полюбила его, а он был женат и много пил. Она без остатка отдала своё здоровье и свою жизнь за свободу этой самой родины, где жили волею судьбы её предки, и боролась до конца с фашизмом, и то, что осталась живой, было случайностью или чудом, которое она не смогла бы объяснить теперь никому.
И сейчас Иван готов был встать перед ней на колени, и просить прощения, и целовать ей ноги, и принять любую кару от советской разведки за то, что обидел её героическую дочь.
Он не был таким, и он не мог вспомнить, когда и почему таким стал – жестокосердным! Совсем ещё недавно, как казалось ему, он был другим и готов был любить и жалеть каждого…
Зима началась по-особому: снег выпал поздно, а морозы ударили рано и неожиданно сковали речку льдом. Лёд был прозрачным, и через него, как через большое окно, можно было смотреть на бегущую воду, словно вечный и нескончаемый поток жизни. Там, подо льдом, проплывали рыбки, напоминавшие о превратностях судьбы, о том, что жизнь продолжается даже там, подо льдом, при низкой температуре, но она снова закипит и расцветёт по весне, когда сойдёт лёд и река разольётся бурным половодьем, напоминая о нескончаемости бытия и радости весеннего благоденствия как символа познания бессмертия жизни.
Мы вернулись к одному событию, чтобы вспомнить об Иване что-то хорошее, потому что этого хорошего становилось почему-то всё меньше и меньше…
Это был обычный воскресный день, когда Петька Сиротин кричал Ивану через забор, чтобы тот выходил, и Иван подумал ненароком, что случилось что-то невероятное и страшное. И Петька сообщил, что тамбовские браконьеры устроили охоту по бакурским лесам. Лоси пошли стадами и табунами в деревню – искать защиты у людей, у бакурчан, которые их не отстреливали, а, наоборот, в холодные зимы подкармливали. А у Кати Волковой как-то осиротевший лосёнок проживёт всю зиму и уйдёт в лес только весной. Бакурские мужики давно отстреляли всех волков, теперь они не мучили и не нападали на стада коров и отары овец, ну и на людей тоже не нападали. Лосей поэтому развелось много, но их решено было не трогать, так они и жили свободно и легко, пока не узнали браконьеры из соседних районов и областей. Такой вот молодой лосёнок, в бегах потерявший родителей, спускаясь с крутого противоположного берега реки, растянулся на льду, разложив все четыре ноги в разные стороны, распластался и не мог подняться, встать и уйти – был лёгкой добычей. Первым его увидел отец Петьки Тихон, который служил и воевал на разных фронтах XX столетия, был, говорили, даже снайпером, глаз у него намётанный, глаз-алмаз, как он шутил о себе сам. Иван разделся до телогрейки, ему привязали к одной ноге верёвку, и он по-пластунски, держа второй конец верёвки у себя в руке, пополз к лосёнку, чтобы подвязать его и вытащить на берег. Ивана вязали на всякий случай, если лёд не выдержит и он провалится в воду, чтобы вытащить его и не дать уйти под лёд и утонуть. Несчастный и испуганный до смерти лосёнок перестал бить копытами и притих, понимая, что к нему идёт, а точнее, ползёт помощь, потому что идти было опасно, лёд ещё не окреп и в некоторых местах был тонким и мог подломиться. Лосёнок смотрел в глаза Ивану грустным взглядом, утыкался в лёд тупыми круглыми ноздрями, на которых заиндевели пары? тёплого дыхания.
Тихон был высокий, здоровый, сын его Петька под стать ему, оба тяжёлые по весу, поэтому ползти пришлось Ивану, хотя это было и так ясно, так что даже и не обсуждалось. Ивана и лося они легко вытащили на свой пологий берег. Петька достал из внутреннего кармана бутылку самогона и протянул Ивану – для «сугрева». Тихон посмотрел на сына с укоризной, но говорить ничего не стал. А Иван, вспоминая потом этот случай, думал, что Петька – сволочь, это он его снова соблазнил. Ведь после таблеток Эммы он долго не пил. И если Зинаиде думалось, что это могли быть наркотики, то Иван глубоко верил в другое: что давно уже хитрые «бюргеры» изобрели и нашли такие пилюли от алкоголизма, потому и не болеют они похмельем, а пьют пиво с сосисками сколько хотят и не спиваются, как русские. Он тогда ещё подумал, что попросит у неё прощения. И она, от большой любви к нему, обязательно простит его, и он будет пить втихомолку эти таблетки, как хитрый «бюргер», и забудет злую самогонку, а лишь по праздникам станет промывать пивом своё иссохшее за это время нутро и снова работать на благо семьи и отчизны. Но сейчас он взял бутылку самогонки из рук Петьки, предложил выпить на троих, но Тихон и Петька заспешили домой, сославшись на неотложные дела. А Иван остался с бутылкой самогона на берегу реки Сердобы, подо льдом которой текли «сердобольные» слёзы русских баб, чьи мужья продолжали тоже пить эту отраву, как и Иван, и не могли легко избавиться от соблазна зелёного змия.
Иван оказался наедине с молодым лосёнком, потому что тот не мог быстро уйти: у него так долго были в растянутом состоянии ноги, что затекли, опухли и болели, и он выжидал время, отходил. Иван его не торопил, не прогонял в лес, он был уверен, что рядом с ним никакой браконьер не посмеет убить его спасённого лосёнка, потому что Иван порвёт того браконьера на куски – силы у него было хоть отбавляй.
Лосёнок смотрел на Ивана, не сводя глаз, будто между ними образовалась какая-то связь или немой диалог. Тот допил Петькину бутылку и ему было стыдно, что промолчал о своих запасах, потому что он тоже принёс из дома бутылку с самогоном, а предлагал на троих – чужую. Теперь он достал свою и залпом её выпил из горла, потому что остерегался, что они вернутся или случайно увидят его заначку и нехорошо подумают о нём, а он совсем не такой… никогда ведь не прятал на фронте от друзей горбушку хлеба.
Но стал замечать за собой в последнее время, что чем больше он пьёт, тем сильнее у него появляется жадность к алкоголю, словно какая-то ненасытность развивается и появляется в нём, и именно к спиртному. Зинаида знала про этот симптом алкоголика, которому надо напиться всегда до последней стадии, до потери сознания. Иван напился как зюзя, его сильно развезло, видно оттого, что пил на голодный желудок. Тут он начал слышать чьи-то голоса, в том числе и лося, но ему хотелось его опередить и сказать первым.
– Сейчас уйдёшь… Постой ещё… Тихон соберёт бакурских охотников, и накажут браконьеров, – заплетающимся языком бубнил пьяный Иван.
– Не пей! Себя убиваешь, как браконьер… Сестру не нашёл, детей Эльвиры от первого брака не видишь… Жену и сына бьёшь, – такие слова Иван услышал от лося.
– Уйди, дурак, много ты знаешь… – Он ткнул кулаком лосёнка в морду и пошёл в другую сторону от него, а лось повернулся к лесу и тоже медленно зашагал.