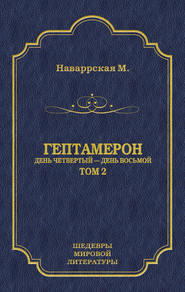По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гептамерон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На следующее утро сеньоры и дамы послали узнать, скоро ли будет построен мост, и получили ответ, что через три дня он будет готов. Некоторым из присутствующих известие это было совершенно не по душе; они предпочли бы, чтобы работы тянулись подольше, а вместе с ними и их счастливая безмятежная жизнь. Видя, однако, что остается каких-нибудь два-три дня, компания решила не терять золотого времени, и все попросили госпожу Уазиль преподать им утренний урок благочестия, что она не преминула сделать. Но на этот раз она задержала их долее обычного, ибо до того, как покинуть монастырь, ей хотелось окончить чтение послания апостола Иоанна. И она так хорошо его прочла, что казалось, устами ее святой дух говорил эти исполненные любви и милосердия слова. И, охваченные их огнем, все пошли слушать мессу, а вслед за тем обедать, продолжая обсуждать рассказанное накануне и готовясь сделать новый день таким же интересным, как и предыдущий. Для этого после обеда все разошлись по своим комнатам и пребывали там до тех пор, пока не пошли на привычное место, где они собирались каждый день на ковре из зелени; там их уже ожидали монахи. Когда все расселись по своим местам, зашла речь о том, кто будет начинать.
– Вы оказали мне честь тем, что я дважды был первым рассказчиком, – сказал Сафредан. – По-моему, мы будем несправедливы к дамам, если ни одной из них не придется точно так же начинать день два раза.
– Для этого надо, чтобы нам удалось пробыть здесь еще долго, – сказала госпожа Уазиль. – Иначе одному из мужчин и одной из нас ни разу не придется быть первыми.
– Если бы выбор пал на меня, – сказал Дагусен, – то я уступил бы свое место Сафредану.
– А я, – сказала Номерфида, – уступила бы мое место Парламанте, я так привыкла исполнять чужие распоряжения, что вряд ли могу распоряжаться сама.
Никто не стал с этим спорить, и Парламанта начала так:
– Благородные дамы, за эти дни здесь было рассказано столько разумных историй, что я хочу, чтобы вы позволили мне рассказать сейчас истинную историю об одном из самых больших безумств, какие только были на свете. И, чтобы не терять попусту время, я сейчас же начну.
Новелла семьдесят первая
Жена шорника, бывшая при смерти, неожиданно исцелилась и вновь обрела дар речи, которой она уже два дня не владела, – ей стоило только увидеть своего мужа в постели со служанкой.
В городе Амбуазе жил шорник по имени Брембодье, который служил у королевы Наваррской. Цвет лица у него был такой, что можно было подумать, что он служит Бахусу, а отнюдь не жрецам Дианы[207 - Жрецы Дианы – богини, считавшейся покровительницей охоты, – те, для кого работал шорник, изготавливающий седла для сеньоров-охотников.]. Женился он на женщине очень достойной и хорошей хозяйке и жил с нею в мире и в ладу. Однажды ему сказали, что жена его больна и положение ее очень серьезно, чем он был до крайности опечален. Он поспешил домой и нашел жену в таком состоянии, что ей уже нужен был, пожалуй, не врач, а духовник. Увидав ее в такой беде, муж стал горько плакать. Но чтобы в точности изобразить его, следовало бы картавить, как картавил он. Можете себе представить, какое у него при этом было лицо. После того как он сделал для жены все, что мог, она попросила, чтобы ей принесли распятие. Просьба эта была исполнена. Увидав это, несчастный повалился на постель и зарыдал. Заикаясь и картавя, он причитал:
– О, горе мне, Господи, жена моя умирает! Что я буду делать, несчастный!
Кончилось тем, однако, что, окинув глазами комнату, он увидел, что там никого нет, кроме молоденькой служанки, девушки довольно красивой и дородной, и тихо подозвал ее, прошептав:
– Милая моя, я умираю; для меня это хуже смерти – видеть, как кончается твоя госпожа! Не знаю уж, что делать, что говорить, вся надежда у меня только на тебя: пожалуйста, позаботься о доме, о детях. Вот тут у меня связка ключей, возьми их. Распорядись по хозяйству, сам я больше уже ничего не могу.
Бедная девушка пожалела его и стала утешать, уговаривая его не отчаиваться и уверяя, что, даже если госпожа ее умрет, он, ее добрый господин, должен остаться в живых.
– Милая моя, – ответил шорник, – часы мои сочтены. Я умираю! Посмотри, как у меня похолодело лицо, прижмись щекой к моим щекам, согрей меня немного.
Говоря это, он приложил руку к ее соскам. Девушка пыталась было помешать ему, но он уговаривал ее не бояться, потому что им надо приближаться друг к другу. И он обнял ее и повалил на кровать.
В это время жена его, у которой в жизни остались только распятие да святая вода и которая двое суток уже не могла вымолвить ни слова, начала вдруг своим слабеньким голосом кричать что было мочи:
– Нет! Нет! Нет! Я еще не умерла!
И, грозя мужу кулаком, она воскликнула:
– Мерзавец, паскудник этакий, я еще жива!
Услыхав ее голос, и муж и служанка вскочили с постели. Негодование этой женщины было так велико, что гнев прочистил ей горло, и она осыпала обоих самой оскорбительной руганью, какую только знала. И с той минуты она начала поправляться. И ни разу потом ей не пришлось упрекать мужа в том, что он ее мало любит.
– Вот, благородные дамы, сколь велико лицемерие мужчин: поиски ничтожного утешения лишают их всякой жалости к жене.
– А вдруг он от кого-нибудь слышал, – сказал Иркан, – что это лучшее средство, чтобы исцелить жену? Ведь ему не удавалось вылечить ее вначале обычным способом, и он, может быть, хотел испробовать средство противоположное, – оно-то как раз и помогло. Удивительно только, как это женщины решили сами себя разоблачить, показав, что гнев лечит их лучше, чем кротость.
– Да уж, надо признаться, что меня это подняло бы не только с постели, но и из гроба, – сказала Лонгарина.
– А вообще-то что он ей сделал плохого, – воскликнул Сафредан, – он был уверен, что она умерла, и решил немного утешиться! Все ведь отлично знают, что узы брака длятся только покамест мы живем: со смертью они обрываются, и человек свободен.
– Да, свободен, – сказала Уазиль, – от клятвы и от обязанностей, только доброе сердце никогда не будет свободно от любви. Скоро же он забыл о своем горе, если даже не мог дождаться, пока жена испустит последний вздох.
– Меня больше всего удивляет, – сказала Номерфида, – что несмотря на то, что перед глазами у него была смерть и распятие, он дерзнул оскорбить Господа.
– Нечего сказать, нашли причину! – вскричал Симонто. – Вы, верно, не удивились бы никаким безумствам, лишь бы все это совершалось подальше от церкви да от кладбища?
– Смейтесь надо мной, сколько хотите, – сказала Номерфида, – но размышления о смерти способны охладить всякое сердце, даже самое молодое.
– Пожалуй, я бы с вами согласился, – сказал Дагусен, – если бы мне не довелось услышать от одной принцессы, что все иногда бывает и наоборот.
– Значит, она вам рассказала какую-то историю, – сказала Парламанта, – а раз так, то я уступаю вам место, чтобы вы, в свою очередь, ее рассказали нам.
Новелла семьдесят вторая
Исполняя последний долг милосердия и предавая покойника земле, монах совершил грех с монахиней, и она от него забеременела.
В одном из лучших после Парижа городов Франции находилась богато отделанная больница, вверенная попечению аббатисы и пятнадцати-шестнадцати монахинь, а рядом было еще одно такое здание, где помещался приор и с ним человек семь-восемь монахов. Монахи каждый день правили службу, а монахини читали только «Отче наш» и молитвы Божьей Матери, ибо остальное время были заняты уходом за больными. Однажды в больнице умирал какой-то бедняк, и все монахини собрались у его постели. И после того, как были испробованы все средства, чтобы его спасти, послали за одним из монахов, чтобы тот его исповедовал. Но, видя, что умирающий слабеет, ему и без исповеди дали причастие. Говорить он уже больше не мог. А так как он все еще был жив.и, казалось, все слышал, каждая из монахинь старалась сказать ему что-нибудь хорошее. Но в конце концов им это надоело, и, видя, что совсем стемнело и час уже поздний, они одна за другою отправились спать. И возле умирающего осталась одна из самых молодых монахинь и монах, которого все боялись больше, чем самого приора, ибо как речи его, так и жизнь были очень суровы. И после того, как монах громко прокричал над самым ухом несчастного молитву, оба они увидели, что тот уже не дышит. И они завернули его в саван, – и, выполнив свой последний долг милосердия, монах стал говорить о том, сколь суетна человеческая жизнь и сколь блаженна смерть. Было уже за полночь. Бедная девушка внимательно слушала благочестивые речи и со слезами на глазах взирала на монаха И тому так по душе пришелся этот взгляд, что, говоря о загробной жизни, он принялся вдруг обнимать ее, как будто хотел в объятиях своих унести ее прямо в рай. Бедная девушка, которая, внимая его речам, была уверена в том, что благочестие его беспримерно, не смела отклонить его ласку. Нечестивый монах это заметил и, продолжая свои благочестивые поучения, совершил над нею то, что обоим им в этот миг внушил дьявол, ибо до этой минуты между ними никогда ничего подобного не бывало. И он уверил несчастную, что грех, совершенный в тайне, не наказуется Богом и что мужчины и женщины, не соединенные узами брака, нисколько не оскорбляют творца, если дело это не предалось огласке; и для того, чтобы никто не узнал о том, что случилось, строго-настрого наказал ей исповедоваться только у него одного. На этом они и расстались. Она ушла первая, и, когда она проходила через капеллу Божьей Матери, ей захотелось помолиться. И, начав шептать: «Пресвятая Дева», – она вдруг вспомнила, что уже потеряла девственность и что никто ее не насиловал, а склонил ее к этому только нелепый страх, и она принялась так плакать, что ей казалось, что сердце ее рвется на части. Услыхав издалека ее тяжкие вздохи, монах догадался, что она все поняла и раскаивается и что теперь ему уже не придется тешиться с нею. И, чтобы не дать этим мыслям овладеть ею, он подошел к девушке, простертой перед статуей Божьей Матери, и стал строго ее отчитывать. И сказал, что если ее мучит совесть, то пусть она исповедуется перед ним; если же нет, то пусть она больше об этом не вспоминает, ибо он всегда может сделать так, что грех ей простится.
Глупенькая монахиня, думая, что она исполняет волю Божию, исповедовалась перед ним. И святой отец убедил ее, что в ее любви к нему нет никакого греха и что достаточно покропить святой водой, чтобы Господь простил ей этот пустяк. И, веря в монаха больше, чем она верила в Бога, она очень скоро вернулась с ним к тому, что меж ними было, и дело кончилось тем, что она от него забеременела. Тогда ее охватило такое раскаяние, что она стала просить аббатису удалить этого монаха из монастыря, ибо понимала, что он так хитер, что и теперь будет добиваться своего. Но аббатиса была в сговоре с приором, и она только посмеялась над ней, сказав, что она уже достаточно взрослая, чтобы себя защитить от мужчины, и что того, о ком идет речь, она, аббатиса, знает как человека в высшей степени порядочного. Прошло некоторое время, – и, охваченная порывом глубокого раскаяния, несчастная попросила, чтобы ее отпустили в Рим, ибо думала, что, если она покается в своем грехе перед папой, она снова станет девственницей. Приор и аббатиса охотно согласились ее отпустить, ибо считали, что лучше пусть уж она нарушит устав и станет паломницей, чем будет томиться в стенах монастыря и в отчаянии своем дойдет до того, что откажется этот устав соблюдать. И они дали ей денег на дорогу. Но Господу было угодно, чтобы, когда она находилась в Лионе, в церкви святого Иоанна, там оказалась герцогиня Алансонская, вскоре ставшая королевой Наваррской, которая приехала туда вместе с несколькими дамами из своей свиты, чтобы исполнить какой-то тайный обет. После вечерни обе они стояли там коленопреклоненные перед распятием, как вдруг герцогиня заметила, что какая-то фигура поднимается наверх. При свете свечей она увидела, что это монахиня, и притаилась в углу, чтобы расслышать слова ее молитвы. Монахиня же, будучи уверена, что в церкви, кроме нее, никого нет, встала на колени и, каясь в своем грехе, так плакала, что невозможно было слушать ее без жалости. И она громко воскликнула:
– О, горе мне! Господи, сжалься над несчастной грешницей!
Герцогиня захотела узнать, что с ней такое; она подошла к ней совсем близко и спросила:
– Милая моя, что с тобой и откуда ты?
Несчастная монахиня, не зная, кто с ней говорит, ответила:
– Увы, дорогая, горе мое так велико, что я уповаю только на Господа и молю его, чтобы он сподобил меня свидеться с герцогинею Алансонской, ибо ей одной могу я рассказать все о беде, которая со мной стряслась, и я уверена, что, если есть на земле правда, она найдет к ней путь.
– Милая моя, – сказала герцогиня, – ты можешь говорить со мною, как с герцогиней, ибо это моя близкая подруга.
– Не обижайтесь на меня, – сказала монахиня, – но своей тайны я, кроме герцогини, никому не доверю.
Тогда герцогиня заверила ее, что она может говорить со всей откровенностью, ибо перед нею та, кого она ищет. Несчастная бросилась к ее ногам и, заливаясь слезами и рыдая, рассказала ей свою печальную историю, которую вы уже знаете. Герцогиня сумела ее утешить и успокоить. Она не стала заглушать в ее душе раскаяние, но уговорила не ездить в Рим и отправила ее обратно в монастырь, снабдив письмом к местному епископу, в котором она приказывала изгнать оттуда нечестивца-монаха.
Рассказ этот мне довелось слышать от самой герцогини.
Теперь вы видите, благородные дамы, что бывают случаи, опровергающие то, что утверждала Номерфида. Оба они прикасались к покойнику и завертывали его в саван, но и это не избавило их от соблазна.
– Вот уж это действительно никому в голову прийти не могло, – сказал Иркан, – говорить о смерти и творить в это время жизнь.
– Грешить отнюдь не значит творить жизнь, – возразила Уазиль, – хорошо известно, что грех творит только смерть.
– Поверьте, – сказал Сафредан, – что эта несчастная даже не помышляла о вашей теологии. Вспомните о дочерях Лота, которые напоили своего отца, чтобы не прекратился род человеческий[208 - В Библии (Книга Бытия) рассказывается об истреблении Богом нечестивых городов Содома и Гоморры, откуда Бог вывел только Лота с его семьей.]. Так и эти несчастные хотели возместить разрушения, которые смерть учинила в бренном теле, тем, что сотворили в тот же час новое живое существо. И в этом, вообще-то говоря, не было бы никакого зла, если бы не слезы бедной монахини, которая не переставала плакать и никак не могла забыть о постигшей ее беде.
– Мне не раз приходилось встречать таких женщин, – сказал Иркан, – они плачут, замаливая свои грехи, и смеются, вспоминая о радостях, которые эти грехи им доставили.
– Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, – сказала Парламанта, – женщина эта немало уже посмеялась, пора бы ей и поплакать.
– Вы оказали мне честь тем, что я дважды был первым рассказчиком, – сказал Сафредан. – По-моему, мы будем несправедливы к дамам, если ни одной из них не придется точно так же начинать день два раза.
– Для этого надо, чтобы нам удалось пробыть здесь еще долго, – сказала госпожа Уазиль. – Иначе одному из мужчин и одной из нас ни разу не придется быть первыми.
– Если бы выбор пал на меня, – сказал Дагусен, – то я уступил бы свое место Сафредану.
– А я, – сказала Номерфида, – уступила бы мое место Парламанте, я так привыкла исполнять чужие распоряжения, что вряд ли могу распоряжаться сама.
Никто не стал с этим спорить, и Парламанта начала так:
– Благородные дамы, за эти дни здесь было рассказано столько разумных историй, что я хочу, чтобы вы позволили мне рассказать сейчас истинную историю об одном из самых больших безумств, какие только были на свете. И, чтобы не терять попусту время, я сейчас же начну.
Новелла семьдесят первая
Жена шорника, бывшая при смерти, неожиданно исцелилась и вновь обрела дар речи, которой она уже два дня не владела, – ей стоило только увидеть своего мужа в постели со служанкой.
В городе Амбуазе жил шорник по имени Брембодье, который служил у королевы Наваррской. Цвет лица у него был такой, что можно было подумать, что он служит Бахусу, а отнюдь не жрецам Дианы[207 - Жрецы Дианы – богини, считавшейся покровительницей охоты, – те, для кого работал шорник, изготавливающий седла для сеньоров-охотников.]. Женился он на женщине очень достойной и хорошей хозяйке и жил с нею в мире и в ладу. Однажды ему сказали, что жена его больна и положение ее очень серьезно, чем он был до крайности опечален. Он поспешил домой и нашел жену в таком состоянии, что ей уже нужен был, пожалуй, не врач, а духовник. Увидав ее в такой беде, муж стал горько плакать. Но чтобы в точности изобразить его, следовало бы картавить, как картавил он. Можете себе представить, какое у него при этом было лицо. После того как он сделал для жены все, что мог, она попросила, чтобы ей принесли распятие. Просьба эта была исполнена. Увидав это, несчастный повалился на постель и зарыдал. Заикаясь и картавя, он причитал:
– О, горе мне, Господи, жена моя умирает! Что я буду делать, несчастный!
Кончилось тем, однако, что, окинув глазами комнату, он увидел, что там никого нет, кроме молоденькой служанки, девушки довольно красивой и дородной, и тихо подозвал ее, прошептав:
– Милая моя, я умираю; для меня это хуже смерти – видеть, как кончается твоя госпожа! Не знаю уж, что делать, что говорить, вся надежда у меня только на тебя: пожалуйста, позаботься о доме, о детях. Вот тут у меня связка ключей, возьми их. Распорядись по хозяйству, сам я больше уже ничего не могу.
Бедная девушка пожалела его и стала утешать, уговаривая его не отчаиваться и уверяя, что, даже если госпожа ее умрет, он, ее добрый господин, должен остаться в живых.
– Милая моя, – ответил шорник, – часы мои сочтены. Я умираю! Посмотри, как у меня похолодело лицо, прижмись щекой к моим щекам, согрей меня немного.
Говоря это, он приложил руку к ее соскам. Девушка пыталась было помешать ему, но он уговаривал ее не бояться, потому что им надо приближаться друг к другу. И он обнял ее и повалил на кровать.
В это время жена его, у которой в жизни остались только распятие да святая вода и которая двое суток уже не могла вымолвить ни слова, начала вдруг своим слабеньким голосом кричать что было мочи:
– Нет! Нет! Нет! Я еще не умерла!
И, грозя мужу кулаком, она воскликнула:
– Мерзавец, паскудник этакий, я еще жива!
Услыхав ее голос, и муж и служанка вскочили с постели. Негодование этой женщины было так велико, что гнев прочистил ей горло, и она осыпала обоих самой оскорбительной руганью, какую только знала. И с той минуты она начала поправляться. И ни разу потом ей не пришлось упрекать мужа в том, что он ее мало любит.
– Вот, благородные дамы, сколь велико лицемерие мужчин: поиски ничтожного утешения лишают их всякой жалости к жене.
– А вдруг он от кого-нибудь слышал, – сказал Иркан, – что это лучшее средство, чтобы исцелить жену? Ведь ему не удавалось вылечить ее вначале обычным способом, и он, может быть, хотел испробовать средство противоположное, – оно-то как раз и помогло. Удивительно только, как это женщины решили сами себя разоблачить, показав, что гнев лечит их лучше, чем кротость.
– Да уж, надо признаться, что меня это подняло бы не только с постели, но и из гроба, – сказала Лонгарина.
– А вообще-то что он ей сделал плохого, – воскликнул Сафредан, – он был уверен, что она умерла, и решил немного утешиться! Все ведь отлично знают, что узы брака длятся только покамест мы живем: со смертью они обрываются, и человек свободен.
– Да, свободен, – сказала Уазиль, – от клятвы и от обязанностей, только доброе сердце никогда не будет свободно от любви. Скоро же он забыл о своем горе, если даже не мог дождаться, пока жена испустит последний вздох.
– Меня больше всего удивляет, – сказала Номерфида, – что несмотря на то, что перед глазами у него была смерть и распятие, он дерзнул оскорбить Господа.
– Нечего сказать, нашли причину! – вскричал Симонто. – Вы, верно, не удивились бы никаким безумствам, лишь бы все это совершалось подальше от церкви да от кладбища?
– Смейтесь надо мной, сколько хотите, – сказала Номерфида, – но размышления о смерти способны охладить всякое сердце, даже самое молодое.
– Пожалуй, я бы с вами согласился, – сказал Дагусен, – если бы мне не довелось услышать от одной принцессы, что все иногда бывает и наоборот.
– Значит, она вам рассказала какую-то историю, – сказала Парламанта, – а раз так, то я уступаю вам место, чтобы вы, в свою очередь, ее рассказали нам.
Новелла семьдесят вторая
Исполняя последний долг милосердия и предавая покойника земле, монах совершил грех с монахиней, и она от него забеременела.
В одном из лучших после Парижа городов Франции находилась богато отделанная больница, вверенная попечению аббатисы и пятнадцати-шестнадцати монахинь, а рядом было еще одно такое здание, где помещался приор и с ним человек семь-восемь монахов. Монахи каждый день правили службу, а монахини читали только «Отче наш» и молитвы Божьей Матери, ибо остальное время были заняты уходом за больными. Однажды в больнице умирал какой-то бедняк, и все монахини собрались у его постели. И после того, как были испробованы все средства, чтобы его спасти, послали за одним из монахов, чтобы тот его исповедовал. Но, видя, что умирающий слабеет, ему и без исповеди дали причастие. Говорить он уже больше не мог. А так как он все еще был жив.и, казалось, все слышал, каждая из монахинь старалась сказать ему что-нибудь хорошее. Но в конце концов им это надоело, и, видя, что совсем стемнело и час уже поздний, они одна за другою отправились спать. И возле умирающего осталась одна из самых молодых монахинь и монах, которого все боялись больше, чем самого приора, ибо как речи его, так и жизнь были очень суровы. И после того, как монах громко прокричал над самым ухом несчастного молитву, оба они увидели, что тот уже не дышит. И они завернули его в саван, – и, выполнив свой последний долг милосердия, монах стал говорить о том, сколь суетна человеческая жизнь и сколь блаженна смерть. Было уже за полночь. Бедная девушка внимательно слушала благочестивые речи и со слезами на глазах взирала на монаха И тому так по душе пришелся этот взгляд, что, говоря о загробной жизни, он принялся вдруг обнимать ее, как будто хотел в объятиях своих унести ее прямо в рай. Бедная девушка, которая, внимая его речам, была уверена в том, что благочестие его беспримерно, не смела отклонить его ласку. Нечестивый монах это заметил и, продолжая свои благочестивые поучения, совершил над нею то, что обоим им в этот миг внушил дьявол, ибо до этой минуты между ними никогда ничего подобного не бывало. И он уверил несчастную, что грех, совершенный в тайне, не наказуется Богом и что мужчины и женщины, не соединенные узами брака, нисколько не оскорбляют творца, если дело это не предалось огласке; и для того, чтобы никто не узнал о том, что случилось, строго-настрого наказал ей исповедоваться только у него одного. На этом они и расстались. Она ушла первая, и, когда она проходила через капеллу Божьей Матери, ей захотелось помолиться. И, начав шептать: «Пресвятая Дева», – она вдруг вспомнила, что уже потеряла девственность и что никто ее не насиловал, а склонил ее к этому только нелепый страх, и она принялась так плакать, что ей казалось, что сердце ее рвется на части. Услыхав издалека ее тяжкие вздохи, монах догадался, что она все поняла и раскаивается и что теперь ему уже не придется тешиться с нею. И, чтобы не дать этим мыслям овладеть ею, он подошел к девушке, простертой перед статуей Божьей Матери, и стал строго ее отчитывать. И сказал, что если ее мучит совесть, то пусть она исповедуется перед ним; если же нет, то пусть она больше об этом не вспоминает, ибо он всегда может сделать так, что грех ей простится.
Глупенькая монахиня, думая, что она исполняет волю Божию, исповедовалась перед ним. И святой отец убедил ее, что в ее любви к нему нет никакого греха и что достаточно покропить святой водой, чтобы Господь простил ей этот пустяк. И, веря в монаха больше, чем она верила в Бога, она очень скоро вернулась с ним к тому, что меж ними было, и дело кончилось тем, что она от него забеременела. Тогда ее охватило такое раскаяние, что она стала просить аббатису удалить этого монаха из монастыря, ибо понимала, что он так хитер, что и теперь будет добиваться своего. Но аббатиса была в сговоре с приором, и она только посмеялась над ней, сказав, что она уже достаточно взрослая, чтобы себя защитить от мужчины, и что того, о ком идет речь, она, аббатиса, знает как человека в высшей степени порядочного. Прошло некоторое время, – и, охваченная порывом глубокого раскаяния, несчастная попросила, чтобы ее отпустили в Рим, ибо думала, что, если она покается в своем грехе перед папой, она снова станет девственницей. Приор и аббатиса охотно согласились ее отпустить, ибо считали, что лучше пусть уж она нарушит устав и станет паломницей, чем будет томиться в стенах монастыря и в отчаянии своем дойдет до того, что откажется этот устав соблюдать. И они дали ей денег на дорогу. Но Господу было угодно, чтобы, когда она находилась в Лионе, в церкви святого Иоанна, там оказалась герцогиня Алансонская, вскоре ставшая королевой Наваррской, которая приехала туда вместе с несколькими дамами из своей свиты, чтобы исполнить какой-то тайный обет. После вечерни обе они стояли там коленопреклоненные перед распятием, как вдруг герцогиня заметила, что какая-то фигура поднимается наверх. При свете свечей она увидела, что это монахиня, и притаилась в углу, чтобы расслышать слова ее молитвы. Монахиня же, будучи уверена, что в церкви, кроме нее, никого нет, встала на колени и, каясь в своем грехе, так плакала, что невозможно было слушать ее без жалости. И она громко воскликнула:
– О, горе мне! Господи, сжалься над несчастной грешницей!
Герцогиня захотела узнать, что с ней такое; она подошла к ней совсем близко и спросила:
– Милая моя, что с тобой и откуда ты?
Несчастная монахиня, не зная, кто с ней говорит, ответила:
– Увы, дорогая, горе мое так велико, что я уповаю только на Господа и молю его, чтобы он сподобил меня свидеться с герцогинею Алансонской, ибо ей одной могу я рассказать все о беде, которая со мной стряслась, и я уверена, что, если есть на земле правда, она найдет к ней путь.
– Милая моя, – сказала герцогиня, – ты можешь говорить со мною, как с герцогиней, ибо это моя близкая подруга.
– Не обижайтесь на меня, – сказала монахиня, – но своей тайны я, кроме герцогини, никому не доверю.
Тогда герцогиня заверила ее, что она может говорить со всей откровенностью, ибо перед нею та, кого она ищет. Несчастная бросилась к ее ногам и, заливаясь слезами и рыдая, рассказала ей свою печальную историю, которую вы уже знаете. Герцогиня сумела ее утешить и успокоить. Она не стала заглушать в ее душе раскаяние, но уговорила не ездить в Рим и отправила ее обратно в монастырь, снабдив письмом к местному епископу, в котором она приказывала изгнать оттуда нечестивца-монаха.
Рассказ этот мне довелось слышать от самой герцогини.
Теперь вы видите, благородные дамы, что бывают случаи, опровергающие то, что утверждала Номерфида. Оба они прикасались к покойнику и завертывали его в саван, но и это не избавило их от соблазна.
– Вот уж это действительно никому в голову прийти не могло, – сказал Иркан, – говорить о смерти и творить в это время жизнь.
– Грешить отнюдь не значит творить жизнь, – возразила Уазиль, – хорошо известно, что грех творит только смерть.
– Поверьте, – сказал Сафредан, – что эта несчастная даже не помышляла о вашей теологии. Вспомните о дочерях Лота, которые напоили своего отца, чтобы не прекратился род человеческий[208 - В Библии (Книга Бытия) рассказывается об истреблении Богом нечестивых городов Содома и Гоморры, откуда Бог вывел только Лота с его семьей.]. Так и эти несчастные хотели возместить разрушения, которые смерть учинила в бренном теле, тем, что сотворили в тот же час новое живое существо. И в этом, вообще-то говоря, не было бы никакого зла, если бы не слезы бедной монахини, которая не переставала плакать и никак не могла забыть о постигшей ее беде.
– Мне не раз приходилось встречать таких женщин, – сказал Иркан, – они плачут, замаливая свои грехи, и смеются, вспоминая о радостях, которые эти грехи им доставили.
– Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, – сказала Парламанта, – женщина эта немало уже посмеялась, пора бы ей и поплакать.