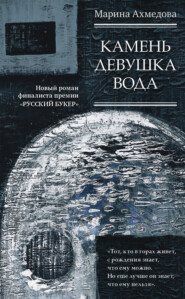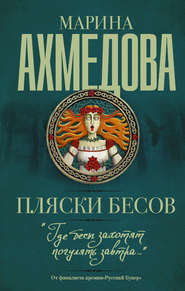По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Женский чеченский дневник
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да не помню я… – говорит она неразборчиво, смешивая звуки в кашу, как будто во рту ириска, склеившая верхние и нижние зубы.
– Она не помнит! – Телевизионщик, радостный, отнимает микрофон от ее рта.
– Вчера днем осколком снаряда была ранена фоторепортер… – Он четко артикулирует в головку микрофона, слегка рубя другой рукой воздух и, в общем, говорит голосом телевизионным – не тем, каким травил анекдоты в Назрани. – Возможно, результатом ранения стала частичная или полная потеря памяти, – продолжает он и снова поворачивается к забинтованной голове Наташи.
– Покажи, куда тебя ранило, – ласково просит он, хотя Наташа помнит, как грубо он послал ее месяц назад в ответ на просьбу освободить заднее кресло машины от аппаратуры – хотела доехать с ним из Назрани в Чечню.
У нее портится настроение.
– Записывай, записывай! – поворачивается он к оператору, а потом снова к Наташе: – Так куда тебя ранило?
– А не видно куда? – мрачно спрашивает она.
– Пальцем! Пальцем покажи!
– Хорошо, что меня не в жопу ранило, – четко произносит она, отлепив зубы от навязшего на них сна.
– Фу, дура! – собственный корреспондент отнимает от ее рта микрофон. – Ладно, сворачиваемся. События нет – она все помнит…
Увидев себя на фотографиях, сделанных коллегами в прошлый день, она себя не узнала. Неужели она такая? Короткие волосы собраны в хвостик дешевой заколкой с рынка, на щеке два широких мазка – один кровью, другой – грязью. К ее голове протянуто несколько рук – хотят помочь. Маленький золотой крестик на ее шее. Осунувшееся лицо с обиженно оттопыренной и посиневшей нижней губой. Глаза серьезные, с вдруг набрякшими веками. Взгляд – опущенный, глубокий и какой-то торжественный. Таким смотрят раненые солдаты с коек военных госпиталей на ее фотографиях. Взгляд, какого она никогда не замечала, глядя на себя в зеркало, потому что, подходя к нему, специально настраивала и глаза, и лицо – так поступают все, ведь никто не видит себя в зеркале таким, каким видят его другие. И зеркалу ни разу не удалось застать ее врасплох – ухватить истинное выражение глаз, которые тяжелеют, когда она на себя не смотрит. Выражение, которое может ухватить, сохранить и вернуть тебе на бумаге только фотоаппарат.
«Бедная мать», – подумала Наташа, разглядывая себя на фотографиях и затягиваясь сигаретой, а потом на ум пришло другое – нужно срочно найти штаны. Ее порвались, когда она водила ногой на операционном столе.
– Журналисты приходят, снимают, а у меня – жопа драная… – затянулась она еще раз.
19 июня 1995 года Наташа в чужих штанах и с повязкой на голове вошла во второй круг оцепления, оставив на проходной больницы расписку: «Прекращаю лечение по собственному желанию». Журналисты составляли список добровольных заложников – полевой командир покидал Буденновск и звал с собой желающих обменять себя на заложников. Первые желающие вписали свои имена еще вчера, поэтому сегодня – 19 июня – фамилия Наташи была внесена в список четырехсот какой-то.
– Я тоже хочу, – Наташа подошла к утверждавшему список генерал-лейтенанту и обиженно выпустила нижнюю губу. – Меня ранило, я была в больнице и теперь – в пятой сотне. Я бы раньше записалась… Можно обменять меня без очереди?
В первую очередь в больницу войдут «Тайм», «Сиэн-эн», «Би-би-си» – генерал растягивал иностранные названия, произнося «н» через нос. Потом пойдут ОРТ, РТР, НТВ, «Российская газета», ну и остальные – если останется место.
Наташа присела на землю возле БМП. Сидела и ждала, не думая о том, почему хотела попасть в больницу – не время было философствовать. В толпе возле нее стояли родственники тех, для кого стены больницы стали границей, через которую невозможно было переступить, потому что у них было отнято право самостоятельно выбирать направления. Право столь естественное, что начинаешь его замечать лишь после того, как упрешься пальцами ног в осязаемую границу, которой раньше на этом месте не было.
Она бы пошла менять себя на жизнь матери, если бы та оказалась в этой больнице, чтобы мать вышла из нее гуськом, прижимая, словно новорожденного, к своей широкой груди жизнь. Наташа бы добровольно вынула из себя свою жизнь, протянула бы ее на раскрытой ладони матери, сказала бы: «На, мать, живи». И Ленке – младшей сестре – протянула бы. А сама пошла бы к четырехэтажной границе, перешагнула бы через нее по собственному желанию, утратила бы право на направления, втыкалась бы носками кроссовок в пределы, которых раньше не было, и ни о чем бы не жалела. Но она не могла пожалеть женщин, запертых в больнице так, как пожалела бы мать и Ленку. Не смогла бы она вынуть из себя жизнь и протянуть им – «нате живите», даже если бы эту жизнь можно было нарезать кусочками и накормить ею не одну и не двух, а множество, пусть даже всех. Она не была героем, хотела жить и не хотела жить в общаге. Сидя на земле, она пыталась возбудить в себе жалость, которую можно нарезать большими кусками и протянуть: «Нате, сколько хотите». Но философствовать было не время. Огромной жалости она возбудить в себе не смогла, а вопрос «на хуя?» по-прежнему оставался актуальным, потому что общага тут, конечно же, была ни при чем.
Сидя на земле, Наташа прислушивалась к разговору водителя БМП с родственниками заложников, собравшихся толпой здесь же – неподалеку от больницы. Она видела только его пыльные солдатские ботинки. Он пружинил ногами, будто стоял на батуте. Когда он сказал, что знает, как освободить заложников, она задрала голову, чтобы увидеть его лицо.
– Надо просто взять и взорвать больницу. И тогда мы уничтожим всех боевиков. – Он накрыл кулак ладонью и повторил этот жест снова, как будто взял за горло полевого командира и прихлопнул его сверху.
Его лица Наташа не запомнила, но кулак и ладонь крышечкой появлялись на пленке ее сна регулярно – каждый раз, как мозг вынимал из архивов памяти ту, что подписана «Буденновск».
– Да я тебе за это… Гнида! – Два кулака потянулись к груди водителя, и в Наташином сне эти слова, сказанные сквозь зубы кем-то из толпы, полезли прямо из кулаков, с трудом протискиваясь через щели между сжатыми пальцами. Кулаки схватили еще горсть слов, сжали их, и те поползли из них «фаршем», на котором Наташа смогла разглядеть белые прожилки.
– У меня там мать и жена, – сказали кулаки, выжимая «мясо» из слов. – Вот своих привези и тогда бомби. Гнида…
Кулак опустился на лицо водителя. Ноги в ботинках спружинили сильней, но устояли, а потом подались вперед. Наташа не стала тратить на них пленку, даже не притронулась к «Никону», пусть дерутся, это событие – ничтожное ничто по сравнению с тем, которого она ждала.
– Все, кто едет, выходите сюда вместе с камерами! – вызвал желающих генерал-лейтенант.
Журналисты сделали четырехсотенный шаг вперед, и один из них был Наташин.
– Стойте! Стойте-стойте-стойте, – пунктиром слов он провел у их ног границу. – Сначала каждый из вас должен написать заявление. Вот его образец.
Слова, написанные синей шариковой ручкой на листе А4, должны были стать пропуском в больницу. В самом верху буквы собрались в свистящее «согласен». Этому слову была отведена первая строка, потому что оно было на листе главным.
– Согласен добровольно сопровождать группу Шамиля Басаева без предварительных условий и осознаю ответственность за принятое решение, – читал генерал-лейтенант, высвистывая «с» в тех словах, где она была.
– Нельзя ли использовать более мягкую форму? – спросили журналисты.
Они – люди, сделавшие картинки и слова своим рабочим инструментом, – знали, что делать с текстом. Нужно убрать из него свист, добавить разрыхлителя, чтобы не был жестким, и тогда они поймут, что этот текст можно проглотить и переварить. И тогда сотни рук смогут подписаться под этим новым заявлением.
– Как только автобусы с террористами и их добровольными заложниками выедут за пределы города, будет предпринята попытка захвата-освобождения, – сказал генерал-лейтенант. – Ес-с-ли в перес-с-трелке вас-с ждет с-с-мерть, мы не с-с-обираемс-с-я нес-с-ти за вас-с ответс-с-твеннос-с-ть».
– Так что? Никто не едет? – спрашивает он.
Вперед выходят несколько журналистов. Наташа среди них.
– Мало, – говорит генерал-лейтенант. – Нужно шестнадцать человек…
– Ребята, чем нас больше, тем больше шансов, что нас не убьют! – кричит Наташа во всю глотку, и услышь ее азербайджанец из Лужников, сказал бы, что она побила свой собственный рекорд.
Из толпы выходят еще несколько человек.
Сергей Тополь – корреспондент газеты «Коммерсантъ» – скребет то у виска, то за ухом, то подбородок. Он хочет переступить черту, но что-то сильной невидимой рукой возвращает его назад. Тополь колеблется маятником у черты.
– А гори оно все, – делает он твердый шаг. – Начальство не переживет, если «Огонек» и «Известия» поедут, а «Коммерсантъ» – нет. Уволят на хер. Давайте сюда свою бумагу – подпишу.
Тринадцать человек расписываются на одном листе под словом «согласен». Иностранцев среди них нет – без предварительных условий формулировка согласия для них слишком жестка.
– Вы еще можете подумать и, пока не поздно, вернуться, – говорит генерал-лейтенант. – Вы – добровольцы… У вас не будет статуса заложников… И никаких гарантий безопасности…
Тринадцать человек отделяются от толпы и идут в сторону больницы. Наташа вешает на шею фотоаппарат, предчувствует кадры и не спрашивает себя о том, что ее ждет.
Вчерашний день и каша из котелка казались ей далекими. Если бы не повязка на голове и не глухота на одно ухо, сегодня она думала бы, что это случилось во сне. Она была не так глупа и понимала – не окажись вчера рядом с ней живого щита, нечаянно выпущенный снаряд нарезал бы кусками не ее жалость, а ее тело, которое коллеги разобрали бы на кадры с разных ракурсов и расстояния. О ней бы поговорили вчера, а сегодня – забыли. О ней бы написали вчера, а сегодня газеты вышли бы из печати с кусками ее тела, размазанными свежей краской по страницам, и кто-то завернул бы в них остатки селедки или использованные женские прокладки прежде, чем опустить их в мусорное ведро. В редакции «Огонька» повесили бы на стену у входа ее увеличенное фото, обведенное черной полоской. Коллеги сказали бы о ней много красивых слов. Положили бы рядом четное число гвоздик. Выпили бы, не чокаясь. Выдавили бы из глаз каплю, а может, две. И ушли бы домой есть селедку. А она ушла бы во вчерашний день, потому что из сегодня ее вытеснило другое событие – более важное, более свежее. Только мать шумела бы по ней широкой грудью и сегодня, и завтра.
Сто раз она слышала фразу о том, что ни один кадр не стоит жизни. Эта фраза сидела в кармане каждого фотографа, даже новичка, и только ждала подходящего момента, чтобы ее вынули и помахали ею, как флагом. Она затерлась оттого, что вынимали ее слишком часто, ее слова потеряли форму и смысл, никто уже не вслушивался в нее. Она была, и ее не было. Но сегодня девятнадцатого июня тысяча девятьсот девяносто пятого года эта фраза выпрыгнула из Наташиного кармана, где давно лежала вместе с пленками и зажигалками, налилась смыслом и, выпуклая, встала у нее на пути в больницу. И Наташа как будто впервые услышала ее: «Ни один кадр не сможет остановить войну, хотя кадры война ценит больше, чем жизни. Но нет такого кадра, который стоил бы жизни». Наташа отпихнула ее ногой и пошла дальше, надеясь, что снаряд в одну воронку не попадет дважды.
Она выбежала вперед, повернулась лицом к идущим и сделала кадр. Лето, горячий асфальт. Листва деревьев, уже напившаяся зелени до предела и оттого загустевшая в темный оттенок. Сухая трава, невысокие домики по обочине, и они. Идут по асфальту. Ноги – в движении. Одни наступают с носка, другие – с пятки, кто-то давит на асфальт всей ступней. Детали, незаметные глазу, но отчетливые на снимке, пойманные объективом с поличным. Добровольные заложники идут, и будут всегда идти – в малиновой футболке, в джинсовой рубашке, расстегнутой до пояса, в костюме и при галстуке. На снимке они навсегда останутся не очень молодыми людьми среднего возраста, сколько бы времени ни прошло, и не героями, потому что у каждого из них были свои причины и свои не всегда героические хуи.
Вместе с другими она вошла в больницу и пробыла в ней несколько часов, пока не пригнали автобусы, в которых, прикрываясь заложниками, собирался вернуться на родину полевой командир. Наташа побывала на всех четырех этажах, и если бы не документальное свидетельство – отснятые ею кадры, то попыталась бы вычеркнуть из памяти всё, в тот день увиденное.
Коридор на втором этаже. По обеим стенам – заляпанные матрасы с больничных коек, пятна уже высохли. Люди сидят – по два-три на каждом, поджав или вытянув ноги – босые, в носках или бинтах. Стоит запах – плотный, кажется, его можно потрогать, но нужно быть очень талантливым фотографом, чтобы заставить снимок пахнуть.
Когда-то Наташа слышала – в будущем появятся фотоаппараты, способные не только фиксировать изображение, но и передавать его запах. К примеру, разглядывая кадр, на котором роза, можно будет почувствовать ее аромат. Только Наташа в это не верила – считала, что настоящий мастер заставляет зрителя чувствовать запах при помощи визуальных деталей. Впрочем, и розы всегда ассоциировались у нее с запахом говна.
В больнице пахло страхом, но словами она не могла описать его запах. Что в нем было? Кровь, запревшая моча, металлический холод автомата или пот, выходящий из пор вместе с гормонами страха? У нее сводило живот, и тянуло в туалет.
В туалете по кафельному полу разливалась лужа красной мочи, корабликами в ней кружили ватные тампоны и окурки. Лужа «ударила» Наташе в нос, и она вдруг поняла, что туалет и есть тот источник страха, который молекулами разложения расползается по всем этажам, проникает в легкие и щиплет кишки в животе. Обходя лужу, она замочила кроссовки, и теперь от нее пахло так же, как и от всех остальных заложников, дышавших этим в течение нескольких дней. Живот снова свело.