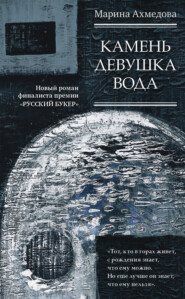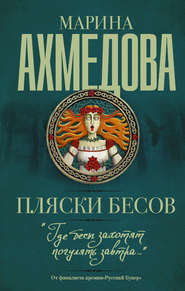По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Женский чеченский дневник
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты меня тоже сфотографируй, – попросил он.
– Кто это? – спросила Наташа у одной из стоящих рядом матерей.
– Какой-то полевой командир, – ответила та.
– Тут этих командиров вагон и тележка, – ругалась про себя Наташа, отщелкивая его, даже не прицеливаясь – все равно пленка потрачена зря. Вряд ли хотя бы одно московское издание захочет купить у нее никому не известного чеченского боевика. Тогда она пожалела на него пленку, а позже у нее купили всю эту съемку – только потому, что на переднем плане был он.
Второй раз они встретились в Шали, в бомбоубежище, в феврале. В тот приезд ей повезло – она познакомилась с сотрудниками местного телевидения и ездила по селам вместе с ними. Денег за проезд с нее не брали – действовали местные традиции гостеприимства. Традиции сразу пришлись ей по душе, ведь она смогла сэкономить на транспорте и на еде – кормили во всех домах, куда они заходили. С детства мать приучила ее быть экономной. Да и лишних денег у нее почти никогда не было.
В один из дней, похожий на все предыдущие, они въехали на служебных «жигулях» в ворота дома, который не отличался ото всех остальных. Выйдя, она достала из сумки фотоаппарат и блокнот, готовясь снимать обитателей дома и записывать их истории, и в этот момент увидела Алешу. Он входил в ворота, неся ведра воды. Поставил их на землю, утер нос дутым рукавом синей куртки, затворил за собой калитку и пошел мимо машины, опустив голову, ни разу не взглянув на Наташу. Она вздрогнула, когда, дойдя до дверей дома, он тихо позвал: «Ма-ма». На порог вышла женщина в наброшенной на плечи шали. Приняла ведра воды. Мельком посмотрела на Наташу, и той хватило этого взгляда украдкой, чтобы все понять.
Она сидела в небольшой комнате на полу вместе с сотрудниками местного телевидения перед расстеленной там же клеенкой. Жевала хлеб с сыром, но проглотить мешал комок, застрявший в горле. Старалась смочить его горячим чаем с сахаром и протолкнуть вниз. Она положила хлеб на клеенку. Встала.
– Сейчас вернусь, – сказала она.
Спустилась в подвал. Ни слова не говоря, присела на край лежака, накрытый матрасом в красном ситцевом чехле. Уперлась локтями в колени. За ее спиной на лежаке спал Алеша, отвернувшись лицом к стене. Сгорбившись, они обе долго молчали и хмурились. Женщина вздыхала.
– Почему вы не убежите? – наконец, проглотив комок, спросила Наташа.
– Куда? – спросила в ответ женщина, и они снова замолчали.
Наташе не нужна была история этой женщины, она такую уже слышала. Нет, не от нее – от других. И теперь читала несказанные слова в провисших носогубных складках этой русской женщины, в платке, из-под которого выбивалась короткая стрижка, в глазах, не мигающих от страха, но не за себя саму – за Алешу.
В девяносто четвертом сотни русских матерей ходили через войну, разыскивая своих сыновей. Они приезжали сюда наугад, просто потому что сыновья, ушедшие в армию, вдруг переставали слать им письма. Они уезжали на поезде из своих маленьких провинциальных городов, где жизнь – стоячее болото, в котором все, как заведено, все по плану – с утра и до вечера, где раз в пару месяцев – парикмахер, делающий химическую завивку или остригающий волосы по одному шаблону для всех. Они передвигались по чужой земле, шли от города к городу, от села к селу – через местную неприязнь, ведь это они родили сыновей, пришедших сюда воевать. Они прижимали к груди фотографии пропавших без вести детей, и думали, что они защитят их материнское сердце от пуль. Впрочем, некоторые из них ошибались – сердце в любом случае мягче железа.
Срочников брали в плен – в домах не хватало своих мужских рук, которые теперь держали автоматы против федеральных сил. Алеши рыли землянки, ходили за водой, свободно передвигались по селу, только убежать не могли: «Откуда ты такой курносый-голубоглазый? Не иначе убежал от соседа». Алеши не были опытными бойцами, не знали, в какую сторону бежать – еще год назад они сидели за партами в школе. И таких Алеш в девяносто пятом в республике было много – курносых, голубоглазых, восемнадцатилетних и неопытных. Иногда их – безропотно выполнявших домашнюю работу и не делавших попыток убежать – приносили в жертву, не развернув головой на восток. Просто потому что, пока Алеша ходил за водой, где-то в бою был убит сын чеченской матери – око за око, жизнь за жизнь. Все ведь были нервными. Война ведь. Алеши были готовы к тому, что в любую минуту за ними могут спуститься в подвал.
А в это время солдатские матери стучались в двери, останавливали прохожих, вынимали спрятанную на груди фотографию: «Вы не видели моего сына?» И шли дальше – вслепую, на ощупь или в указанном направлении. А найдя, уже не отлипали. Не возвращались в свои провинциальные городки, где больше шансов добиться обмена сына русской матери на сына чеченской. Надвинув платки по самые брови, они заходили в подвалы, гладили сыновей по голове, караулили их сон, когда те спали на ситцевых матрасах, отвернувшись лицом к стене, и принимали из их замерзших рук ведра воды. В общем, делили с ними все тяготы плена.
– Мамашки, блядь, – выругалась Наташа, сидя на лежаке, и закурила. Сомнений не оставалось – если у нее когда-нибудь будет сын, она назовет его Алеша.
У женщины во рту сидела именно такая история, но ей нужно было разжать губы и выпустить ее наружу – выговориться, потому что накопилось, накипело. Она говорила шепотом, чтобы не разбудить сына. Он сегодня устал – много работал.
И было в ее истории чудо. Она прошла всю Чечню – вдоль и поперек, кругом и маленькими крестиками, будто вышивала на ней узор под названием «мать ищет сына». Никто его не видел, никто не узнавал, а фотография на груди жгла ей сердце. И тогда присела она на скамеечку – тут в Шали. А фото жжет. Вынула его, глядит на бумажное лицо сына, а он там улыбается, сердце у нее ноет, сосуды рвутся, слезы бегут по щекам, капают на фотографию, она их вытирает рукавом – чтобы не замочить, не исказить черты сына. И говорит: «Господи, мне бы хоть одним глазком увидеть его. Ты слышишь, Господи – хоть одним глазком». Поднимает голову, а мимо идет ее Алеша – с ведрами воды. И тогда она к нему прилипла. И теперь они вместе – в подвале, вдали от своего провинциального городка. И что будет дальше, она не знает.
А дальше был обстрел, и земляной пол подвала ходил под их ногами.
Наташа вышла из дома – не хотела возвращаться к телевизионщикам.
– Пойду, прогуляюсь, – предупредила она хозяина дома, стоящего у крыльца.
– Под обстрелом не гуляют, – спокойно возразил он, но за этим спокойствием она угадала не тревогу, нет, что-то другое. Скорее всего в нем говорил голос традиций, без изменения переходящих из поколения в поколение. Традиций, законсервированных далекими предками по одним им известному рецепту. И это традиционное блюдо, приготовленное на века, способно насытить весь чеченский народ, заставить его грудью отражать все ветры перемен, обрушивающиеся на их маленькую родину, и жаждать свободы, как воды после соленой еды. Этот консервант въедался в их клетки, встраивался в генотип и неизменно присутствовал в материнском молоке. Чеченские матери не тратили слов – родившись, их дети уже знали, для чего были произведены на свет – для независимости и для противостояния. Матери знали – их дети сумеют приготовить блюдо по традиционному рецепту для будущих поколений, куда бы ни занес их ветер перемен. В любой точке мира они всегда оставались сыновьями своей маленькой твердой родины.
И сейчас этот консервант говорил хозяину, что из гостеприимных домов гости под обстрел не выходят. Гость не может погибнуть. Погибнуть может фоторепортер из Москвы, и ее смерть не будет иметь для хозяина дома значения. Он также усядется на пол перед клеенкой, поджав под себя ноги, запьет сладким чаем хлеб с сыром, и ему не придется проталкивать в горле комок. Но, находясь здесь, в Шали, и выходя из его дома, она погибать не должна. В доме ее плохо приняли, и она захотела уйти. Так скажут все – родственники и соседи, лично с Наташей не знакомые. Они будут передавать его позор из уст в уста. И позор этот начнет существовать обособленно от Наташи, имея к ней лишь косвенное отношение, а консервант, впитанный хозяином дома еще с молоком матери, будет делать свое дело – вступив в реакцию с людским осуждением, начнет вырабатывать токсины, постепенно отравляя жизнь этого человека. Вот почему он не отпустит гостью одну, даже если придется рискнуть своей жизнью.
Наташе нравились эти традиции. Нравилось, что в любом доме ее могут накормить и уложить на самое лучшее место, просто постучись она в дверь. Дверь откроется, неважно, чем заняты хозяева дома. Двери гостям здесь всегда открыты. Она снимала с этих чужеродных традиций только верхний слой, видела лишь внешнее их проявление, и ей не хотелось вникать в их суть – они были слишком стары и глубоки. Так глубоки, что незнакомый с ними человек легко мог в них утонуть.
– Когда будут перезаряжать оружие, мы уйдем в убежище, – сказал он.
Наташа в очередной раз подивилась парадоксу, скрытому в этих людях – хозяин дома в любой момент мог спуститься в подвал, чтобы отнять жизнь у русского Алеши, и при этом без колебаний отдать свою жизнь за русскую Наташу, только потому, что волей случая она в его доме была гостем.
Она вышла за ворота и сделала глубокий вдох – в доме ей было нечем дышать. Курица, приготовленная хозяйкой, пока она сидела в подвале, в горло не лезла, хотя с утра Наташа почти ничего не ела. Уже стемнело.
Свистело где-то справа. И-и-и-и-и – летел выпущенный снаряд, и, казалось, весь мир замирал в ожидании – где он упадет? Все замирало на этой земле – человек, зверь, растение, камень. Только инстинкт самосохранения пульсировал внизу живота – лишь бы пронесло. Когда, коротко выдохнув, снаряд ухал о землю – у-у – можно было расслабиться – до полета следующего. И-и-и-и-у-у – пронесло. И-и-и-и-у-у – пронесло.
– Я тебя провожу до комендатуры, – нагнал ее хозяин дома.
– Не надо! – крикнула она и пошла быстрее.
– Не идите за мной! – обернулась на него снова. – Возвращайтесь в дом!
И-и-и-и – мир замер, из него высосали все звуки, кроме одного этого. Время понеслось очень быстро. Наташино тело двигалось быстрей. Она побежала, и сейчас была всего лишь живым существом, откинувшим все данное человеку цивилизацией за последние века, повиновавшимся одному только первобытному инстинкту – выжить. Летело где-то совсем близко. В животе что-то оборвалось еще до того, как снаряд ударился о землю. Она метнулась в сторону, упала на землю, замерла, но еще успела подумать, что не надо было утром мыть голову. У-у – очень близко. Земля подбросила ее и снова поймала, низ живота дернулся, мочевой пузырь надулся и опал, но можно было расслабиться. Она поднялась с земли, мышцы ног дрожали. Потрогала промежность брюк. Не обмочилась. Хотела заплакать, не получилось.
Хозяин дома лежал на земле, не шевелясь, придавленный грузом старых традиций. Подойдя ближе, она поняла, что его больше нет, и вернулась в дом.
Тело занесли в дом, накрыли его простыней. Женщины не голосили. Осколком разорвало его печень. На том месте, где печень, на белой простыне выступило красное пятно.
– Можно его сфотографировать? – спросила Наташа.
Телевизионщики молча кивнули. Один из них был его братом. Эти люди уважали смерть, могли отдать жизнь за тела своих мертвецов, и она в этом еще убедится, покидая Буденновск. Но сейчас они хотели, чтобы Наташа сняла принадлежащий им труп и показала его отпечаток России – разрыв печени мирных жителей должен тронуть сердца русских людей.
Они расступились перед ее фотоаппаратом. Наташа встала прямо напротив трупа, оставив между ним и собой несколько метров. Простыня накрывала его с головой, но не дотягивалась до ступней, соединенных в пятках. Его синие носки были заштопаны в нескольких местах. Когда она вернется в Москву, этот снимок купит и напечатает какой-то популярный журнал, но заштопанным пяткам и печени на простыне не суждено было тронуть чьи-то сердца. Война продолжится, а у Наташи появится новая профессиональная привычка – снимать стопы убитых.
Старуха, наверное, мать, сняла со стены ковер. Пока мужчины заворачивали в него тело, она придерживала рукой низ живота, будто у нее под юбкой был спрятан арбуз и она боялась его уронить. Когда умирал ее отец, ее мать так же молча держалась за низ живота. Молчала ее бабка и молчала ее прабабка. Молчали все те женщины, которые были до них. И это женское молчание передавалось из поколения в поколение – вместе со старым рецептом. Арбуз ни разу не выпал и не покатился по полу к ногам их суровых мужчин. В старом рецепте не было ингредиента, очерствляющего сердца, и за многие поколения чеченские женщины не научилась смирять эту самую сильную мышцу в организме, но они научились молчать.
Послали за муллой. Мужчины сели на намаз. Хоронили уже сегодня.
Через час обстрел прекратился.
– Им подвезут новые снаряды, они перезарядятся и снова начнут палить, – обратился к Наташе брат убитого. – У нас полчаса. Сейчас придет машина из комендатуры и отвезет тебя в бомбоубежище. Мы завяжем тебе глаза. Не обижайся…
Ей завязали глаза шерстяным шарфом, от которого пахло стиральным порошком. После обстрела в городе было очень тихо. Люди боятся выходить из подвалов, догадалась она. Езда на машине к бомбоубежищу заняла двадцать минут. За это время шарф, закрывающий все лицо, стал влажным от ее дыхания. Ей казалось, водитель возит ее по кругу, не забывая поглядывать на часы – до начала нового обстрела оставалось несколько минут.
С нее сняли шарф, только когда она вышла из машины и прошла несколько метров вперед. Большая железная дверь была первым, что она увидела после того, как ей развязали глаза. Наташа не знала, где она находится – в самом городе или за его пределами, но сразу поняла, что это бомбоубежище строилось еще в шестидесятых годах, когда советская власть могла опасаться новой угрозы извне, подобной Второй мировой. Вместе с сопровождающим она спустилась вниз и оказалась в полной темноте. Было сыро. Водитель включил карманный фонарик, осветил неровные бетонные стены. В тусклом свете Наташа не увидела на них разводов влаги, но по запаху поняла – они есть. Она намотала снятый с лица шарф на горло – под землей было холодно.
Бомбоубежище разделялось отсеками. Она вошла в один из них. В темноте не смогла разглядеть его размеров, но стены давили на плечи своей близостью, и она не сомневалась в том, что отсек мал. Ударилась коленкой обо что-то твердое. Поводила рукой – холодный железный брус, металлическая сетка. Кровать, догадалась она и бросила на нее сумку.
Обернулась. Дверь напротив открылась, из нее в коридор выполз неяркий желтый свет, так контрастирующий с темнотой, что, казалось, его можно потрогать. Оставив свои вещи, она вошла в открывшуюся дверь.
Алеша чистил картошку. Его мать сидела на железной кровати в той же позе, в какой Наташа оставила ее пару часов назад в подвале – сгорбившись и обхватив руками колени. Другой Алеша сидел на полу, прислонившись спиной к холодной стене и запрокинув голову. Ей был виден только его подбородок, цыплячья шея и слабый кадык. Еще один пленник открывал жестяную банку с тушенкой. Их матери в платках и телогрейках – стояли у маленькой электрической плиты. Они повернулись в сторону Наташи, когда та вошла.
– Садись, – одна из них показала ей на табурет. – Скоро будем ужинать.
Наташе не пришлось представляться – им уже рассказали, что в Шали приехала русская журналистка. Она поискала глазами источник света. В желтом облаке горела лампа, прикрученная к стене проводами. Ее силы не хватало на весь отсек, свет лишь выхватывал из темноты контуры предметов и черты людей. Но звуки здесь были гулкими, отдавались от стен и расслаивались эхом, как и бывает в каменных мешках.
– Ну что, как там – в Москве? – спросила ее одна из женщин, ставя на плитку алюминиевую кастрюлю с водой.
Узнав, что она приехала из столицы, ей часто задавали этот вопрос: ну что, как там – в Москве? Что им на это ответить? Москва стоит – куда она денется? А сама Наташа кроме опостылевшей общаги, метро и недавно открывшихся по всему городу супермаркетов, почти ничего в столице не видела. В театры не ходила – ей хватало театра здесь, на войне. Но сейчас ей хотелось поддержать этих женщин, поднять им настроение хотя бы до утра, хотя бы на час или на пять минут. Она хотела заставить их снять платки и весело рассмеяться, ненадолго забыв о войне, о плене, о бомбоубежище.