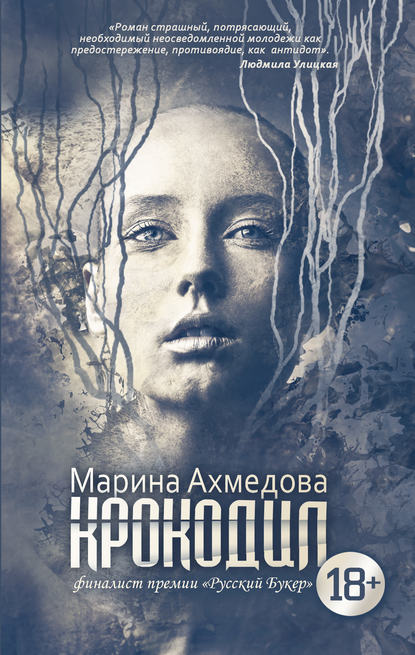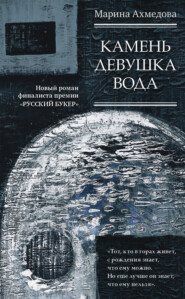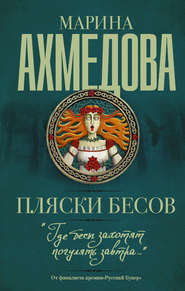По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Крокодил
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Плечи Лешки напряглись – он насильно прервал всхлип. Открыв рот, он дышал запахом матери – сначала кислым на поверхности, а потом каким-то другим – глубоким, желтым, похожим на аромат моченых яблок. Он хотел отстранить голову, вытащить ее из живота, но мать погладила его по волосам, и по хребту Лешки прошла дрожащая волна.
– Тю-у-у, – потянул он.
– А то, что тебе будут говорить, так ты не слушай, – снова заговорила мать. – Осень была, тепло еще было, и подъезд я выбрала теплый на кодовом замке… Сколько раз меня, сына, жизнь припирала. Столько всего я в этой жизни перенесла, что ни одна святая, может быть, такого не испытывала. Но я, как за ниточку, за тебя держалась. Как за ниточку путеводную. А потом, как эта история с цыганами вышла, так я…
До Лешки голос матери доходил из глубины и темноты, будто это органы ее говорили. Слова шмякались в живот, как куски горячего сала.
– А ты никого не слушай, сына, – сказала мать. – Пусть они языками своими говорят, а ты одно знай – не было такого, чтоб я, мать родная сыну родному… чтоб судить меня. Вот такая вот моя исповедь перед тобой. А те, кто судят, пусть они сначала вовнутрь себя заглянут. А ты суди меня, сына, ты суди, потому что виновата я перед тобой. Бог простит, и ты прости.
– Я ж это… ма, я ж тоже ждал тебя, – проговорил Лешка слюняво и глухо, и губы его всосали ткань материнской футболки, а когда она отняла голову сына от себя, на ее животе остались мокрые разводы.
Анюта решительно встала с дивана, вдела ноги в шерстяные тапки и пошла в кухню, ступая твердо и шумно, словно собиралась на скандал.
– А вот и Анюта пришла, – мать обернулась на Анюту. – Садись, садись, – заворковала она, выдвигая из-под стола еще одну табуретку и как бы приглашая Аню.
Анюта села. Мать пододвинула к ней полную рюмку. Анюта взяла рюмку, опрокинула и потянулась еще за бутылкой, воровато поглядывая на мать.
– Еще? – хлебно спросила та. – Так давай я тебе, Анюточка, сейчас налью. Давай поухаживаю за тобой.
Мать спала на диване. Лешка тоже – в кухне на дерматиновом уголке.
Мутными глазами Анюта обвела стол. На тарелке – остатки нарезанной колбасы и сыра с заветренными краями. Из-под тарелки торчало несколько сторублевок. Анюта потянулась за ними и спрятала в карман. Постояла еще, глядя на колбасу. Тихо жирно выругалась и сама вздрогнула, опустила глаза, сжалась, как если бы ее в этой кухне не было и сказала эти слова не она.
Из открытого рта Лешки повисла слюна. Анюта выпустила отрыжку, которая прошла рвотной волной по всей кухне.
– Вот че за человек такой? – тихо и с сожалением спросила она.
Свет падал выше Лешкиной головы. Его приоткрытый рот казался глубокой дыркой, и, глядя в ее темноту, можно было подумать, что Лешка пустой.
Анюта взяла пустую бутылку со стола. На дне еще болталась водка – пронзительно прозрачная. Аня потрясла бутылкой над рюмкой. Несколько капель упали на стекло, поползли резко, как живые. Она опрокинула рюмку на язык, и, чмокая, начала высасывать из него горечь.
Вышла из кухни. Остановилась у зеркала, висящего в коридоре. Оно смотрело в противоположную стену. Свет, идущий из кухни, растворялся в полумраке коридора. Анюта заглянула в темное зеркало, как в Лешкин рот. Высунула язык. На языке сидело коричневое пятно, казалось, оставленное теми словами, которые она только что произнесла.
Анюта тихо, стараясь не скрипеть полами, прошла в комнату. Взяла со стенной полки псалтырь и, не удержавшись, обернулась на мать. Та спала, коротко похрапывая и завалившись на бок. Бесформенный ее живот утек вниз. Прижав псалтирь к груди, Анюта сощурились и зашевелила беззвучно губами. Со стороны можно было подумать – она причитает или проклинает.
Анюта шла по улице Восьмого марта, по узкой кромке, отделявшей жилой дом от проезжей части. Мимо нее проносились машины, блестящие на солнце боками. Плечом она касалась шершавой штукатурки дома. От дома пахло тенью.
Большой зеленый супермаркет остался за спиной. Там же – вход в метро. И купол цирка – белый, ребристый, похожий на костяной остов большой рептилии.
Анюта шла и видела все – дома, людей и машины, но как бы на каком-то завихрении мысли переносилась в другое время – когда Аня была большой. Когда ногой могла попрать всю ширь пространства. Когда видела пространство выпуклым и многогранным. Когда в ней тяжелым яйцом билось большое сердце. Когда ноги были холодны, а голова – вертка. Когда вокруг была девственность. А Анюта была первой. Когда она была как бы младенцем с хвостом, чешуей и тонной мяса. И как бы ведала, что не повзрослеет никогда – потому что первые не стареют, ведь не знают, что жизнь кончается. Когда другие рептилии умирали вокруг, – но она не знала главного: что она – тоже рептилия. И потому умереть не боялась. И было это время, когда под ее тяжелой ногой дрожала земля. Когда твердокаменная голова поднималась на длинной шее, смотрела вдаль, но дали не было. Когда она видела свое отражение в озерах, блестящих на солнце водяными подносами, но не знала, что это – она. Когда она сама несла опасность. Тем, кто меньше нее. Когда ее саму окружала опасность – от тех, кто больше нее. Когда она не ведала жалости и никому не было жалко ее. Когда она, сотрясая ширь, убегала, нутром чуя: мир – это зло. А родивший его – не отец. Когда ведала, что мир есть добро, – глядя на тех, кого родила сама. Когда засыпала, не зная, что завтра будет. И каждое утро, просыпаясь, удивлялась, что она есть.
Пройдя Восьмое марта и поравнявшись с телебашней, Анюта сделала благостное лицо. Уже виднелись ворота Новотихвинского монастыря.
Время шло к закату.
От этого дня было чувство – время как бы вскользь по нему прошлось. Только он все равно еще не закончился. Но как бы чего теперь куда ни повернулось, все пойдет по-другому. Предчувствие какое-то в этом дне носилось. Неприятное.
По небу ползли скученные облака. И хотелось уйти с простора, забиться вглубь и ждать нового дня. Все вокруг было плоским и покатым, кроме белых башен Новотихвинского монастыря.
Калитка, вырезанная в цельном куске коричневого железа, была настежь открыта. Анюта остановилась в нескольких шагах от нее, перекрестилась и нагнулась, чтоб поклониться.
Нагнутая Анюта приподняла подбородок и посмотрела на лицо Христа над калиткой. В его позолоте мелькали первые признаки заката. И зачем-то Анюта стояла так, не распрямляясь, напрягая позвонки, с затвердевшим подбородком, без смирения, но с каменным горбом, точь-в-точь маленькая рептилия, не ведающая, чье лицо перед ней. Не ведающая, что у Бога есть Сын, а у Сына – Отец, просто смотрящая, чтоб по игре позолоты определить, когда солнце сядет.
И за калиткой монастыря все выглядело покатым – как будто с земли можно было скатиться. Во дворе, усаженном розами, на скамейках сидели женщины в платках с благостными лицами.
Анюта зашла в церковную лавку. Христос в серебряной раме на полке встретил ее бесстрастным взглядом. К нему была прикреплена бумажка: «Господь – 1200 рублей».
– На что я тебя куплю, ты думал? – сказала Анюта про себя, глядя строго ему в глаза.
Она наклонилась к стеклу, под которым лежали золотые и серебряные крестики и цепочки. И еще амфорка в виде кулона для ношения святой воды на груди. С яркой красной крышечкой.
– Мне одну свечку за двадцать и ладан, – сказала Анюта продавщице, придыхая.
Продавщица так легко и проворно подала Анюте длинную тонкую свечку и пакетик с ладаном, будто ее под руки держали порхающие благодатные силы. Лицо у нее было постным и безжизненным, словно в ее желудке давно не было ни жиринки.
Анюта расплатилась взятыми на кухне деньгами и вышла из лавки. Остановилась на верхней ступеньке, раскрыла пакетик с ладаном и высыпала несколько горошин себе на ладонь. Они были похожи на мертвые яйца. Пахли терпко и постно.
Прямо напротив ступенек за ажурным столиком сидели монахини в черных рясах и покрывалах. Скамейки из свежего лакированного дерева были взяты в черные металлические рамы с гнутыми ножками. Одна из монахинь сидела к Анюте лицом – сцепив руки на столе и подавшись головой вперед. Вокруг росли розы и даже небольшие фруктовые деревца.
Шум города если и перелетал через белую каменную ограду, то особо далеко не шел. На зеленой площадке, усаженной цветами, непонятным образом чувствовалась осень. И если вспомнить лицо Христа над калиткой, то и оно о том же говорило – об осени.
И все жужжало вокруг, звенело как бы траве. Монахини молчали. Из их пальцев змеями ползли черные ниточные четки. И казалось, что все эти жужжания, шорохи и звон воздуха исходят от них. Как будто журчало и звенело под рясами.
За спиной Анюты краснела кирпичная стена. Арочная дуга обнимала головки окна. Их было как бы три окна – в одном. Дуговое центральное стояло на двух полукруглых столбцах. К нему с боков жались окна пониже, тоже дуговые. Окно было похоже на складень, где посередине – Христос, а по бокам – Мария и Николай Чудотворец.
Оконные дуги шли ступенчато – тремя рядами кладки, спускавшейся вовнутрь, к деревянной раме. Рамы делились перекладинами на десять прямоугольных окошек, и сверху на них сидело еще одно – сферическое. В пыльных окошках отражались монастырский двор и небо.
И вдруг солнце брызнуло в стекла, напоследок выдавливая из себя золотой осадок, скопившейся за день. Анюта расслабила подбородок, ее губы мягко открылись, выпуская кисло-сладкое дыхание. Она смотрела в стекла, как в телевизор. В каждом стекле была своя картинка, хотя все они смотрели на одно. Картинка удлинялась в глубину, выпячивалась, оживляя в потустороннем пространстве золотой клен, растущий напротив кирпичной стены. И сразу стало понятно, что уже девятый час.
Монахиня, сидевшая лицом к Анюте, поднялась и отправилась по дорожке, перекатывая под рясой плотный зад. Анюта спустилась с лестницы и пошла за ней на расстоянии.
Они вошли в церковь, которая своей тишиной, приглушенностью, иконами и подсвечниками как бы говорила: в какую церковь ни войдешь, она всегда будет одной и той же.
Монахиня прошла к гробовому ларю на красном бархатном постаменте. Коснулась его лбом. Анюта подошла и тоже коснулась лбом ларя. Под затягивающим его стеклом на темной ткани лежали косточки, похожие на просмоленные курительные трубки.
Монахиня отошла к стене и приложилась к иконе святого – с головой коричневой и треснутой, будто печеная картошка. Анюта потянулась за монахиней, все заглядывая ей в лицо, но не поворачивалась и держалась в тени.
Монахиня молилась. Анюта безмолвно стояла у нее за спиной. Наконец, та подошла к иконе Николая Чудотворца, под которой стояла застекленная деревянная шкатулка. Анюта пошла за ней. Приложившись к шкатулке, та повернулась и встала перед Анютой. Ее лоб был усыпан гнойными прыщиками. Анюта отстранилась от нее.
– Одна монахиня старенькая в Масленицу захотела поесть блинчиков, – ни с того ни с сего заговорила монахиня сильным молодым голосом. – Время было советское. Скудность. Блинов ей никто испечь не мог. Она по привычке начала молиться о блинах Иоанну Крестителю, покровителю монашества. Иоанн Креститель явился к ней во сне и говорит: «Что ты меня о блинах просишь? Я же в пустыне жил. Как блинчики выглядят, даже не знаю. Ты лучше Николая Чудотворца попроси. Он все время вас утешает и балует». А через несколько минут стук в дверь, – улыбнулась монахиня. – Пришла соседка с блинами. Говорит: «Блины пекла. И вдруг мысль так настойчиво – надо матушке отнести».
Анюта подошла к шкатулке. За стеклом лежала одинокая косточка, неотличимая от сгнившего корешка. Анюта поцеловала уголок стекла, не задевая середины, потому что посередине лоб монахини оставил жирный отпечаток, круглый, как блин.
Монахиня развернулась и подошла к иконе, за которой начиналась солея. Анюта двинулась за ней.
Икона стояла на деревянной подставке. Над ней на цепях висела круглая двухъярусная люстра с лампадками – красными, зелеными, синими, словно драгоценности в золотой короне.
Взглянув на икону, Анюта сильно вздрогнула.