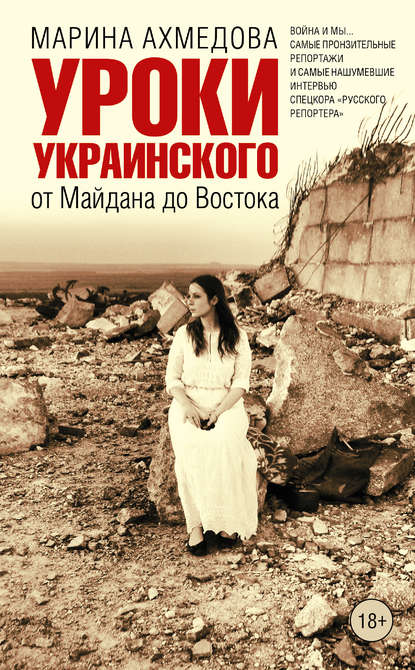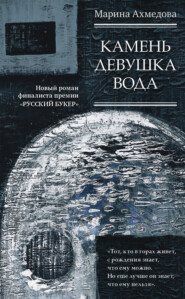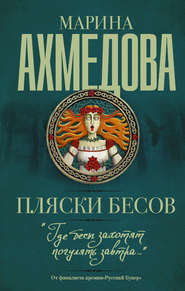По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Уроки украинского. От Майдана до Востока
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Долго, – подсказывают ему по-русски.
– Долго, – мягким голосом послушно повторяет он. – Дуже долго. Когда я побачив по телевизору, що народ кричит – «Банду геть!» – мени стало страшно – влада от Бога. Нас так выковали на Западе. А тут – «Банду геть!». Для мини банда – то преступное группирование. Но как побачив я Межигорье… Це – банда. И я чутки по-новому зразумил, що таке банда… – снизив интонацию, договаривает он, и зал как будто вместе с ним падает в паузу. – Украинцы – трудолюбивы, – тянет он, – религийны, не бандеровцы. Ну говорите – на-ци-о?на-лист. А що в этом слове погано? Це – своя культура, своя нация и своя любовь до ближнего, – он садится.
– Добре! Добре! – поддерживают его собравшиеся. – Мы – не фашисты! Не фашисты!
Собрание закончено. Все жители села Унятичи хотят пригласить к себе домой «москальского журналиста». На село опускается синяя ночь с яркими звездами. Я иду в дом к Богдану – он присутствовал на собрании, но от начала и до конца не проронил ни слова.
В кирпичном двухэтажном доме с просторной кухней за столом сидит семья – рыжеволосый Богдан, его жена Оксана и их сын Тарас. Нос у Богдана – костистый, лицо – скуластое, подбородок – мягкий. Жена накрывает на стол – доставая из холодильника продукты, купленные в Польше.
– Я раз в месяц в восемь часов утра выезжаю, а к ночи – уже дома, – говорит она. – Покупаем там все – мясное, всякие йогурты, кефиры, порошки для прачки, сыры – брынзовые, голландские. Там дешевле и качественней… У нас еще сын есть – учится в Харькове. Тоже на отца похож. У нас – гуцульский генотип. Женщины маленькие, как я, а мужчины такие – худощавые, жилистые, как Богдан. Тут же горы – пузатым по горам не походишь.
Она открывает альбом, показывает фотографии своих сыновей. И те, и ее муж – в вышиванках.
– У меня есть вышиванка, у старшего сына есть вышиванка, у Тараса есть вышиванка, – говорит Богдан.
– Только у меня нет, – смеется Оксана. – Я ходила, я пiдбирала для них узир, який подойдет моей детине и моему чiловеку. Потом вышивала, потом портнихе отдала. Тарас, иди принеси вышиванки, – говорит она, и сын, встав из-за стола, уходит в комнату. – Раньше дедушки внукам передавали память из поколения в поколение. Теперь фотографии есть. Как посмотрю, сразу что-нибудь вспоминаю.
– А чем ваше село живет? – спрашиваю я.
– Я на заводе нефтеперерабатывающем працюю, – отвечает Богдан. – Но на данное время там людей сокращают. Когда-то на заводе работало три тысячи человек, сейчас – тысяча двести. Туда привозят бензин, и по всей Украине его распределяют. Сейчас он как база, хранилище.
– А раньше завод был главным донором бюджета Львовской области, – в кухню заходит Андрей и еще двое сельчан. Они усаживаются за стол. Самый пожилой – выставляет на середину стола две бутылки медовухи. Богдан поднимает одну и тонко разливает по рюмкам.
– Раньше у меня было двадцать вахт, теперь восемь, – продолжает Богдан. – Сейчас у нас в основном жена работает.
– Иждивенец, – подмигивает ему дед.
– Могу в Польшу поехать на заработки – на стройку, – говорит Богдан.
– Просто есть разные работы, – говорит Андрей. – Уходит то украинское поколение, которое выезжало в Европу на черновую работу. Для младшего поколения система уже изменилась. Теперь наши женщины выезжают в Европу не для того, чтобы за старушками ухаживать, а работать медсестрами в поликлиниках. Поэтому мы хотели в Евросоюз – там было бы полное признание нашей квалификации. Вы знаете, что мы все – дрогобычская сотня, – он обводит пальцем мужчин, сидящих за столом. – Эти хлопцы первыми вошли в Межигорье и закрыли там финский домик на замок. Все спрашивали – что там происходит, почему закрылись? А я вам скажу, что они там делали – души и ванны принимали. Они не поняли, что там ручки – из золота. Поэтому ничего не взяли, – он смеется.
– Да мы в Москве еще не такие дома видели, – говорит самый молодой мужчина, пришедший с Андреем. – Мы же – строители. Строили дворцы. У вас в Москве таких дворцов, как в Межигорье, десятки.
– Я сказала, не пущу на Майдан, – говорит Оксана. – Он все сидел на диване – дергался, дергался. Я поеду, я поеду. Куда ты поедешь – там смерть ходит? Я рано пошла на работу, звоню ему – «Оксан, я поехал». Я говорю: «Почекай, я скоро буду». «Да я уже в Киеве скоро буду». Я села у телевизор и смотрела, не выключая. Кажна куртка, кажна шапка – думала, це мiй человiк… Мы поженились молодые и всю жизнь душу в дом и в сыновей вкладывали. Теперь его назвали фашистом, – говорит она, и Богдан краснеет. – А я его не боюсь. Я его жинка, я знаю все его плюсы, все минусы. Когда треба помовчати, а когда – тю-тю-тю. Когда можно узяти криком, когда – криком не можно. Но на Майдан не пустить – я его ни криком не могла, ни своим тю-тю-тю.
– А сейчас, когда во власть пришли люди, которых вы там видеть не хотели, вы не чувствуете себя обманутыми? – спрашиваю мужчин из сотни.
– Мы еще посмотрим! – хрипло объявляет Андрей. – Эти люди – они не разойдутся. Я – координатор всех сотен по западной Украине. Мы сейчас по всей стране образовали сотни – по старому казачьему обычаю. Для того, чтобы отстаивать свои интересы. Кончится эта война с Россией, у нас будет работать народная коллегия, которая пересмотрит все решения за последние восемь лет. Те, которые были и неправильными, и правильными. Мы вынесем решения и в отношении тех людей, которые их принимали.
– И что вы с ними сделаете?
– Просто уволим и больше не пустим во власть, – отвечает он. – А решения их отменим. Ну кто? Кто нас разгонит? Нас сотен – сейчас шесть с половиной тысяч человек.
– Мы соберемся всем сельским советом и будем их блокувати, – говорит Оксана.
– Они открыли ящик Пандоры, – хрипло тараторит Андрей. – И то, что оттуда вылезло, уже назад не загонишь. Тут все уже грамотные.
Когда мужчины поднимают рюмки с медовухой и слышится «чок», в кухню входит раскрасневшийся Тарас. Он несет свою вышиванку.
– Мам, она мне мала!
– Так я тебе еще одну вышью, син!
Западнее Львова
– Вы едете в Киев? – оконное стекло со стороны водителя опускается. Светлая, хорошо уложенная голова Ирины Верещук высовывается наружу.
– Я людей сбираю, – отвечает коренастый мужчина в черной кожаной шапке с козырьком. Заложив руки в карманы куртки, он стоит у дороги на одной из улиц Львова. Ждет.
Стекло снова поднимается. Машина трогается и медленно едет по примерзшей брусчатке.
– Это мэр Нового Раздола, – говорит Ирина. – Собирает своих людей в Киев. Мэры сейчас поднялись страшно, потому что реально денег в бюджете нет.
На площади Тараса Шевченко собрались люди – больше, чем та может вместить. Заполнены даже ступени, ведущие к ней. Над головами и зонтами поднимается каменная рука Шевченко и вонзается в серое утро. Синяя сцена Евромайдана желтеет флагом Евросоюза. Колонки далеко разносят голоса выступающих.
– А вчера было меньше людей, – говорит Ирина. – Все думали, Майдан уже заканчивается. Но после того, как мы увидели, что их там в Киеве бьют… Бьют сапогом, который мы купили за свои налоги, потому что думали, это поможет нашей беспеке… Как это слово по-русски? Безопасности! Если бы Янукович не трогал этих детей… Лично я на Майдан не собиралась. Я понимала, что буду бороться своими методами, буду пытаться достичь каких-то экономических договоренностей для своего города. Я после того, что они сделали, я со своими людьми из Равы Русской и соседних сел неделю простояла на Майдане в Киеве.
За поворотом Львов заканчивается. Вырастает белый кирпичный забор, покрытый налетом дорожной пыли. За ним растут темные деревья, густо усыпанные шарами потемневшей омелы.
– Почему люди вышли в этот раз? – спрашивает Ирина, обнимая ладонью переключатель скоростей. – Потому что людей снова обманули, им два года говорили – «Мы идем в Европу». И делали все для того, чтобы люди поверили этим словам. Но в один прекрасный день им сказали: «Нет, мы не идем в Европу! Это – невозможно! Россия сказала, что введет против нас санкции и экономика упадет!». А вы два года об этом не знали?! – спрашивает она украинскую власть, которая, конечно же, не едет с нами в одной машине. – Когда мне говорили, что курс нашего правительства – на Европу, мне это импонировало, я, как мэр, это подхватила и начала пропагандировать. Я всем говорила: «Мы – Европа!».
– А что делает вас Европой? – спрашиваю я.
За окном – лошадка, запряженная телегой, аккуратно переставляет копыта по обледенелой дороге. На обочине продаются метла и веники, составленные черенками друг к другу. Тянутся низкие дома, а над ними, на ветвях высоких деревьев – все та же омела.
– Мы – Европа, – отвечает Ирина. – Польская сторона буквально в двадцати километрах от нас. Нас разделили границей, но ментально разделить не смогли. Каждый год первого ноября поляки приезжают к нам на кладбище – там лежат их отцы, а мы едем к ним – там лежат наши деды и бабушки. Мы настолько повязаны, что… – она не договаривает. Журчит звонок в ее телефоне. – Еще один мэр звонит… – успевает она сказать мне. – Та, – говорит в трубку. – Мы едем. Я тарюся продуктами и еду после обида сегодня. Давай тарься и зустринемося. Добре, тремайся…
– Вы не боитесь, что после того, как Украина вступит в Таможенный союз с Россией, у вас, мэров малых городов, возникнут проблемы с властью? – спрашиваю я.
– Умные люди всегда боятся, – серьезно отвечает она. – Для нас это – уголовное дело. Но невозможно всех посадить. Так нельзя… Так с нами нельзя.
– А почему с вами так нельзя?
– Потому что в западных украинцах есть хребет, которого Янукович не видит и не понимает. Нас можно быстрее убить, но хребет не сломать. Люди будут стоять до конца, и чем больше он давит, тем только хуже… Слава Иисусу Христу, – подносит к уху трубку. – Та, та Отче… То передайти мени, я буду у Львове… Видите, у нас поднимаются все, даже священники, – говорит, положив трубку. – Батюшка хочет продукты на Майдан передать. Я уже четвертый раз еду. Люди сами звонят – «Ира, передай продукты, возьми деньги». У нас рядом с Равой Русской есть село, там пятьдесят домов, у них денег вообще нет. Я не знаю, откуда они взяли, но они мне принесли для Майдана пять тысяч гривен. Это, знаете, как получается? Каждый отдал половину того, что у него было. Кто не может поехать, тот деньги сдает. Понимаете, в чем дело? Нельзя нас оскорблять… Я – управленец, я служила в армии, потом работала юристом, и я не понимаю, зачем Виктор Федорович идет на такой конфликт с народом. Он мог элементарно сказать, что «Беркут» превысил свои полномочия.
Дорогу перебегает низкая рыжая дворняга. Ирина тормозит, пропуская ее.
– Собачку надо пропустить, она ж в Европе, – смеется она. – Такая облезлая европейская собачка.
– Как вы решаете проблему с бездомными животными?
– Да никак. А что, убивать их? Я не могу отдать такой приказ. Нужны деньги, чтобы вывозить их в питомники возле Львова. Но те люди, которым мы платим деньги за вывоз, довозят их примерно досюдова и выпускают. А они прибегают назад. Я когда увидела через неделю ту же собаку, спрашиваю: «Слушай, за что я заплатила тебе деньги? Мы все гуманные, я понимаю. А мне что делать?». Я помню, как пел Владимир Высоцкий, а я, как военная, его очень уважаю. «Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем. А этот милый человек был раньше добрым псом».
Картинка за окном меняется. Дальше от Львова в сторону польской границы дома становятся богаче. Кирпичные и каменные, они показываются из-за заборов серыми крышами. Один из домов – желтый, двухэтажный – облеплен антеннами-тарелками, как деревья омелой.
– Вы говорите, вы – Европа, – начинаю я, – но я смотрю на окрестности, и вижу – они больше похожи на Россию, чем на Европу.
– Конечно же, – быстро соглашается Ирина. – Поэтому мы хотим в Европу, а не в Россию. Если бы Россия была для нас примером, мы бы хотели в нее.