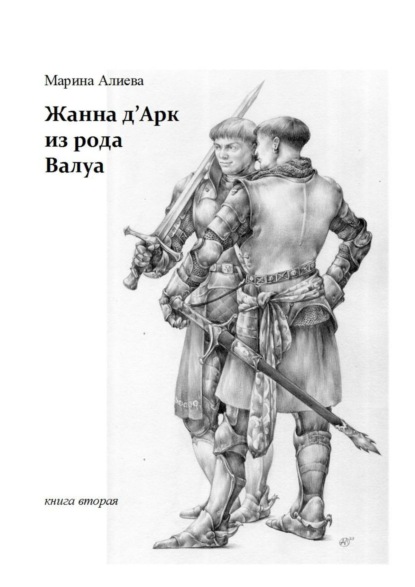По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жанна д'Арк из рода Валуа. Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О смирении, понимании и милосердии они говорили очень много и очень познавательно для преподобного Экуя. И, когда епископ умер, преподобный тихо закрыл глаза на просветлённом лице, не искаженном последними муками, и перекрестился без слёз, зная, что отлетевшая душа давно уже покоится в мире.
Целый год после этого вспоминал Экуй свои беседы с Жаном де Летра, готовясь понимать, прощать и сострадать. И даже желал, чтобы Господь послал ему достойное испытание, чтобы проверить прочность своих убеждений. Но действительность оказалась куда сложнее. Новый Бовесский епископ быстро развеял благостные заблуждения о понимании и доказал, что не только полюбить можно не всякого, но и понять…
Впрочем, начиналось всё не так уж и плохо. Смирный вид монаха, который был всего-навсего чтецом при прежнем епископе, обманул Кошона своей покорностью и обещанием преданности, если чтеца повысить, скажем, до писаря, а потом и до секретаря. Повышение произошло стремительно, но произвело эффект обратный тому, который ожидался. Преподобный Экуй был неглуп. И, получив доступ ко всем делам нового епископа, быстро разобрался, что сострадать тут нечему, понимать – сродни преступлению, и, как всё это прощать – неизвестно!
Когда обнаружилась пропажа короны Капетингов из хранилища в Мондидье, наказаны были все, кто подвернулся под руку, и без особых разбирательств.
– Меня совершенно не заботит, кто из них виновен, а кто нет, – надменно выпятив губу, заявил Кошон преподобному, явившемуся просить за дядю. – Я бы мог простить пропажу своей собственности, но собственность диоцеза есть собственность короля, которому я служу, поэтому наказаны будут все, без исключения.
Осуждённых церковников, среди которых были и очень старые люди, прогнали по улицам города босыми, с головами, посыпанными пеплом, а потом заставили замаливать свой грех, стоя коленопреклоненными на холодных плитах церкви целые сутки. Когда же сутки прошли, осужденных изгнали из города.
Преподобный Экуй изо всех сил старался понять и простить. Но, вместо этого, обнаружил в душе зародыш нового, неудобного чувства, которое, словно острый шип, кололо, не мешая только одному – состраданию изгнанным. Это чувство выросло ещё больше после изгнания в Женеву слишком милосердного Куртекуиса, потом укоренилось и стало разветвляться после каждого сданного города, разорённого аббатства или монастыря потому, что занимаясь делами Кошона, преподобный прекрасно знал всю подноготную каждой сдачи и каждого разорения.
Послушно, но уже не смиренно, составлял он списки награбленного и, делаясь всё более бесстрастным, хмуро наблюдал за кончиком пера, подчеркивающим то, что следовало перенести в кладовые епископа…
Ненависть!
Имя нового чувства определилось после сдачи Мо, когда на пыльной улице, среди сгоревших домов и трупов людей, умерших от голода, Монмут решал судьбы тех, кто остался жив… Монахов привели последними. И даже те, кому уготовано было повешение, пали на колени, моля о милости для этих троих. Сами же они ни о чём не просили и не было ничего героического в этих трёх человеческих остовах, еле держащихся на ногах… Если бы не взгляд.
Так смотрел когда-то прежний епископ Бовесский, когда говорил о своём понимании смирения. И смертельно уставшеё лицо Монмута дрогнуло. Что-то беспомощное промелькнуло в его глазах отголоском последнего крика о милосердии.
«Я благословлю службу тебе, если ты их помилуешь», – подумал преподобный, задерживая дыхание, чтобы не спугнуть готовые сорваться с губ Монмута слова.
Но тут вперед вылез Кошон со своими обычными речами об оскорблении королевского величия, и момент был упущен.
– Делайте с ними то, что считаете нужным, – поморщился Монмут, разворачивая коня.
Суд закончился. А в душе преподобного не осталось ничего, кроме пышно цветущей ненависти. «Ненавидеть, значит признавать в другом существование наихудших пороков. Признавать это, значит желать отомстить за всё сотворённое зло. А предаваясь отмщению, становишься таким же, ненавидимым… Что ж, я и стану! Милосердие и сострадание защитить себя не могут, но кто-то должен противостоять этому злу!»… Экуй в последний раз вспомнил слабую улыбку монсеньора де Летра и его слова о прощении и понимании, и в последний раз улыбнулся своим давним, наивным убеждениям. Больше он это вспоминать не будет! Он всё решил, и безжалостно растоптал в своей душе то, что могло принести ей мир и спасение.
С тех пор, бесстрастный и хмурый, Экуй ждал только подходящего случая. О делах Кошона с герцогом Бургундским он знал только в общих чертах, потому что вплотную к этим делам не подпускался никто. Но, когда епископ послал его за картами и документами, отложенными в специальный походный сундучок, Экуй сначала просмотрел их сам, а потом, ни в чём не сомневаясь, свернул и положил в карман всего один листок, исписанный рукой Кошона. Даже если пропажу заметят, всегда можно сказать, что листка этого и не было. И пусть докажут, что он его взял! Берут обычно то, что нужно, от чего можно получить выгоду, а какая может быть выгода от этого листочка секретарю епископа – члена королевского совета, обласканного всеми правителями, кроме одного, весьма сомнительного, служить которому сейчас совсем не выгодно? Нет, Кошон своего секретаря в краже не заподозрит. Скорее подумает, что листок затерялся во время маленького происшествия по дороге в Амьен, когда его карета завалилась на бок. Тогда много вещей рассыпалось…
А дальше… Дальше оказалось ещё проще!
Как только стало известно, что монсеньор епископ собирается хлопотать о сдаче Кротуа и снова собирается в дорогу, Экуй купил у знакомого лекаря снадобье, от которого слёг, как будто, в горячке. Охая и морщась, он пообещал Кошону догнать его, как только почувствует себя лучше. Но, едва весь епископский кортеж скрылся из вида, преподобный поднялся и стал собираться сам. Свою походную суму он набил всяким ненужным тряпьём, чтобы выглядела соблазнительно наполненной, надел заметный зеленый плащ с гербом епископа поверх теплого, неприметного, серого, и, дождавшись следующего дня, выехал из городских ворот, стараясь казаться совсем больным, и в такое время, когда его могло увидеть, как можно больше народу.
Проехав несколько сот лье, Экуй сбросил зеленый плащ, закопал подальше от дороги тряпьё из своей сумки, а саму сумку, надорвав и измазав кровью из безжалостно надрезанной руки, бросил рядом с плащом. Притоптал вокруг землю так, как это бывает на месте драки, а потом, взобравшись на коня, поскакал в сторону Бурже, моля Господа о том, чтобы оберёг от шатающихся наёмников и обнищавших крестьян, чьей жертвой должен был считать его отныне епископ Кошон.
– Сударь.., сударь, очнитесь! Кто вы такой, и что вам угодно?
Голос заставил Экуя вздрогнуть. Средних лет дама, явно из числа фрейлин герцогини Анжуйской, смотрела на него вопросительно и сердито. Кажется, он заснул, дожидаясь внимания к свой персоне, и теперь выглядел не понимающим, где и зачем находится.
– Простите… Я слишком долго сюда добирался.., – пробормотал Экуй.
Вытащил из-за пазухи драгоценный листок, уже изрядно измятый, и протянул фрейлине.
– Прошу вас, мадам, отдайте это её светлости. Если герцогиня захочет меня после этого принять, я дождусь и всё о себе расскажу. Если нет – ждать мне больше нечего и называть себя незачем.
Он проводил глазами листок, уносимый фрейлиной, и впервые за всё последнее время, подумал, что сведения, ради которых так рисковал, могут здесь никого не заинтересовать. Или понадобятся более подробные разъяснения о делах Кошона с герцогом Бургундским, дать которые он бы не смог, даже при полной готовности вспомнить каждое услышанное слово. Преподобный принялся в тысячный раз перебирать в уме всё то, что затвердил по дороге, пока восстанавливал в памяти дела Кошона за последний год, но не успел перечислить и половины, как вернулась фрейлина, которой он передал листок.
– Её светлость желает вас видеть.
Экуй поднялся, чувствуя себя, как гребец на судне без парусов, чьи движения определяются звуком барабана. Сейчас барабаном было его сердце.
– Герцогиня примет меня лично? Одна?
– Не заставляйте себя ждать, сударь. Её светлость свободным временем не располагает…
В комнате, куда привели преподобного, были соблюдены все меры предосторожности. Мадам Иоланда стояла возле приоткрытого окна, а от неизвестного посетителя её отделял широкий стол и, стоящий перед столом, важного вида рыцарь, чей настороженный взгляд не вызывал сомнений – своё дело телохранителя рыцарь знает очень хорошо. Но Экуй всё равно мысленно усмехнулся. На службе у Кошона он имел удовольствие общаться с итальянским наёмником, которого специально вызвали для «деликатных поручений». Чувствуя превосходство над смиренным монахом, этот ломбардец щедро делился секретами своей профессии и с откровенным удовольствием, давал советы «на всякий случай», который всегда может произойти в это непростое время. Поэтому-то, оценив принятые против себя меры предосторожности, преподобный невольно прикинул, что, будь он наёмным убийцей, ему не составило бы труда усыпить бдительность рыцаря тихим разговором о деле, ради которого он пришёл, потом нанести внезапный, рассчитанный удар кинжалом в шею, а потом, пока герцогиня, отрезанная от выхода столом, будет звать через окно подмогу, убить и её…
Но Экуй не был убийцей. Он был человеком, доставившим сведения, в нужности которых, всего минуту назад, сомневался. Теперь же, увидев, что принимают его при такой малой охране, быстро сообразил – его сведения не просто важны! Они ещё и настолько секретны, что герцогиня, даже рискуя оказаться лицом к лицу с убийцей, удалила из комнаты всех лишних, включая свою охрану, и оставила только этого рыцаря, который, видимо, в курсе всех дел…
– Ваше имя, сударь, звание и имя господина, которому вы служите, – отрывисто, словно отдавая приказы, произнес рыцарь.
Монах низко поклонился.
– Преподобный Гийом Экуй из Бове. Мой отец служил оруженосцем у мессира де Шартье. Погиб при Азенкуре. Как младший сын, я принял сан и поступил на службу к епископу Бовесскому. При монсеньоре де Летра состоял чтецом, при нынешнем епископе – секретарь. Эти записи я выкрал из его бумаг.
На последних словах Экуй протянул руку, указывая на измятый листок в руках герцогини, и заметил, как напрягся, при этом его движении, рыцарь, и как откровенно и твёрдо взялся он за рукоять своего меча.
– Я хочу знать, для чего вы это выкрали? И как пробрались в Бурже, учитывая, кому служите? – подала голос герцогиня. – Сюда не все наши друзья попадают вот так, запросто.
– И я попал не запросто, ваша светлость, – хмуро ответил Экуй. – Но, видимо, Господу не были угодны дела монсеньора епископа и в дороге Он послал мне попутчиков, которые сочли меня другом, достойным доверия и помогли попасть даже сюда.
– Кто они?! – спросил рыцарь.
– Они преданные вам люди, мессир.
– А знали эти преданные люди о том, что вы – секретарь, крадущий бумаги у своего господина? – спросила мадам Иоланда. – Согласитесь, после такого, мне почтить вас доверием трудно.
Монах поклонился ещё ниже.
– Воля ваша, мадам. Но я ненавижу епископа Кошона, господином своим его больше не считаю, и готов поклясться на Библии, на святом распятии.., да хоть перед самим Господом нашим, что ненависть свою не назову даже грехом, потому что выносил её, сострадая тем, кто был Кошоном погублен.
– Речь достойная.., – мадам Иоланда отошла от окна и бросила измятый листок на стол. – Теперь так же достойно объясните, почему вы выкрали для нас именно это?
– Я не мог взять документы – Кошон за ними очень следит. Но здесь, на этом листке, он переписал для герцога Бургундского все города и области, которые их, почему-то интересуют. Для последней встречи с герцогом мне было велено подготовить карты восточных областей, и, особенно подробно, все укрепления округа крепости Вокулёр, которая на этом листке подчеркнута, как и Витри-ан-Петруа.
– Вы знаете, для чего это?
– Знаю… Не всё, правда, но достаточно для того, чтобы понять – захват этих областей может каким-то особым образом навредить вашей светлости, или его высочеству дофину…
Как мог, подробно, Экуй рассказал о подслушанных планах епископа и герцога Филиппа, признавшись, что далеко не всё слышал отчётливо, потому что говорившие часто понижали голос до шёпота. Но о готовящемся нападении на Витри и нарушении суверенитета Вокулёра слышно было достаточно хорошо. К тому же, о том, что это не просто обычный захват крепости, а настоящий заговор говорили и донесения епископских шпионов, засланных в Барруа и Шампань, которые Экуй принимал по долгу службы и, разумеется, читал.
– Нам вредит захват любого города, – заметила мадам Иоланда, когда Экуй закончил. – Почему вы решили, что особенно важным является именно захват Вокулёра?
Преподобный замялся. Чтобы ответить, надо было рассказать о том, что он слышал ещё про какую-то девочку – то ли дочь, то ли воспитанницу некоего Арка, который, (вот уж странность!), сумел купить с аукциона целый замок! И о том, что, говоря о ней, епископ и герцог поминали царя Ирода и королеву. Слышал об этом Экуй очень смутно, не понимая до конца связи одного с другим, однако, догадался, что именно здесь скрыта главная тайна, и кое-что додумал сам. Додумал и ужаснулся! Предположения его были столь невероятными, что, пожалуй, незачем было говорить об этом герцогине. Если он прав, то тайна эта связана с незаконным рождением и, возможно, с ещё одной претенденткой на престол. И знать её, даже для людей более высокого положения, прямой путь на плаху или под нож наёмного убийцы. А он, кажется, прав… Листок, исписанный Кошоном, явно герцогиню разволновал… Что ж, коли так, она и сама знает, в чём там дело. А его, Экуя, задача – только предупредить и помешать планам Кошона, не выставляя напоказ свою догадливость…
– Вокулёр – крепость, двести лет имеющая определённые права и, фактически, никому не принадлежащая… То есть, при случае, оспаривать эту землю могут и губернатор Шампани, и ваш сын, мадам… Может быть, всё дело в этом?