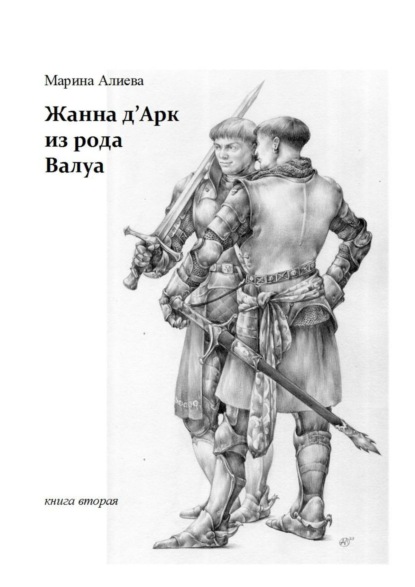По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жанна д'Арк из рода Валуа. Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мадам Иоланда накрыла ларец с короной парчой и, словно запечатывая, прижала её сверху ладонями.
– Истинным помазанником.., – пробормотал Рене. – В Шато д’Иль я видел записи, которые делает эта девочка. Они, как Реймское евангелие, которое никто не может прочесть…
– Вот видишь! Было бы нам всё это явлено, не исполняй мы Божью волю?
– Но которая из двух девочек встанет возле Шарля на коронации?
– Разумеется, та, которая будет воевать, – не задержалась с ответом мадам Иоланда. – Настоящая миссия другой раскроется, возможно, позднее, и уже не нами. Мы можем только оберегать, но никак не управлять ею. Но раскроется её миссия не через войну, в этом я уверена. Как и в том, что обе девочки должны быть возле Шарля. Одна, зримая, как сестра по крови, а другая – по духу высшей власти, невидимая, как святой дух в коронационном елее. И тогда Франция обретёт, наконец, короля, при котором достигнет величайшего процветания. А вы, мои дети, будете спокойно править в своих герцогствах…
Франция. Венсен
(31 августа 1422 года)
Высокие жёсткие подушки сползли, давили под спину и словно ломали её. Хотелось сменить положение, но не было сил. Как не было их и на то, чтобы кого-нибудь попросить. Тонкая полотняная рубашка взмокла от пота, облепила пылающее жаром тело и жгла, словно власяница. Но это было уже всё равно, потому что хотелось только сменить положение, чтобы облегчить спину.
«Я что умираю?.. Вот так, скоро и просто, от обычной простуды, как какой-то простолюдин? Как раб, из последних сил добравшийся до своей постели с пашни, которая составляла весь смысл его существования? Я?! Желавший дожить до седин, чтобы передать потомкам крепкое государство мной же образованное? Я умираю?!!
Но зачем тогда было дразнить меня чудом славнейшей победы? Договором о величайшей мечте, до которой оставался всего шаг? Скорым рождением наследника – этой благодатью продления рода и первым побегом новой династии? Зачем?! Леопарды и лилии сплелись на мантии… Только на мантии они дружны… Но нет, и там продолжают грызть друг друга – вон сколько крови! Она сама, словно мантия, течёт по плечам. И горячая, горячая, горячая…
Может быть, я еретик, и Господь повелел сжечь меня?
И вот, я горю!
Но пламени нет. Значит, я не еретик – оно меня не коснулось! А горит всё вокруг. Это дома в Мо… Или в Мелене? Нет, это Арфлёр… Или Руан? Я уже не помню, как они выглядели, только стены, стены и стены.
Глухие стены, которые надо было пробить.
Как злое сердце, отбивающее…
Что?
Мои последние минуты?!
Нет, я ещё жив! Господь всемогущий, ты ведь не пронзишь огненным мечом того, кто готов сдаться в плен? Мой выкуп драгоценнее любого другого – два могучих королевства…
А-а-а, нет, это я отдать не могу…
Это принадлежит моему сыну – Твоему помазаннику… Ты ведь дашь ему жизнь долгую и счастливую, да, Господи? А мне…
Мне тоже нужна жизнь!
Я уже взял очень много разных, но разве то были жизни? Мне нужна моя, чтобы закончить…
Я что, опять пылаю? Или это боль в спине, жгущая, как огонь? Хоть бы кто-нибудь… Ведь стоят, вон там, в углу… Трое стоят и смотрят. Чего они ждут?
Когда я умру?
Эй, вы… Кто такие? Почему возле меня французские монахи?!
Ах, да… Это те.., из Мо… Даже не пытались бежать… Говорят, за них просил каждый, кого мы отправили на казнь. Милосердные утешители осаждённых… Вы и меня пришли утешить? А я не при чём… Мне было всё равно… Это Кошон, мой французский советник… «Кошон», кажется, «свинья»? Конечно, свинья! Французская свинья рылась под дубом и отрыла три трюфеля. А потом сварила их в котле… Нет, не в котле! Там была тюрьма, а в ней очень жарко… Да, жарко, как в моём теле!
Тело – тюрьма для духа…
А если дух в тюрьме, значит, он тоже не желал сдаваться?
Но кому?
Тому, кто требовал смирения?
Выходит, я всё же, еретик?
А, чёрт побери, какая разница?! Я был велик и тоже мог себе позволить делить на правоверных и еретиков. Но хрипели и корчились в муках и те, и другие… Умирают все одинаково.
Даже я…
А разве я умираю?!
Да, кажется…
Господи! Ни о чём не прошу, только пусть кто-нибудь подойдёт и повернёт меня!
И этот огонь… Пусть раздвинут хворост! Я хочу узнать, чего ждут эти монахи?
Кажется, не смерти?
Они думают, я встану рядом с ними?
Нет? Много чести?.. Три трюфеля в котле… И свинья… Она что, подбрасывает хворост?! О, Господи! Дай мне силы сменить положение! Я хочу встать и посмотреть им в глаза!
Я – великий король, который не должен умирать в своей постели, сгорая, как еретик! Я вообще не могу быть «как» – я «есть»! Я бессмертен! Бес… бес смертен… смертен бес… Я – бес! Сам дьявол! И готов восстать, чтобы жить дальше! Пошли вон, монахи! Много чести… Совершить подлость ради победы, знать, что это подлость и знать, что это же знают все остальные, но все же сделать – это тоже требует мужества. У меня одного его хватило против всех вас – милосердствующих и мрущих по воле равных себе…»
Слабая рука поверх простыни дернулась, сжимая пальцы в кулак. Только два – указательный и безымянный – остались почти прямыми и медленно расползлись по влажной ткани.
«Аминь, Господи! Вот моя честь – я не трус, и этого довольно».
Герцог Бэдфордский привстал, тревожно вглядываясь в лицо на жёстких подушках.
– Милорды…
Все, находящиеся в комнате, бросили перешёптываться и, не сговариваясь, посмотрели на постель.
– Кажется… Всё.
Бэдфорд медленно подошёл и склонился над изголовьем. Бесконечно долго он вглядывался в лицо брата, словно на глазах меняющее свои очертания. Потом, так же медленно, не разгибаясь, закрыл остановившиеся глаза.
– Король умер, – сказал Бэдфорд. – Да здравствует король Генри Шестой.
Франция