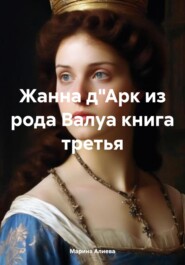По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жанна д"Арк из рода Валуа книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ваша светлость, – говорил Кошон, стараясь не обращать внимания на сурово сведенные брови Филиппа. – Из этих бумаг становится ясно, что вашего батюшку убили не по каким-то личным соображениям, а из тонкого политического расчета. Просто в свои дела его светлость благоразумно никого не посвящал, понимая, как это может быть опасно. Однако он что-то искал… Связь между Иоландой Анжуйской и Карлом Лотарингским, их общие дела – во множестве документов, которые пометил ваш отец, видны отчетливо. И дела эти явно направлены не только на брак между сыном герцогини и дочерью герцога. Скорее, этот брак стал необходимым условием для успешного выполнения их плана… Ознакомьтесь с документами, ваша светлость. А если что-то будет непонятно, сразу посылайте за мной – ведь кое-что из этих бумаг добыл для герцога Жана именно я.
После такого вступления Филипп, естественно, не мог отмахнуться от докучливого прелата. А когда внимательно изучил полученные бумаги, был вынужден послать за Кошоном и провел с ним взаперти почти целый день.
Масштаб планов мадам Иоланды, расписанный рукой герцога Жана по пунктам, поразил их и размахом, и остроумием самого замысла. Лотарингская Дева, о которой толковали уже не одно столетие, пришлась бы сейчас очень ко двору в Пуатье и стала бы для дофина Шарля настоящим спасением. Но, как ни прикидывали Филипп с Кошоном, все равно выходило, что не герцог Бургундский, а сам дофин расстроил все эти грандиозные планы, запятнав себя поступком, несовместимым с королевским достоинством. И теперь, явись такая Дева перед лицом Европы – и там, и в самой Франции мало нашлось бы желающих поверить, что Господь посылает свое благословение убийце.
– Что-то тут не вяжется, – бормотал Филипп, окончательно забывший за этот день о своей неприязни к Кошону. – Выходит, что смерть моего отца им только навредила, но отца тем не менее убили…
– Может, у всего этого есть «двойное дно»? – предположил Кошон. – Если вашей светлости будет угодно, я мог бы продолжить собирать сведения.
– Я подумаю…
Герцог вдруг обнаружил, что, помогая разбираться в бумагах, преподобный явил не только недюжинный ум, но и особого рода сообразительность, толкуя некоторые события, изложенные в донесениях, с таких позиций, до которых сам Филипп с высоты своего положения никогда бы не снизошел. В конце концов, отдавая должное неоценимым качествам прелата, он был вынужден признать, что людьми, подобными Кошону, никогда пренебрегать не следует, и что отец его поступал достаточно мудро, благодетельствуя людям низкого сословия, из которых потом получались слуги, преданные как псы, которых со щенячьего возраста кормила одна и та же рука.
– Я подумаю, – повторил герцог более мягко. – И обязательно дам вам знать о любом своем решении.
С большой неохотой, озаботившись еще и скрытой угрозой со стороны планов мадам Иоланды, Филипп стал собираться в дорогу, прикидывая, что лезть открыто в это дело, пожалуй, не стоит, иначе можно и секирой по голове получить. Но обезопаситься крепкими союзниками стоило. Поэтому, припрятав пока бумаги Жана Бургундского в надежное место и не затягивая надолго сборы, герцог с Кошоном прибыли в Труа 22 марта. А потом почти месяц дожидались приезда английского короля, регулярно встречаясь и обдумывая дальнейшие действия.
– Полагаю, нам следует на время затаиться, – тихо проговорил Филипп, когда после подписания договора Кошон протолкался к нему сквозь толпу придворных. – Посмотрим, что будет дальше, а там сориентируемся и решим. Скорей всего, в Пуатье не задержатся и поднимут голос, чтобы заявить какой-нибудь протест, и нам нужно очень весомо и так, чтобы не забывалось, напоминать им об убийстве моего отца, упирая на то, что этот поступок несовместим с королевским достоинством. Пусть помнят… Помнят не только они, но и вся Европа! И пусть даже не пробуют призвать свою Деву! Я стану первым, кто бросит в неё камень.
– Это легко устроить, ваша светлость, – убедительно кивнул Кошон. – Может быть, вам следует уже теперь обратиться к королю с прошением об удовлетворении за убийство герцога Жана. А я берусь устроить, чтобы прошение огласили в королевской судебной палате и повторно осудили дофина уже королевским судом…
– Нет, пока рано, – ответил Филипп. – Но предложение дельное…
Он осмотрел зал, где разряженные в пух и прах дворяне все еще подобострастно толпились возле Монмута и, подавив в себе вполне понятное нежелание признавать ошибки, все-таки выговорил то, что Кошон так страстно желал от него услышать:
– Не скрою, ваше преподобие, вы действительно были очень полезны моему отцу, и были бы полезны так же и мне, не обременяй вас многочисленные должности. Но, если при случае, когда-нибудь…
– Ни слова больше, ваша светлость! – оборвал его Кошон, скрывая радость под смирением и скорбью. – Моя преданность вашему дому останется неизменной. И, если судьбе будет угодно вознести меня еще выше… если, скажем, когда-нибудь, я получу епископский сан… интересы вашего семейства всегда будут для меня приоритетными и обязательными к исполнению.
В ответ Филипп только легко усмехнулся.
– Аминь… Это тоже не трудно устроить.
* * *
Молодой герцог сдержал обещание, убив сразу двух зайцев.
Чтобы не сидеть сложа руки, он укреплял свое влияние, где только мог, и пробивал должности для своих людей там, где желал. А желал он, в частности, крупнейший диоцез на севере Франции, который простирался от Бове до Компьеня, и где место епископа пустовало уже почти год. Таким образом, в августе 21-го числа двадцатого года, на освободившуюся после смерти канцлера Франции должность епископа города Бове был назначен Пьер Кошон.
Городской клир выразил было недовольство, но как-то быстро притих, хотя основания для недовольства были существенные. Человек, фактически без роду и племени, получал назначение, которое давало ему звание пэра Франции от духовного сословия и вменяло в обязанность присутствовать на коронационных торжествах! Подобные привилегии были приличны канцлеру, а не какому-то Кошону! Но назначение тем не менее состоялось, и в декабре новоиспеченный епископ Бовесский, обросший целой свитой, положенной ему по должности, уже сопровождал короля Шарля и короля Генри во время их торжественного въезда в Париж.
Смотрел епископ на всех гордо и непреклонно.
Через три дня ему предстояло выполнить своё обещание и огласить в королевской судебной палате прошение герцога Филиппа о «предоставлении ему удовлетворения за убийство отца». Но для епископа Кошона сделать это было теперь не столько хлопотно, сколько приятно.
Даже от Жана Бургундского – светлой памяти благодетеля – не получал он таких почестей, которые сыпались ныне с благодарных рук дальновидного Филиппа. Всего неделю назад – неслыханная честь! – герцог принял приглашение Кошона на обед и был очень доволен тем, что подавали его любимую рыбу под соусом, сладкое вино с корицей и фрукты, орошенные вином. Там же, на обеде, во всеуслышание Филипп заявил, что намерен прямо за этим столом держать свой герцогский совет, потому что «все, кто нужен, присутствуют». И поручил красному от удовольствия Кошону составить тот документ, который как раз и следовало огласить в судебной палате через три дня.
А еще через месяц герцог Бургундский пообещал возглавить процессию торжественного въезда самого Кошона в Бове, что значительно поднимет престиж нового епископа в глазах местных клириков!
Так что теперь, поднимая благословляющие руки над толпой, сбежавшейся приветствовать сразу двух королей, преподобный Пьер думал, что такого мира и покоя, которые ныне воцарились в его душе, не бывает, наверное, даже у святых. Сбылась вожделенная мечта! И тут же появилась новая, до которой тоже рукой подать, потому что летом, если верить де Ринелю, когда Монмут с молодой супругой отправится в Лондон, чтобы начать подготовку крестового похода на Святую землю, возможно… ох, как возможно он возьмет с собой и Пьера Кошона в качестве советника!
И душа епископа Бовесского ликовала, возносясь выше ангельских голосов певчих из часовни Сен-Шапель.
ПУАТЬЕ
(1420-1421 годы)
После убийства Жана Бургундского первым бессознательным порывом мадам Иоланды было уехать обратно в Анжу и «отвратить свой лик от дома дофинова» и ото всей, сплотившейся вокруг него, коалиции. Но потрясение от рухнувшего плана – такого продуманного, выношенного, подготовленного с ювелирным расчетом – оказалось настолько велико, что буквально «обездвижило» герцогиню на несколько дней. Она только и могла, что молча выслушивать сбивчивые оправдания Шарля, которые сводились в основном к одному: «Он угрожал ВАМ, матушка»; потом высокопарные объяснения де Жиака: «Нанесенное оскорбление метило не в меня, мадам, а в наследника престола. Вы бы видели, как нагло Бургундец повел себя при встрече…»; и, наконец, покаянные извинения Дю Шастеля, которого «даже не взяли на встречу, не то, чтобы поставить в известность о заговоре». И только один раз, видимо, совсем забывшись от боли неожиданного удара, она обернулась к Рене и с горечью спросила:
– Ты куда смотрел?
Но осеклась, увидев в глазах сына сожаление и невысказанный упрек. Кто-кто, а он не имел к произошедшему никакого отношения, потому что приехал ненамного раньше матери.
«Надо было ввести его в парламент, – запоздало подумала мадам Иоланда. – Уж Рене не дал бы этим интриганам разгуляться». А теперь – что ж… Проводить дознания и выяснять – кто что делал, почему и зачем было уже поздно. Дело сделано. И сделано топорно во всех смыслах.
Срочно вернувшийся в Пуатье герцог де Бар предлагал какие-то слабые меры, призванные хоть как-то загладить ситуацию, и даже советовал обратиться к папе, упирая на то, что вопрос о тираноубийстве был не так давно решен им положительно. Но мадам Иоланда безнадежно качала головой. О каком папе могла идти речь, если своей тиарой Мартин Пятый был целиком обязан герцогу Бургундскому?!
– Мы только разозлим его напоминанием о тяжбе по поводу тираноубийства, и заставим принять сторону английского короля в вопросе престолонаследования. Вы сами знаете, дядя, каким благочестивым считают Монмута в Европе, и папа только выиграет поддерживая его против дофина-убийцы.
Целую неделю герцогиня находилась в бездействии, медленно, как после смерти мужа, возвращаясь к активной жизни и прикидывая, что в создавшейся ситуации можно сделать. И хотя очевидно было, что сделать ничего уже нельзя, мадам Иоланда нашла-таки выход – начать всё сначала. Начать, хотя бы исходя из имеющихся реалий и стараясь подготовиться к любому – даже самому плохому – обороту дела. Предупрежден – значит вооружен! А предугадать следующие шаги противников было не так уж и сложно, и надо было лишь определиться, насколько далеко они готовы зайти?
Поэтому, оставив в стороне поиск правых и виноватых, герцогиня первым делом приструнила парламент, послушно присевший перед ней на задние лапки, потом вызвала из Анжу своего третьего сына – шестилетнего Шарля – которого немедленно определила на службу к дофину. «Моя семья приняла когда-то на себя заботу о принце Франции, и теперь, что бы ни случилось, мы ответственны за его жизнь и достоинство, все – от мала до велика! – холодно оповестила она парламент. – В эти тяжелые дни, когда от дофина бегут те, кто лишь притворялся искренне преданным, я призываю под его знамена даже своего малолетнего сына. И всякий, кто не только на словах считает наше дело правым, пусть следует моему примеру!»
Другим её шагом была попытка возобновить переговоры хотя бы с королевой. Но Изабо ответить не пожелала. А в декабре шпионы герцогини доставили ей сведения о том, что английский король встретился в Аррасе с Филиппом Бургундским и, по слухам, уже готовится тройственный договор, в котором примет участие и королева.
– Идиотка! – только и смогла выговорить побледневшая мадам Иоланда, прекрасно понимая, что сборище этой троицы договориться могло лишь о том, чтобы лишить Шарля престола.
Дофин, предоставленный на это время сам себе, затаился в покоях. С одной стороны, он испытывал острое чувство вины перед «матушкой» за свое самоуправство, но с другой – никак не желал забыть то возвышенное чувство собственной значимости, которое никогда и нигде не проявлялось так весомо и полно, как это было там, на мосту в Монтеро!
Недавние советники с появлением мадам Иоланды разбежались кто куда. Де Жиак ходил с таким видом, словно говорил всем и каждому: «Извольте, я готов принять вину за случившееся на себя, но, говоря по правде, при чем тут я, господа? Разве позволено людям моего положения совершать подобные вещи без приказа?». А преданный Ла Тремуй вообще исчез, прислав только письмо, в котором нижайше просил позволения вернуться в своё поместье в Сюлли потому что «драгоценная жена Жанна очень больна».
В первый момент Шарля такое отступничество обескуражило, но, подавив в себе желание броситься на грудь к Дю Шастелю и выплакать ему – как раньше – хотя бы часть своих обид, он решил не обращать ни на что внимания.
«Я будущий король, – думал он, высматривая из окна тонкую борозду реки на горизонте, видимую сквозь широкую просеку, что вела к замку. – Я уже король, потому что имею парламент и армию. И если я казнил пса, посягавшего на мою власть, то поступил тоже как король, который наказывает своего вассала. Поэтому краснеть мне не из-за чего, и, что бы дальше ни случилось, я должен открыто смотреть в лицо любому и не жаждать поддержки тех, кто стоит ниже меня».
Шарль даже попытался при случае высказать всё это мадам Иоланде. Но герцогиня терпеливо выслушала, глядя куда-то в сторону, а потом, сдерживая тон, чтобы не выглядело, как нравоучение, ответила:
– Недостойными средствами достоинство явить нельзя. Тем более защитить. До сих пор на этом политическом турнире вы выступали как рыцарь, честно соблюдающий правила. Но этот последний поединок рыцарской славы не принесет.
– Я не сражался с Бургундцем! – Шарль сделал последнюю попытку «гордо выпрямиться». – Я покарал его, как строптивого вассала!
– У вас еще нет таких прав, мой дорогой.
Мадам Иоланда вслух вообще не упрекала Шарля. Но ему порой казалось, что легче было бы услышать тысячи упреков, чем ловить на себе этот её новый взгляд, в котором нетрудно было рассмотреть откровенную печаль. И, поскольку причина печали была Шарлю абсолютно ясна, он испытывал очень неприятное неудобство при мысли, что герцогиня могла в нем разочароваться. «Она думает, будто я слишком быстро поддался на уговоры случайных советников, – говорил себе Шарль. – Но, разве не она же всегда повторяла, что поступать я должен по собственному разумению?! А мне было гораздо легче убить Бургундца, чем договариваться с ним!»
Однако не прошло и полгода, как известие о подписанном в Труа договоре заставило дофина, отвергнутого королевским домом, схватиться за голову.
В который уже раз подтвержденная самой жизнью правота мадам Иоланды показала ему, что собственное разумение еще недостаточно широко и объемно, чтобы предвидеть все последствия. И что временная легкость души не стоит того, чтобы из-за неё терять корону и целую жизнь.